
Георгий Гратт
Скажи мне, мама, до…
С рожденья мне родиной мать,
А отец — отец мой терновый венец.
Не родиться вновь, с головы не сорвать
Колючих тугих колец.
Но выпадут сроки, приказ умирать
Примчит мне судьбы гонец,
Могилой мне станет родная мать,
Надгробным камнем отец.
1
Следователь кивнул Николаю Ивановичу на стул — присаживайтесь! — и, извинившись, опять уткнулся в свои бумаги. Лицо его — обычное усталое лицо средней руки чиновника — ничего особенного не выражало, и от нечего делать Николай Иванович принялся разглядывать обстановку кабинета. Кабинет, как и внешность хозяина, тоже не представлял ничего любопытного. Потертый письменный стол, в беспорядке заваленный бумагами, одну из которых следователь теперь и читал, делая в ней какие-то пометки, старенький компьютер в полуобморочном состоянии, покосившийся сейф цвета спитого кофе с инвентарным номером на боку, портрет президента на стене, сама эта стена в грязных потеках.… Одним словом, это была обычная государственная контора, ничего, кроме уныния, не вызывавшая. «Впрочем, а что она еще должна вызывать, радость, что ли?» — подумал Николай Иванович и с этой мыслью вполне согласился. Никакой такой радостью здесь, естественно, и не пахло. Он еще раз пробежал взглядом по изнанке следственной службы и несколько дольше задержался на президентской стене, разглядывая подробности, которых прежде не заметил. Так, внизу под портретом была приколота бумажная иконка Богородицы, а справа от нее висело три-четыре плаката, небрежно отпечатанных на принтере. Их незамысловатая графика и такие же подписи вроде: «Говори мало — уходи быстро», «Подумай, кому ты тут нужен» и т. д., коих было не счесть в Интернете, давно уже набили оскомину, и Николай Иванович их пропустил, не разглядывая. Но один плакат вовсе не был современной поделкой на тему строгих производственных отношений минувшей эпохи — он сам был лицом той эпохи, и не только по форме, но и по существу. Сюжет был на удивление прост и доходчив: некто с физиономией напарника Шурика по фильму «Операция Ы» весело болтал в телефонной будке, в то время как другой, в дымчатых интеллигентных очках, внимательно слушал, стоя за тонкой дверцей, и делал при этом вид, что все это ему совершенно безразлично. «Болтун — находка для врага!» — гласила подпись к рисунку.
Николай Иванович конечно же вспомнил этот милый опус — современник его давно минувшей молодости, вот только с названием выходила неувязка. Казалось ему, что не о враге тогда шла речь, а о шпионе. «Болтун — находка для шпиона!» — именно так запечатлелась в его памяти знаменитая фраза. И хоть теперь это было абсолютно неважно, все ж какая-то иголка кольнула Николая Ивановича — слишком уж он привык гордиться своей памятью.
Наконец, следователь закончил чтение и, подняв голову, размеренно произнес:
— Видите ли, какое у меня к вам дело, товарищ Сосновский. Николай Иванович, так, кажется? — вопросительно глянул он на собеседника и, кашлянув, продолжил: — Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о… — он запнулся, подыскивая нужное слово, и, не найдя, явно скомкал окончание: — В общем, расскажите, что вы знаете об Альберте Михайловиче Донгарове?
— Об Алике?! — удивился Николай Иванович. — А могу я узнать причину вашего интереса?
— Как?! Разве я вам еще не сказал? — в свою очередь удивился следователь, но в отличие от Николая Ивановича его удивление выглядело несколько наигранным. — Дело в том, что Донгаров умер.
— Алик умер?! Когда?!
— Ну, точно мы еще и сами не знаем. В начале месяца, числа шестого-седьмого.
Николай Иванович задумался, переживая про себя печальную весть, и следователь не счел нужным его торопить.
— А причина? — в некоторой прострации спросил он минуту спустя. — Какова причина смерти?
— Яд, — коротко ответил следователь.
— То есть, вы хотите сказать, его отравили?
— Возможно, — проговорил следователь, пристально взглянув на Николая Ивановича. — А почему вы так подумали?
— Разве вы стали бы вызывать меня, если бы это было просто самоубийство?
— Разумно, разумно! — кивнул следователь. — Пожалуй, в логике вам не откажешь. Что ж, вы не далеки от истины. Скажем так, его действительно отравили.
Николай Иванович глубоко вздохнул. За последние годы он похоронил уже трех друзей — время неумолимо собирало свою жатву. С грустью осознавал он, что и сам давно уже не молод и жизнь уже не радует так, как прежде.
— Наверное, я мало могу помочь вам, — произнес он. — Последнее время мы почти не виделись, да и раньше тоже нечасто. Когда-то мы были одноклассниками, а потом разлетелись кто куда. Знаете, как это бывает? Я остался в городе, он подался на севера — тогда это было модно. Кстати, — спохватился Николай Иванович, — а как вы меня отыскали?
— В кармане покойного нашли поздравительную открытку с Новым годом.
— Ну да, ну да, — живо кивнул Николай Иванович. — У меня, наверное, тоже где-нибудь завалялась. Мы изредка переписывались, так… на Новый год, на день рожденья… Ничего особенного. Жив-здоров, привет — до свидания.
— А чем он занимался?
— Боюсь, точно и не отвечу. Он не слишком охотно рассказывал о себе, чем он там занимался. Какая-то закрытая контора. Как это раньше называлось — почтовый ящик? То ли антеннами, то ли — гидроакустикой. На море, одним словом.
— Он был моряком?
— Не знаю, не знаю, боюсь соврать. Правда, после школы он поступал в мореходку, но потом куда-то исчез и надолго выпал из поля зрения. В форме я его никогда не видел. Впрочем, с тех пор мы и встречались-то раза три-четыре, не более.
— А у вас сохранились какие-нибудь фотографии?
— Ну, разве что совсем старые, детские… Хотя постойте, в девяносто седьмом году он приезжал на юбилей — сорок лет окончания школы. Кажется, фотографировались тогда, надо поискать.
— Значит, ни о каких проблемах он вам не сообщал? Об угрозах… Ну, вы понимаете, о чем я.
— Нет конечно же, да и что в открытке напишешь?
— А с кем-нибудь он дружил более близко?
— Из наших, из школьных, вряд ли — я бы знал.
Следователь покивал головой, соглашаясь с таким доводом, и, порывшись в бумагах, извлек фотографию.
— Вот взгляните, — протянул он, — сделана после смерти. Вы подтверждаете, что этот человек — Донгаров Альберт Михайлович?
Николай Иванович, боязливо щурясь, взял снимок, извлек из кармана очки. Некоторое время он разглядывал фотографию, стараясь примириться со свершившимся, и, тяжко вздохнув, произнес:
— Да, это Алик. Постарел-то как…
— Все покойники выглядят неважно, тут уж ничего не поделаешь, — согласился следователь.
— А вы, значит, из самой Твери приехали? — поинтересовался Николай Иванович, возвращая фотографию.
— Нет, зачем же? Нам прислали материалы, попросили помочь. Это обычная практика в таких случаях.
— Понятно, — кивнул Николай Иванович. — И еще я хотел спросить вас: вроде бы снимок не в квартире сделан. А вы говорите, его отравили?
— Что ж, по-вашему, человек так вот сразу и умирает после отравления? — хмыкнул следователь. — Тело Донгарова обнаружили в перелеске возле железной дороги. До дома ему оставалось дойти метров пятьсот. Возможно, его отравили в электричке. Возможно — раньше.
— А может, он, наоборот, шел на станцию. Откуда вы знаете?
— При нем нашли билет. Позже его опознал проводник, так что никаких сомнений на этот счет не возникает.
— Да… — выдержав паузу, вздохнул Николай Иванович. — Вот так и теряешь друзей.
Но тут же спохватившись, что фраза получилась какой-то уж слишком дежурной, вздохнул повторно. И в самом деле, кем был ему Алик? Другом? Друг — он вроде жены, считал Николай Иванович. Друг — он всегда под рукой. Случись что — не в Тверь же бежать за советом. Но следователю знать об этом было совсем не обязательно, и потому, печально улыбнувшись, Николай Иванович спросил:
— А вы случаем не знаете, где он похоронен? Может, доведется когда побывать на могилке?
— Это нетрудно выяснить. Пошлите запрос. Лучше, если он будет официальным, — быстрее получите ответ.
— Наверное, его возили в Тверь на экспертизу, — размышлял вслух Николай Иванович. — Ведь была же экспертиза? Вряд ли у них в поселке такое делают. А если возили, то зачем возвращать? Может, так в городе и похоронили — все равно родственников нет.
На это следователь ничего не ответил, а начал демонстративно складывать свои бумаги, давая понять, что разговор окончен.
— Вот здесь подпишите, — протянул он Николаю Ивановичу исписанный листок.
— Протокол допроса, — с удивлением прочитал Николай Иванович заголовок и переспросил: — Так это был допрос?
— Ничего особенного, не волнуйтесь. Всего лишь простая формальность, — ответил следователь.
«Вот так штука! — вздыхал Николай Иванович, спускаясь по лестнице. — Это ж надо — Алика отравили! Словно собаку, словно какого нового русского. И кто бы мог такое подумать?!» Он вышел на улицу и, все еще не в силах поверить в случившееся, позвонил Женьке.
— Ты дома? Я сейчас загляну, приготовь там чего-нибудь.
— А что? Что такое? — раздался в трубке взволнованный голос. — Что-то стряслось?!
— Крепись, мой друг! — пожалуй, с излишним пафосом воскликнул Николай Иванович. — В нашем полку опять прорехи!
— Кто?! — нетерпеливо выкрикнул Женька.
— Алька! Алик Донгаров!
И вместо ответа Николай Иванович услыхал тяжелый вздох на том конце провода.
Коля и Женька — а иначе они друг друга и не называли — сидели на кухне за коньяком и разглядывали старые фотографии. Женькина супруга, проворчав напоследок что-то невразумительное, подалась к себе в комнату, и они, избавившись от ее назойливого любопытства, перебирали в памяти события давно минувших лет. Вспоминалось одно, за него тут же цеплялось другое, третье: «А помнишь?..» И время уплотнялось, словно под прессом выдавливая из пожелтевших снимков забытый аромат эпохи.
Первый класс, напряженные взгляды исподлобья. В школе еще не выветрился запах госпиталя, а из столовой натягивает хлебным духом — там подкармливают совсем обездоленных. И сосет под ложечкой, и хочется скорее домой, хоть как-то унять эту ноющую пустоту. Но и дома сейчас не легче: карточки отоварены вперед, печка дня два не топлена, и в нечаянно навернувшихся слезах матери таится усталость бесплодных ожиданий.
А это уже второй. Коля и Женька сидят рядышком. За год они успели сдружиться, благо их дома на соседних улицах, и теперь совсем как взрослые они ходят друг к другу в гости. Но Алика с ними еще нет, он пришел в класс после пятого. Маленького роста, с торчащими ушами, он сразу стал предметом насмешек, и Коле с Женькой не раз приходилось защищать его от товарищей.
Весна пятьдесят третьего… Забыв про вторчермет, где в горах металлического хлама можно запросто отыскать немецкий шмайсер, а повезет — так и вороненый парабеллум, от которого приятной тяжестью наливается ладонь, они целыми днями околачиваются на вокзале. Там суета, там толпы к кассам. Все рвутся на похороны вождя. Но билетов нет, скорые проносятся мимо, и лишь маневровые паровозы без устали снуют меж веток, обдавая копотью мрачные холмики станционных сугробов.
Пятьдесят шестой… Они уже заканчивают девятый. Женьке первому в классе купили фотоаппарат — новенький ФЭД, и он хвастливо таскает его на шее, а по ночам, запершись в чулане, колдует над снимками. Он и говорить стал иначе, в его жаргоне полно непонятных словечек: проявитель, фиксаж, бленды…
В этом году им впервые стало не до учебы. Осенью, расколов по-деловому размеренный круг мальчишечьего бытия, классы заполонили какие-то неведомые эфемерные создания: отныне мужские и женские школы объединялись. Да нет же, ничего неведомого в них конечно же не было — все те же глупые девчонки, что толкались вместе с ними во дворах, но здесь, в этих строгих стенах, они будто преображались. Захватив недосягаемой взрослостью своих отутюженных фартуков, накрахмаленных воротничков гулкие школьные коридоры, они оставили им жалкое место подле стенок. И лишь украдкой брошенный взгляд, иногда насмешливый, иногда тревожный, выдавал их рано созревшие тайны.
А еще в том году поползли странные слухи. Чаще всего в них слышалось непонятное «культ личности» и звучала фамилия Сталин. Совсем еще пацаны, они жадно вслушивались в перешептывания старших, пытаясь угадать, не опять ли война, не пора ли и им собираться в дорогу?
Школьная дружба — короткая дружба, а тогда им верилось — навсегда. Казалось, лето пятьдесят седьмого навечно скрепило их союз. Колька готовился на литфак, Женька — на биологию, и только Алик, полагаясь на свою золотую медаль, никуда не спешил. Для него и так все двери были открыты. В то время как они пыхтели над учебниками, он пропадал на пляже, дразня их обстоятельными рассказами о температуре воды.
Кому первому пришла тогда в голову мысль съездить в Москву, развлечься? Теперь это уже забылось. До экзаменов оставалась неделя, все уже было выучено-перечитано, и хотелось хоть немного свободы. К тому же в столице был объявлен какой-то невиданный доселе Всемирный фестиваль молодежи.
И опять, как на похороны Сталина, на вокзале было не протолкнуться, касса обслуживала только официальные делегации. Ехали на перекладных. Сначала на пригородных до Александрова, а там уже электричкой. И неслись за окном березы и ели, клонились под ветром метелки иван-чая, и летела навстречу новая неведомая жизнь…
В Химках у Женьки имелась тетка с какой-никакой квартирой. Спали на полу, что, впрочем, было совершенно неважно: до тетки они добирались в лучшем случае под утро. Потому что в то, что им открылось тогда в Москве, было абсолютно невозможно поверить. Они-то и по сравнению с напыщенными москвичами казались себе провинциалами, а уж те гости, что пестрой разноязыкой толпой наводнили столицу, виделись им самыми настоящими марсианами.
— А с кем это мы здесь, Жень, не помнишь? Напротив Большого театра, — отвлекся от воспоминаний Николай Иванович, рассматривая очередную фотографию.
— Взгляни на обороте, там должно быть подписано, — буркнул его товарищ, не поднимая головы.
Женька редко заглядывал в свой архив, а теперь за компанию и сам с любопытством перебирал старые снимки.
— Студенты из Варшавы, — прочитал вслух Николай Иванович. — Поляки. А помнишь, как нас пытались тогда оттереть дружинники?
— Ну да, что-то такое припоминается. Зато я другое очень хорошо запомнил, как мы сами едва не стали дружинниками!
— А чья была идея? — воодушевленно подхватил Николай Иванович.
— Алькина, чья ж еще!
И они опять выпили, не чокаясь, за помин души старого товарища.
В Москве у них не раз проверяли документы, но с документами все было в полном порядке. Да и причина для пребывания в городе была куда как достаточная: приехали поступать в университет. Отвертеться, в общем, труда не составляло — было бы желание. Так что ходи куда хочешь, смотри. Но этого ж было мало! Джаз! Настоящий американский джаз! Запретный, незнаемый — вот что наполняло трепетом их сердца. Да только попасть туда, где священнодействовали негры, не представлялось никакой возможности — плотным кольцом окружали злачные точки кордоны милиции и крепкие рабочие парни с красными повязками. Не раз в жаждущей заморской диковины толпе слышались разговоры о том, что пускают не по билетам — по особым пропускам, а выдают их лишь закаленным комсомольским активистам. И тогда у Алика созрел план, а Женькина тетушка за несколько минут воплотила его в жизнь — сшила им из красного атласа три нарукавных повязки. «Чем черт не шутит, — улыбался Алька, — авось сработает?». Из них троих Алька первым ввязывался во всяческие авантюры. Николай Иванович вспомнил, как на гулянье после выпускного он, не раздумывая, спрыгнул с волжского моста. Просто так спрыгнул, на спор. А высоты там было метров сорок, не меньше.
Вот и тогда, в Москве, возле ДК завода «Серп и молот» Алька, не тушуясь, прямиком подошел к дружинникам: «Здорово, ребята! Кто тут у вас старший? Помощь требуется?» — «А вы откуда?» — недоверчиво покосился на них комсомольский вожак. «С речного вокзала», — выпалил Алька, что в общем-то было недалеко от истины. «Да вроде сами справляемся», — хмыкнул тот. «Ну, тогда распишитесь, что помощь не требуется, — простодушно улыбнулся ему Алик, протягивая бумагу, — а то у нас отчетность». Ни в какой бумаге конечно же старший расписываться не стал — себе дороже, а, недовольно махнув рукой, буркнул: «Ладно, вон там вставайте».
И они стояли, испытывая на себе неприязненные взгляды таких же, как они, разве что менее удачливых или менее догадливых — это как посмотреть. Стояли, а потом, после звонка, вместе с остальными дружинниками просто вошли в зал. Потому что «должен же ты знать, что охраняешь?» — как справедливо заметил Алька.
— И чего тогда так давились? — пробормотал себе под нос Николай Иванович. — Подумаешь, невидаль!
— Ты это о чем? — откликнулся Женька.
— Да про джаз я, про что ж еще?
— А… — протянул Женька. — Ну, положим, тогда-то мы так не думали. Помнишь: «Жил в Америке стиляга, в узких брюках он ходил. Спал в пещере, как собака, водку пил, табак курил…» — напел он.
— А о чем мы вообще тогда думали?
— Серьезно? Не помню. О девушках, наверное, о музыке… — Женька хохотнул. — В семнадцать лет все думают одинаково, так ведь?
На это Николай Иванович ничего не ответил. Девушки, вообще, была его больная тема. Своей девушки у него долгое время не было, а потом была жена. А потом и жены не стало. «И теперь уже, похоже, не будет», — пробормотал он про себя. Нельзя сказать, чтобы это как-то уж очень его задевало, но все же…
— Смотри-ка! А помнишь этого типа? — перебил его грустные размышления Женька и протянул очередную фотографию. — Видишь, вон там, сзади, отвернулся от фотоаппарата?
Человек, на которого указал Женька, стоял вполоборота, будто действительно не хотел попадать в кадр. Но Николай Иванович вспомнил его сразу же. День на третий или четвертый, когда они гуляли по парку Горького, к ним подошел незнакомец. Был он в форме военного моряка, только почему-то не в белой парадной, а в черной. Они еще издали обратили на него внимание, и Алик, который плохо разбирался в тонкостях воинских званий, обозвал его «черный полковник». На поверку тот оказался никаким не полковником, а капитаном первого ранга. Вот только фамилию, которую он им назвал, Николай Иванович давным-давно позабыл. То ли — Пономарев, то ли — Панкратов, незапоминающаяся была у него фамилия.
— Слушай, а ведь это именно он расколол компанию! — внезапно, словно только что вспомнив, воскликнул Женька. — Он соблазнил Алика этими пальмами-морями!
Собственно, возражать было бессмысленно. Действительно, этот капитан прогулял тогда с ними весь вечер, что-то рассказывал о войне, о море, угощал пивом. И на следующий день они, уговорившись, встретились опять. Ездили на Ленинские горы, фотографировались с девушками. Алик загорелся, и капитан написал ему что-то вроде рекомендации в Мурманск. Хотя, с другой стороны, Алик сам выбрал свой путь.
— Да, веселые были денечки! — вздохнул Женька. — Теперь уж таких не бывает. И Альку жаль, пусто без него стало. Он хоть и вдали жил, а все же… Открытку иногда черкнет…
И они, не сговариваясь, подняли очередной немой тост.
Через неделю они вернулись, а Алик прямо из Москвы укатил в свой Мурманск, даже домой заезжать не стал. Они еще успели проводить его на вокзале, пытались отговорить: «Ну чего ты, в самом деле, дуришь? С золотой-то медалью — и в моряки? Подумай!». А он смеялся: «Зато хоть на мир погляжу». — «Ладно, не забывай! Шли письма из Парижа». — «Париж не порт, там корабли не швартуются», — отшучивался он. «Ну и черт с ним. Тогда — из Рио-де-Жанейро, из Гаваны…».
Трудно было так вот терять школьного друга.
За окном умирал теплый апрельский вечер, а Коля и Женька все сидели и вспоминали свою далекую-предалекую молодость.
Домой Николай Иванович вернулся глубоко за полночь. Разулся и, боясь разбудить мать, крадучись прошел на кухню. Достал из холодильника початую бутылку водки, плеснул полстакана.
Одно дело поминать вместе с Женькой и совсем другое — в одиночестве, вот так вот, наедине с собой. Так и боль чувствовалась острей, и горше потеря. И образы детства вставали точно живые, незамутненные переживаниями другого. Но долго пребывать в таком состоянии ему не удалось. Мать, оказывается, еще не ложилась, и спустя несколько минут она неожиданно появилась на кухне.
— Что-то стряслось? Позвонил хотя бы, — обиженно пробормотала она. — Сиди тут, жди… Как на иголках прямо.
— Алик умер, — произнес он устало. — Помнишь? Алька Донгаров.
— Это такой черненький-то? В третьем классе к вам пришел?
— В шестом, — поправил он.
Николай Иванович не стал расписывать ей подробностей. Мать давно уже разменяла восьмой десяток, мало ли чего…
— Алик… Алик Донгаров… — в задумчивости бормотала она. — Ну конечно же помню! Он и к нам домой не раз приходил в шахматы играть, всегда такой веселый. Он ведь так и не женился, правда? А в десятом классе девушка у него была, как ее?.. Катя? Ну да, Симонова Катя, худенькая такая. Ты вроде тоже за ней ухаживал?
Порой ему казалось, она знала его друзей лучше, чем он сам. Будто бы у нее и дел других не было, как отслеживать перипетии их судеб. Хотя, что еще делать одинокой женщине, фактически запертой в четырех стенах?
— Ну, это так, детская дружба. Это все не серьезно, — отмахнулся он.
— Налей уж и мне капельку, — попросила она, — а то чего ж один пьешь? Сопьешься.
— Теперь уж не сопьюсь, мам, не те годы.
Выпив, она поморщилась и закурила.
Сколько помнил Николай Иванович, мать неизменно курила «Беломор». Теперь уже редко, совсем редко, но прежде… Будто смерч, врывалась она в квартиру, разбрасывая по углам сумочку, плащ, кофту. Казалось, сам воздух потрескивал электричеством, заполняя вакуум вокруг ее траектории. Она не открывала пачку — ломала ее пополам, хватала папиросу, не глядя, роняя остальные на стол, на пол, и затягивалась, словно вырвавшийся на поверхность ныряльщик.
— И когда похороны? — спросила она, щурясь от дыма.
Теперь-то уж она курила не так жадно, все чаще заправляя мундштук ватой, и в самих движениях появились размеренность и домовитость. «Должно быть, она примирилась с миром», — глядя на нее, думал Николай Иванович.
— Его уж похоронили, мама. В начале месяца это произошло, а до нас только что слухи докатились.
— Эх, ребятки, ребятки… — тяжко вздохнула она. — Как же вы это так, а? Никого по себе не оставить…
«Ну вот, началось!» — поморщился Николай Иванович. Дети — был ее любимый конек. Прежде она ворчала: «Вот, у всех уже внуки, и только мне понянчиться не с кем. Кому я все это оставлю?» С годами внуки сменились на правнуков, но тон не менялся. Николая Ивановича всегда поражало это ее умение перевести разговор в нужное ей русло.
— Господи, мам, ну при чем тут это?! Человек умер, а ты о детях!
— Погоди, вот останешься один — попомнишь еще мои слова. Да только поздно будет!
— Мне уж и сейчас поздно.
— Ничего не поздно! Не болтай ерунды. Привык за моей спиной отсиживаться, эгоист несчастный!
Мать понесло, и сопротивляться этому было бесполезно.
Вообще-то они неплохо уживались вдвоем, но иногда страсти в их маленькой семье накалялись. Особенно это касалось вопросов политики. А началось все давно, очень давно, так, что ни он, ни она уже и не помнили начала, но раз подожженная искра тлела, готовая в любой миг вспыхнуть с новой необычайной силой.
Как-то раз, вернувшись из школы, он спросил ее об отце. Было ему тогда лет десять. Он смутно помнил, что с отцом был связан какой-то давнишний запрет, — раньше ему не разрешалось говорить о нем. Но в школе обойти этот вопрос было невозможно: мальчишечья честность не допускала ответа «не знаю». Тогда-то он впервые и услыхал от нее, что отец был арестован. Его осудили в тот самый год, когда он, его сын, должен был появиться на свет. И, защищая его, Коленьку, мать не только сменила их фамилию на свою девичью, но и ни разу не пыталась узнать судьбу своего бывшего мужа.
Ну и как прикажете объяснять все это ребятам? Вот тогда-то и пробежала в их отношениях первая, пока еще неглубокая трещинка. Он не умел еще в те годы принимать действительность как данное и во всех своих неурядицах винил мать. Ему и в голову не могло прийти, что она просто боялась. В самом деле, у всех семьи как семьи — папа, мама, бабушки, дедушки. У кого-то отец погиб на войне или пропал без вести, и лишь у него отец — «враг народа». Обычно таких чурались. Если бы его спросили, откуда он мог это знать, — он бы не ответил. Но этого знать и не требовалось — это носилось в воздухе.
К тому же достаточно было уже и того, что как-то раз в первом классе, провожая его в школу, мать ласково назвала его Кольчик-колокольчик. И с тех пор этот «колокольчик» прилепился к нему на долгие годы.
Так он тогда и жил: стыдясь отца, стыдясь того, что стыдится, стыдясь самого своего стыда. Мать, казалось, не замечала его состояния, списывая все на возраст.
— Нет бы о том подумать, что ты после себя оставишь? — распалялась она тем временем. — Кто тебя лет через десять вспомнит? Твои студентки?
— Скажи, мам, а это обязательно? — вставил он, улучив момент.
— Что? — встрепенулась она, заслышав его возражение. — Что — обязательно? Что?!
Впрочем, мог бы и не стараться — слова, брошенные на ветер. Кто, например, помнил его отца? Сам он его даже не видел, даже фотографии его не осталось. Мать? Вряд ли она помнила, если всю свою жизнь посвятила тому, чтобы делать вид, будто его и вовсе не существовало.
Позже, уже в более сознательном возрасте, он пытался вернуться к тому старому разговору, но ничего нового она сказать не могла или не хотела.
— Как же это так, чтоб не помнить? Обязательно надо! Собаку человек и ту помнит. У нас вот в доме лайка жила, Эльза…
Ну, выяснил он, что отец был ответственный работник, что за год до свадьбы ездил он с делегацией то ли в Берлин, то ли в Вену — вот, пожалуй, и все. И ни слова больше. Любила ли она его, ждала?.. О чем думала бессонными ночами после ареста, и были ли эти ночи бессонными? Все это осталось за кадром.
Он поступил на литфак, страна помаленьку оттаивала, и жизнь текла так, словно и в самом деле никакого отца у него не было.
Странное это было время. Люди чему-то радовались, смеялись. Радовался и он вместе со всеми. Радовался тому, что полетел Гагарин, что повсюду развернулись новостройки и им с матерью дали новую двухкомнатную квартиру, что в продаже появилось то, о чем раньше невозможно было и подумать: холодильники, радиоприемники, телевизоры… Наконец, эта радость имела для него и свой профессиональный оттенок — стали издаваться прежде нежелательные авторы: Бек, Гроссман, Булгаков… И все же его не покидало ощущение какой-то расчетливой поспешности этого необъявленного праздника, всеобщей бутафории веселья. Как будто «с похорон на брачный стол пошел пирог поминный».
Мать неожиданно замолчала, поставила на плиту чайник, но тут же сняла, закашлялась и повернула к сыну свое усталое лицо.
— Ну, чего молчишь-то? Шел бы лучше спать, тебе завтра на лекции.
— Мне не с утра, мам. Я еще посижу тут.
— Ну, как знаешь, — и, махнув рукой, она зашаркала в свою комнату.
Водку он больше пить не стал, а вместо этого сварил себе кофе. Мать отвлекла его от размышлений, и некоторое время он бесцельно смотрел в окно. Там, за окном, давно уже шел двадцать первый век, а он все никак не мог проститься с веком двадцатым.
2
Предпраздничная неделя промелькнула в хлопотах. Дня через три Николай Иванович и думать забыл о вызове к следователю, о смерти Алика и с головой ушел в свою повседневную работу.
Работу — будь она неладна — он недолюбливал. Приобщать к литературе молодое поколение, которое ее, эту литературу, вовсе не жаждет знать, что может быть глупее? Все равно что чукчу, привыкшего к соленой рыбе, потчевать ананасом. И невольно приходили на память сравнения из своей школьной юности, когда хорошую книгу было днем с огнем не достать и за каким-нибудь «Айвенго», случайно попавшим в чьи-то руки, выстраивалась очередь на полгода. Но время изменилось, и изменился человек. И констатация этого факта была признаком наступающей старости, которую Николай Иванович старательно от себя гнал.
На праздники он собрался на дачу, покопать, посадить кой-какую мелочь. И всего-то час в электричке, но за этот час он многое успевал обдумать. Совсем недавно Николай Иванович перечитывал воспоминания современников о Гоголе, и вот в прошлые выходные он неожиданно задумался над тем, как наше нынешнее время похоже на ту далекую гоголевскую эпоху. Все те же острые споры о путях развития России, все те же обвинения из враждующих лагерей в русофильстве и западничестве. Только вот ныне эти споры из литературных салонов перекинулись прямо на страницы газет, в шумливую риторику партий, да и язык стал куда как далек от литературного, а в целом — все то же. А ведь еще недавно никто и не помышлял об этом. Выходит, идея спала, как брошенное под снег зерно, дожидаясь урочного часа.
Эта мысль поразила его своей очевидностью, и теперь, трясясь в электричке, он записывал начерно ее основные тезисы. Со временем такие записи могли превратиться в лекции, а иногда так и оставались невостребованными до лучших времен. Вообще-то Сосновского знали на кафедре как сильного преподавателя, хотя и не без чудачеств. Как анекдот ходил на факультете рассказ об одной студентке, влюбленной в русскую словесность. «Разве можно читать все это? — возмущалась она современной западной литературой. — Это же упадничество!» — «Разумеется! — вздыхал, соглашаясь, Николай Иванович (а не соглашаться с этим в те годы было нельзя), — но вы же любуетесь падающими звездами, правда? Вся «вина» европейцев лишь в том, что они уже зачитывались куртуазным романом в то время, как старец Нестор еще только обдумывал «Повесть временных лет»».
Николай Иванович отвлекся, взглянул в окно на первую молочную зелень лесов. «Как несопоставимы порой исторические времена народов, — размышлял он, — и как трудно бывает человеку это принять. Иногда сам акт такого признания требует от нации гораздо большего мужества, чем все ее войны вместе взятые». Пожалуй, один лишь царь Петр отвечал его идеалу. Вот кто не боялся признавать свое невежество и всегда был горазд поучиться у предприимчивых немцев. Так во всяком случае полагал Николай Иванович. Но разве же напасешься на всю огромную Россию таких Петров?
С этими невеселыми мыслями он и сошел на своей станции в разношерстной толпе таких же, как он, дачников.
Тропа поначалу тянула в горку и, по горбатому мостику переходя на другую сторону разбуженного весной ручья, разбивалась по садовым участкам. Оттуда уже навевало дымком, приемники несли какую-то праздничную чушь, а по ивняку вдоль ручья, не обращая на эту суету никакого внимания, по-серьезному настраивались соловьи.
Николай Иванович любил эти первые дни за городом. Были они не тревожны, как в детстве. Сколько ни вглядывайся в прозрачную синь небес — все равно не высмотришь ни пятнышка. Даже гроза в эту пору не бывает основательной — погремит, погрохочет не пойми откуда, сыпанет коротким дождичком — и растает, словно и вовсе не было. И все еще впереди, все возможно…
В бодром состоянии духа Николай Иванович уже свернул на свою дорожку, когда его внимание неожиданно привлек посторонний, возившийся на его участке. Николай Иванович недоуменно оглянулся по сторонам в поисках ответа, но все вокруг дышало миром и спокойствием. «Бывает же такое! — усмехнулся он про себя. — Должно быть, товарищ перепраздновал». А тот меж тем продолжал деловито вскапывать чужой огород. Николай Иванович подготовил необходимый запас выражений и решительно толкнул калитку, и лишь тогда незнакомец обернулся. Но тут Николаю Ивановичу пришлось совсем удивиться, потому что прямо перед ним, улыбаясь, стоял Алик Донгаров.
— Привет, старик! — весело бросил он, будто и вовсе не умирал. — Что ж ты так хозяйство-то свое запустил?
— А ты… ты это чего здесь? Ты откуда? — совершенно растерялся Николай Иванович.
— То есть, как это — откуда? Оттуда! — махнул тот неопределенно рукой и возмутился. — Да ты и не рад, что ли? Иди-ка сюда, я тебя облобызаю!
И он, отряхнув от земли руки, по-медвежьи стиснул Николая Ивановича, тычась в лицо щетиной.
— Да постой ты, постой! — пытался вырваться тот. — Тебя же это… Ты же вроде того…
— Умер? — смеясь, подхватил Алик. — Да не верь ты всякой фигне! Смерти нет! Есть только вечная молодость! Ленин и теперь живее всех живых! — продекламировал он. — Мало ли чего набрешут!
— Но я фотографию видел!
— Это у следователя-то?
— Откуда ты знаешь про следователя? — насторожился Николай Иванович.
— А где ты еще мог ее видеть? — резонно заметил Алик, и с ним было трудно не согласиться. Но этим он не ограничился, а, загадочно подмигнув, хмыкнул: — Я про все знаю! И про то, как вы меня с Женькой отпевали, тоже.
— А-а, так ты уже был у него? — догадался наконец Николай Иванович.
— У кого? У Женьки-то? — переспросил тот и засмеялся. — Был, конечно, но не разговаривал. Инкогнито, так сказать. — Его тон начинал раздражать Николая Ивановича, он нахмурился. А Алик, словно чтобы поддразнить его, нарочно продолжал громоздить свои нелепости. — Я и у тебя был, между прочим, матушку твою видел. Постарела она совсем. Сколько ей уже?
— Восемьдесят три, — машинально проронил Николай Иванович. — А почему она мне ничего не сказала?
— Так она-то меня не видала, — опять хмыкнул Алик.
— Слушай, объяснись, наконец! — вспыхнул, не выдержав, Николай Иванович. — Что все это значит?
— Ну вот, сразу и объяснись! — притворно обиделся Алик. — Пойдем тогда в дом, что ли. Чего ж мы тут глаза всем мозолим Ты водочку-то початую прихватил? — хохотнул он. — Ладно, не сердись, у меня есть.
В доме, как с первого же взгляда убедился Николай Иванович, Алик уже надежно освоился. И опять этот факт неприятно задел хозяина.
— И давно ты тут? — сухо проворчал он, но, сразу спохватившись, добавил: — Слушай, а откуда ты вообще про дачу знаешь? Ты ж тут ни разу не был!
— Ну вот, опять вопросы, — печально улыбнулся Алик. — Нет бы выпить сперва.
Он достал из сумки бутылку, разлил по стаканам.
— За встречу? — спросил Николай Иванович.
— Сначала за воскресение, а то проводили меня с Женькой на тот свет, понимаешь, и глазом не моргнули даже — друзья называется! Прямо не по себе как-то! За встречу потом пить будем.
И, звякнув стеклом, они стиснули стаканы.
— Ну, давай, рассказывай, черт, как воскрес-то? — оживился Николай Иванович. — Свалился, как кирпич на голову!
— Тебе откуда рассказывать, с самого начала? С того, как в Москве расстались в пятьдесят седьмом?
— Обойдется, — махнул рукой Николай Иванович. — Ты главное давай.
— Как знаешь, — пожал плечами Алик. — Только вряд ли поймешь чего.
Он ухватил головку лука, макнул в соль, смачно хрустнул и, рассеянно отвернувшись в сторону, процедил:
— Ты уж прости, Коль, но не умирал я вовсе. Так получилось. В общем, не я был на той фотографии.
Николай Иванович чуть не подпрыгнул от этого нового известия.
— Что значит — не ты?! А кто же? Брат твой, что ли? Да у тебя и братьев-то никогда не было!
— Он больше, чем брат, он — двойник, — как-то тяжело вздохнул Алик.
— Какой такой к черту двойник?! Ты чего? Ты президент, что ли?
— Я ж говорил, не поймешь, — опять вздохнул Алик. — Сначала надо было рассказывать.
— И потом, откуда у него моя открытка в кармане? — не слушал его Николай Иванович. — Я разве с ним переписывался?
— Я сам ее туда положил, — мрачно признался Алик.
— Зачем?! — изумился Николай Иванович и вдруг обмер от страшной догадки: — Так это ты его и убил, что ли?
— Дурак ты, Колька, ей-богу! Хотя я сам виноват, конечно, не надо было тебя слушать. Его просто перехватили, понимаешь? Он меня предупредить шел.
— Ладно, — согласился Николай Иванович, — твоя взяла! Давай по порядку. Только плесни сперва — в горле пересохло.
Они неожиданно и неловко замолчали, каждый по-своему переживая ситуацию. Один — оттого, что надлежало ему рассказать, другой — оттого, что предстояло услышать. В любой дружбе, сколь бы давней она ни была, наступает минута такого молчания.
— Помнишь того типа, морячка, что увязался тогда за нами в Москве? — начал свой рассказ Алик.
Николай Иванович оценил корректность друга, но сам, тем не менее, не сдержался:
— Ты же, говоришь, слышал наш с Женькой разговор, мог бы и не спрашивать, — с затаенной обидой произнес он.
— Ну да, ну да, извини, — согласился Алик. — Конечно. Так вот, через год он в Мурманске объявился. Кэп наш меня выкликнул, говорит: дуй в ленинку на собрание. А там уже человек пятнадцать собралось, и этот во главе сидит.
— Черный полковник?
— Во-во! — кивнул Алик и усмехнулся. — Полковник.
— А как, кстати, его фамилия?
— Пантелеев его фамилия. Только думается мне — она не настоящая.
— Почему? — удивился Николай Иванович.
— После поймешь, ты слушай. Ну и говорит: так, мол, и так, собрал я вас, товарищи курсанты, чтобы предложить интересную работу. Какую — рассказывать не стал, а все ходил вокруг да около. Тут, мол, вам и разведка, и рукопашный бой, и заграница, и пальмы, и все такое прочее.
— А почему он именно вас выбрал?
Алик на минуту задумался, собрав к переносью морщины.
— Ты знаешь, я и сам в этом дерьме не раз копался. Позже, конечно, — сначала-то не до того было. Как ты считаешь, какой у меня тип лица? — неожиданно спросил он.
— Ну… восточный, наверное, — замялся Николай Иванович, — если по разрезу глаз судить.
— Так вот, мы там все такие подобрались. С Кавказа, из Средней Азии. Он нас по внешности выбирал, понимаешь?
— Понятно. Только непонятно — зачем? А тебя-то он узнал, кстати?
— Разумеется, узнал. Память у него феноменальная. Короче — я согласился. Да чего там — все согласились. Сам помнишь, какой тогда настрой был, — впереди паровоза бежали.
Николай Иванович согласно кивнул — время действительно было веселое.
— В общем, дали нам доучиться курс, сходили мы в каботажное плаванье на практику, а осенью уже совсем в другом месте оказались. Там-то и началось! Учили всему: подводным работам, взрывотехнике, прослушке. Ориентированию учили, выживанию. Учили языкам: фарси, суахили, свази… Вождению любой техники, прыжкам с парашютом, подделке документов, вскрытию сейфов, криптографии… Легче сказать, чему не учили.
— Боевым искусствам… — подхватил Николай Иванович.
— Не совсем так. Без того театра, что в кино показывают. Учили убивать просто и эффективно, с оружием и без — голыми руками.
— И приходилось?
— Не спрашивай лучше, и так тошно, — отмахнулся Алик.
— Слушай, ну ладно все прочее — а языки-то вам зачем? Тем более, такие экзотические?
— А ты забыл, что в те годы творилось? Особенно в Африке, да и в Азии тоже? Народно-освободительные войны повсюду, революции — полмира огнем полыхало! А ты подумал, нас для своих готовили? Своих-то к тем годам приручили давно — еще маршал-отец постарался.
— Ну, и?..
— Ну и вот, два года нас с землей ровняли — головы не приподнять, а после работа началась. Погрузили в подлодку — и месяц без всплытия. Только ночью пару раз давали воздухом подышать: звезды… океан светится… А после выгрузили на десантные лодки — и к берегу. И вот они, твои пальмы!
— А что хоть за страна-то была?
— История о сем умалчивает, — как-то грустно улыбнулся Алик и покосился на друга. — Ладно, старик, без обид! Я ведь подписку давал, между прочим. Да нам и самим тогда ничего не объяснили. Мы уж после узнали из газет, так… сопоставили кое-какие данные.
— И что же, вот так вот, в форме?
— В какой форме, ты что! Нас ихние тряпки приучали носить. Увидел бы — нипочем не узнал! Какой-нибудь бедуин или марокканец: в поясе монеты зашиты, на роже медики дрянь какую-то привили вроде экземы — и вперед! К победе социализма в общем. Никаких тебе документов, имен — одни клички.
— Но ведь писали о советниках, об инструкторах…
— Это то, что на поверхности, что и так все знали. А то был фронт — невидимый, на нем все и держалось. Ну, и не без местных, разумеется. Их кого деньгами прикупали, кого еще чем. Кого и покупать было не надо, вроде того же Че Гевары или Патриса Лумумбы.
— И что же, одной подлодки было достаточно? Много ли на ней увезешь?
— А кто тебе сказал, что была только одна?
— А сколько же?
— Ты это меня спрашиваешь? — сощурился Алик. — Меня в эти вопросы не посвящали.
— Да, дела… — вздохнул Николай Иванович. — Вот бы никогда про тебя не подумал. Сам-то ты всегда чепуху какую-то рассказывал.
— А чего ты хотел? Братских приветов из воссоединенной Катанги? Или еще откуда-нибудь в этом же роде? Я ж, Коль, под присягой жил, сам понимаешь.
— Одного не пойму — двойник-то тебе зачем?
— А сам догадаться не хочешь?
— Ну… — Николай Иванович задумался, сморщил лоб и, отчаявшись, отрицательно помотал головой. — Нет, не знаю. Ладно, колись, чего там…
— Эх, ты! Сразу видать, неправильное у тебя мышление, не советское, — усмехнулся Алик. — А в нашем деле главное что было? Главное — в плен не попасться! Пытки и все такое… Мало ли чего ты там запоешь. Или того хуже — сам на Запад подашься. Сразу же мировой скандал раздуют. А тут им фигу из Москвы показывают: Альберт Михайлович Донгаров? Да вот он! Жив-здоров и не уезжал никуда. Работает слесарем в тресте «Вперед, к победе коммунизма». А ваш Донгаров — это ложь и провокация, происки американских спецслужб! — Алик перевел дух, задумался. — Мы ж всю подноготную друг дружки насквозь знали, род аж до десятого колена вызубрили. Имитация голоса, походка — мама родная не отличит! Стажироваться ездили специально.
— То есть, как это — стажироваться?
— А так. Он — сюда, а я в это время в каком-нибудь Хэппиленде пропадал. А потом наоборот — вместо него в Кустанай.
— Ты хочешь сказать, что я мог запросто с ним водку пить и ни о чем таком не подозревать?
Алик невольно развел руками — мол, почему бы и нет — и поспешно добавил:
— Да не переживай ты так! Раз всего и было. На пятилетие окончания школы.
— Дела!.. — покачал головой Николай Иванович.
— А ты говоришь — брат. Да он мне ближе брата родного. Давай-ка помянем
его, кстати.
Страшная мысль пришла в голову Николаю Ивановичу. На мгновение его бросило в неприятный озноб.
— А сейчас-то ты тот, за кого себя выдаешь? — с трудом выговорил он.
Это замечание разозлило Алика, сдержался он с заметным трудом.
— Понимаю, — процедил он, — это удар под дых. Что ж, заслужил, заслужил! Доказательств у меня действительно нет, да и какие тут могут быть доказательства? Так что если хочешь, принимай на веру.
— Ладно, старик, извини. Я же так, к слову, — пробормотал Николай Иванович. — Ты ж понимаешь.
— А вот извинений не требуется! Все по правилам. Поверил — и ладно, и на том спасибо! Я бы на твоем месте тоже, наверное, задумался. Так что давай, помянем старого бойца, — поднял он свой стакан.
— Звали-то его хоть как?
— Рустамом, — произнес Алик и, сглотнув слюну, прошептал в сторону: — Что ж, покойся с миром, товарищ.
Друзья помолчали.
Сквозь тонкие стены снаружи врывалась какая-то совершенно ненужная музыка, по громкоговорителю объявляли о подаче воды на участки, очередная электричка простучала по мосту торопливую дробь… Мир жил своей полной напускной серьезности жизнью. Он старательно не замечал той дани, что забирала себе рачительная хозяйка смерть. Пришел человек, ушел человек — велика ль потеря!
— А что теперь будет с его родней? — выговорил наконец Николай Иванович. — Ты же фактически обманул их. Зачем? Разве нельзя было сказать всю правду?
— Нет! — мотнул головой Алик. — Правда может убить слишком многих. Ты просто не понимаешь всей опасности. В конце марта я получил от Рустама сообщение. Он предупреждал об угрозе, сообщал, что едет ко мне. И не доехал, как видишь. То, что я обнаружил его почти возле собственного дома, — чистая случайность: я ходил встречать его на станцию. То, что обнаружил его первым, — несравненная удача. Все могло обернуться гораздо хуже.
— А что за опасность? Он сказал тебе об этом?
— Нет. Он прислал поздравление с Новрузом, а в конце приписал, что у них уже открыли охоту на перелетную дичь.
— И где ж тут предупреждение? Это насчет охоты, что ли?
— В общем, да, но главное даже не в этом. Открытка была написана на фарси — вот в чем суть.
— Это какой-то условный знак?
— Да не было никаких условных знаков — с чего бы? Просто человек хотел сказать то, о чем побоялся говорить прямо.
— Значит, за ним следили?
— Вряд ли. Скорей всего, он боялся, что следили за мной. Я почти уверен, что произошла ошибка. Обычно по понедельникам я ездил в город, но в тот день остался дома — ждал его. И вот результат. Кто-то вел его от самой станции.
— Но следователь говорил об отравлении…
— Так и есть, — кивнул Алик, — только это не совсем обычное отравление, не то, что ты имеешь в виду. Убийца выстрелил в него сзади отравленной иглой — я видел след на шее. Странный способ для России, не правда ли?
— А яд был кураре? — невольно усмехнулся Николай Иванович.
— Насчет яда не знаю, но предназначался он явно мне. Поэтому пришлось сделать вид, что убийца достиг своей цели.
— Но откуда он мог знать о том, что тебе что-то грозит? Кустанай — это ж даль несусветная!
— Видишь ли, все члены группы так или иначе общались друг с другом — кто-то чаще, кто-то реже. А слухами, как известно, земля полнится. С той поры как погиб Рустам, я успел сделать несколько звонков. Данные подтвердились, все действительно очень плохо. Рустам был прав: объявлена охота. Самое скверное в том, что никто не знает, кто ее объявил.
— Кто-то еще погиб?
— Да.
— А способ?
— И способ, скорее всего, тот же — яд, — вздохнул Алик.
— У тебя уже есть соображения по этому поводу?
Он отрицательно помотал головой.
— Были бы соображения, я б здесь не прятался, — честно признался Алик. Он как-то виновато взглянул на друга и добавил: — Надеюсь, ты не против?
— Да ты чего, старик! — поспешил с ответом Николай Иванович. — Живи, конечно, сколько потребуется. Может, тебе помочь чем?
— Ну уж нет! Хватит и того, что я втянул тебя в эту дрянь! Я надеюсь, все останется между нами?
Алька мог бы и не предупреждать об этом. У Николая Ивановича и в мыслях не было посвящать кого бы то ни было в тайны друга. Он жалел лишь о том, что нельзя порадоваться вместе с Женькой, собраться всем как прежде, посидеть, вспомнить детство, школу. Он часто возвращался душой в те годы: было в них какое-то забытое ныне веселье. Теперь, с высоты прожитых лет, он глубже понимал причину.
Юность его пришлась на ту благодатную пору, когда о большом терроре никто уже больше не вспоминал — новые послевоенные переживания стерли былое, восставшая из пепла страна спешила захлопнуть свои мрачные страницы. И хотя большой обман еще не был раскрыт, все жили так, словно его и вовсе не было: старики по привычке держали язык за зубами, а им, молодым, и дела не было до их стариковских тайн. Только мать нет-нет да и одергивала его, торопливо косясь по сторонам, и с каким-то боязливым, совершенно несвойственным ей шипением внушала: «Не смей говорить так, слышишь? Не смей!» И непонятно было, что так пугает ее в поздних шагах на лестнице, заставляет вздрагивать от хлопнувшей внизу двери.
Страхам не было места в их мальчишечьем мире, страхи выдумывали взрослые, чтобы скрасить однообразие собственной жизни. Где-то там, далеко, пылали войны: сражалась Африка, сражалась Корея, а после еще и Куба, и Вьетнам, но здесь, на родине, бои давно отгремели. И скоро уже — ждать недолго — они отгремят во всем мире, и заживут все люди счастливо, как и мы. Какие надежды бились тогда в миллионах сердец! А помогаем ли мы нашим братьям ускорить неторопливый бег истории? И каким утешением было слышать в ответ: помогаем, конечно же помогаем! Только вот говорить об этом вслух не следовало — враг не дремлет! Враг хитер и коварен, он ловит каждое твое слово. И потому наша радость должна быть тихой.
Разве могли они с Женькой представить тогда, что не пройдет и нескольких лет — и лучший их друг Алька Донгаров станет одним из тех безвестных героев, о ком никогда не напишут газеты, но о ком, исходя из простой человеческой логики, они должны бы были трубить на каждом углу? Потому что в те давние годы друзья и понятия не имели о том, в каком странном мире живут, и что самое логика этого мира — оправдывать явно то, что вершится тайно, — есть логика людоеда, прикинувшегося на время вегетарианцем.
— О чем задумался, Колька? — прервал его размышления Алик.
Николай Иванович с трудом вернулся к действительности. «Да расскажи ты об этом хотя бы лет двадцать назад — отбоя бы не было от слушателей! А теперь… Кому теперь все это нужно?» — с каким-то привкусом горечи подумал он. И все же история сделала некий кульбит, вернувшись к делам давно минувших дней, и над его другом нависла непонятная, но вполне ощутимая угроза.
— Я вот что подумал, Алька, — произнес Николай Иванович, — а нельзя как-нибудь вычислить этого охотника? Раз он знает ваши адреса, да и в лицо, наверное, знает каждого, то это кто-то из своих, верно? Как там делается во всех этих шпионских штучках — методом вычитания, кажется?
Алик взглянул на него насупясь, исподлобья.
— Плохо ты знаешь наших бойцов, — обиженно проговорил он и, помедлив, неохотно добавил: — Впрочем, ребята уже думают над этим. — Он тяжко вздохнул и улыбнулся, оттаяв. — Тут ведь дело такое… тонкое, сам понимаешь. Помнишь, как у Гайдара: главное, чтоб часовой смотрел в нужную сторону.
Николай Иванович рассеянно улыбнулся в ответ. Он вдруг впервые задумался над тем, что никогда не знал политических пристрастий своего товарища. Конечно, ничего страшного в том не было — подумаешь, велика важность! Но в последнее время жизнь как-то круто поменяла свои ориентиры. То, что вчера еще казалось пустяками, выступило на первый план, затмив в человеке все его иные качества. Мир поделился каким-то особым образом на белых, красных, зеленых… словно на горизонте опять замаячил семнадцатый год.
— Кстати, — будто только что спохватившись, произнес Николай Иванович, — а как относились ко всему этому американцы?
— Джимми? — Алик в недоумении поднял брови. — Да они в принципе делали то же самое. Только без этого… без пряток. Они вообще плевали на всякие там условности. Это наши пытались убедить весь мир, а больше, конечно, самих себя, что история развивается по Марксу, что вслед за национально-освободительными революциями тут же грядут социалистические. Ну, и так далее в том же духе.
Николая Ивановича так и подмывало спросить: «А сам-то ты о чем думал в то время?» — но он удержался. Не следовало задавать таких вопросов старому другу, который прожил свою нелегкую жизнь. Николай Иванович вспомнил, как однажды и сам прошел через горнило унизительных вопросов на общем собрании факультета. Конечно, ответы ни к чему его не обязывали, но принимать участие в подобном фарсе на излете двадцатого века было до обидного смешно и нелепо.
Он покосился на Алика, мысленно махнул рукой на все свои незаданные вопросы и предложил:
— Пойдем-ка на воздух, что ли? Засиделись мы тут с тобой.
Свечерело. Стелющийся дым вперемежку с призрачным весенним туманом посеребрил окрестности. Возле ручья настойчиво рядились соловьи, а за ручьем, за железнодорожной насыпью, из-за леса поднималась луна. И не хотелось в такой час думать о политике, о войнах, и уж вовсе не хотелось думать о смерти.
3
Голованов сидел на детской площадке возле песочницы и листал детектив. Книга была скучная, тема избитая, а от глянцевой обложки с пухлой блондинкой его просто тошнило, но деваться было некуда — не бежать же в киоск за новой. Так что волей-неволей приходилось дружить с этой. Несмотря на утренний час, солнце вовсю кочегарило двор, зайчиками вспыхивая в окнах, и ни ветерка, ни дуновения — только зеленая тень каштанов спасала на этой сковородке.
Сидел Голованов давненько, и сидеть еще было долго — по крайней мере, с час, как полагал он сам. Вчера, например, Кариев появился только в одиннадцать, позавчера — аж в половине двенадцатого, а еще день назад — в одиннадцать десять. Старики привыкли жить по расписанию, это Голованов усвоил давно, еще на примере собственного деда. Сам вот он жил как вольная птица, и если дело не касалось работы, то вставал, когда хотелось, а ложился по обстоятельствам. Мог и вовсе не спать ночи две кряду, если, конечно, дело того требовало.
Голованов отложил книгу, потянулся, распрямляя затекшее тело, и взглянул на часы. Было самое начало одиннадцатого. Двор помаленьку оживал: въехала, просигналив, молочная цистерна, тут же собралась короткая очередь. Молоденькие мамаши вывели прогулять своих чад, и те устроили шумную возню возле качелей. Мамаш Голованов заценил сразу же. Вообще, ростовские девочки были супер! В этом он убедился еще на вокзале — башня съезжала от этих девочек. И если бы не чертова работа, если бы… Он с трудом заставил себя отвернуться.
Из-за угла вывернул бомж с пакетом, в котором звенела пустая посуда. Деловито заглядывая под кусты, он направился к беседке, где пенсионеры забивали козла. Потоптался-потоптался и зашлепал рваными кроссовками к мусорным бакам. Его появление вызвало у Голованова неприятные воспоминания, он поморщился. Когда-то давно, когда ему было лет десять-одиннадцать, денег в семье вечно не хватало, и мать частенько таскала его с собой на «подножный заработок», а попросту — собирать посуду. Вместо сумки она брала грибную корзину и стыдливо перекладывала бутылки газетой, чтоб не звенели. Отец такой «работой» брезговал, оставаясь дома. А после, когда мать готовила на кухне, он горделиво закрывался в своей комнате, чтоб не слышать запахов. Да чего там, поганое было время. Дома — тоска. Во дворе единственное развлечение — футбол, вместо мяча — пластиковая бутылка. Ребята постарше бомбили ларьки, но когда он подрос, эта развлекаловка кончилась: к тому времени у спекулянтов завелась крепкая охрана. Потом жить стало чуть-чуть получше, но не так чтобы очень. У друзей появились компьютеры, игры, а он все не мог избавиться от унизительной клички Second Hand.
Голованов бесцельно водил глазами по строчкам, а в голову лезла всякая чушь. Он старательно гнал ее от себя, но она возвращалась снова и снова.
Нет, бывали у него, разумеется, и другие прозвища: Головастик, или совсем даже не обидное — Голова. А в отряде его сразу прозвали Артист, потому что пришел он к ним из театрального. Впрочем, называли иногда и по-прежнему Головой, и не оттого, что знали, а просто аналогия была очевидной. К тому же три курса института выгодно отличали его от прочих. Не сказать чтоб в отряде случались одни низколобые. Это прежде, когда всем заправлял Большак, подбирали по внешним данным. Сам Голованов то время уже не застал, до него докатились лишь отголоски тех мифов. И хотя формально у власти оставался Большак, но руководил отрядом уже не он, далеко не он, и это ни для кого не было секретом.
Неожиданно пропиликал домофон, тяжелая дверь подъезда поползла в сторону, и Голованов мгновенно напрягся. Но тревога оказалась ложной: молодая парочка, воровато озираясь, выскочила во двор. Причем сначала вышел парень, а секунду-другую спустя — девчонка и, как ни в чем не бывало, разбежались в разные стороны. Голованов запомнил их еще с позапрошлой ночи, когда дежурил здесь круглые сутки напролет. Они тогда допоздна лизались под каштанами. Видно, в эту ночь коней не было дома.
Все эти мысли мгновенно промелькнули в его голове, складываясь в цельную картинку и при этом нисколько не отвлекая от главного. Так уж сложилось, что на роль тигра в засаде подошел именно он. Когда-то на учебной сцене ему доводилось играть и Гамлета, и Ноздрева, но все эти роли не шли ни в какое сравнение с теперешней. Здесь все было по-настоящему. Жалел ли он о брошенной учебе? Вряд ли. Что хорошего сулила ему сцена? Нищую актерскую стезю от копейки к копейке? Ну уж нет! Только не это! Ему вполне хватило детских переживаний — да-с, накушался! Так что покорнейше благодарим! «Гамлет» хорош перед ужином после обеда, а между чаем с бутербродами получается один лишь «Скупой рыцарь».
Да и куда было рваться? Перед кем ломать шапку? Всю эту театральную публику он знал наизусть. По мнению Голованова, она делилась на две категории. К первой относились интеллектуалы. Вечно нищие и вечно жаждущие, втайне они мечтали о богатстве, которое одно лишь и могло стать достойным вознаграждением их уму. Вторые, у которых это богатство уже было, полагали вполне естественным купить за него любые знания. И ни те, ни другие ни на шаг не приблизились к своей цели. Вот где была комедия! Вот где театр!
Голованов опять отложил книжку, улыбнулся, потягиваясь. Нет, что ни говори, в отряде была жизнь! Кипучая, непредсказуемая… Не без изъянов конечно же, не без той же нудной дисциплины. Но за такие деньги… За такие деньги с этим вполне можно было мириться, главное — уверенность в завтрашнем дне. Главное — знать, что не придется потрошить мусорные баки, собирать посуду, донашивать чью-то обувь. Было и еще одно особенное свойство его службы: отряд — это кулак, сжатый кулак, готовый разить, ударить в любую минуту. Случись что, одно лишь нажатие стремной кнопки на сотовом — и ты под надежной защитой. Чувствовать за спиной эту силу — что могло быть приятней?
А театр?.. Голованов вспомнил свои прежние амбиции и усмехнулся. А театр это так, баловство на сытый желудок.
Солнце все-таки допекало, непонятным образом проникая сквозь тень каштанов. Было бы неплохо сейчас завалиться в речку или, на худой конец, в ванну. Голованов смахнул со лба испарину и невольно глянул на циферблат — стрелки медленно подползали к одиннадцати. Теперь старика следовало ожидать в любую минуту. Голованов загадал: если Кариев выйдет в течение четверти часа, то назавтра все пройдет гладко. Оставалось ждать, нетерпеливо поглядывая на часы, подгоняя ленивое время.
Кариев появился на шестнадцатой минуте. Как всегда, он свернул направо, к троллейбусной остановке, и, выждав, пока его седая шевелюра сольется с толпой на углу, Голованов поднялся и неспешно тронулся следом.
Маршрут старика он изучил досконально: газетный киоск, ларек «Пиво-воды», скамейка у фонтана в сквере, маленький рынок на углу. К обеду, то есть часам к трем, он возвращался домой. Так что Голованову незачем было спешить — в любой из контрольных точек он мог запросто перехватить Кариева. Он и не спешил. Зашел в кафе, где кондиционер создавал райскую прохладу, позавтракал, поболтал с официанткой, послушал музыку. Он не боялся наследить: он был здесь впервые и знал, что никогда больше сюда не вернется. Так требовала инструкция, и в этом пункте он был с ней полностью согласен, хотя правила на сей раз были жесткими. Обычно бойцов наставлял Большак, но в этом деле рейдеров инструктировал тот, кого сам Большак не просто побаивался — смертельно боялся, кого он за глаза и неизменно переходя на шепот боязливо величал Кощеем. Прежде Голованов только слышал о нем, да и то раза три-четыре, не более. Он понятия не имел, где обитает этот загадочный старик, а так как и никто другой из ребят его отродясь не видел, то думалось: а существует ли он вообще или это всего лишь плод коллективного воображения отряда? И вот однажды Большак сунул ему в руку бумажку. «Поедешь по этому адресу, — сказал он, — получишь задание. И смотри там, не дай бог… — он не договорил и, кивнув куда-то назад затылком, пробурчал: — Сам Кощей тебя требует».
Дом, указанный в адресе, смотрел окнами на «Детский мир». В цокольном этаже помещались магазины, и снизу было невозможно определить, что там расположено двумя этажами выше. Голованов так и не понял, кто ему отворил дверь, но едва он вошел, как у порога выросла здоровенная псина, ткнувшись ему черной мордой в самый пах. Голованов замер по стойке «смирно». И вдруг откуда-то из глубины прозвучал хриплый раздраженный голос: «Ну, чего ты там застрял? Проходи, не бойся! Он без команды не тронет».
Квартира ему сразу же не понравилась. Была она какой-то нежилой, бутафорской. Похоже, будто вещи внесли только что и расставили кое-как, а стоит выйти — и весь этот антураж пропадет, уступив место каким-то иным декорациям. И старик-хозяин показался ему не от мира сего. Кощей — не Кощей, но нечто запредельное в нем было. Какое-то древнее безумие горело в глубине его выцветших глаз. Он провел гостя в залу и, предупредив, что работы у них немерено, неожиданно спросил: «Ты играешь на флейте, сынок?» — «Только на трубе немного», — растерялся Голованов. «Вот и чудесно, — обрадовался старик, — значит, и на флейте научишься. Люблю талантливых».
За полчаса он ввел Голованова в курс дела, изредка бросая на гостя колючие пронизывающие взгляды.
«Сынок, — говорил он, заметив его колебание, — эти люди смертельно опасны, и если ты боишься, так и скажи — я пошлю кого-нибудь другого. Видишь ли, проблема в том, что их нельзя убивать из пистолета: сразу заподозрят неладное. А яд это такая штука, что не всякое вскрытие покажет. Да и будет ли вскрытие? Все-таки, сам понимаешь, — возраст! Ну, напишут: инсульт или остановка сердца. И никто ничего… Им и так уж давно пора на покой».
«Связь будешь держать только со мной, — предупреждал он. — Чтоб никаких там посторонних звонков!»
«А как мне к вам обращаться?» — поинтересовался Голованов.
«А никак! Зачем нам имена, верно? — усмехнулся старик и неожиданно подмигнул: — Как меня прозвал твой начальник? Кощеем? Вот так и называй».
«Но неудобно как-то…» — замялся Голованов.
«Ничего, — успокоил его старик, — не привыкать! К тому же мне нравится быть бессмертным!»
Да, в это кафе он больше не вернется. Напоследок Голованов еще раз огляделся по сторонам и вышел на улицу под палящее солнце. Он купил в киоске местную газету, пролистал, открыв ее на странице объявлений, и неторопливо направился к фонтанчику в сквере. На привычном месте старика еще не было, и Голованов, присев на парапет, принялся просматривать объявления о сдаче жилья. Квартиры, как и кафе, тоже были одноразовыми, и, разумеется, речи не могло быть ни о каких гостиницах. Весь его путь нес на себе отпечаток сиюминутности. Трудно было только в самом начале привыкнуть к этому изнуряющему ритму: смене лиц, адресов, названий и даже часовых поясов. Но скорость завораживала подобно музыке, и то, что вчера еще зачарованно открывалось перед ним словно какая-нибудь terra incognita, назавтра уже теряло свое девственное обаяние и, промелькнув, исчезало за спиной, корчась, задыхаясь в пыли, как вытоптанная испанцами Америка.
Голованов как раз договаривался по телефону насчет квартиры, когда старик занял свое обычное место у фонтана. Сухой, как былинка, он нисколько не выделялся среди таких же пенсионеров, коротающих свое время в парке. Было в его облике какое-то благостное умиротворение. То, как он, щурясь, глядел на летящие струи, безмятежно улыбался детям, брызгающим водой друг в друга, соединяло, роднило его с окружающим миром. И как-то совершенно не верилось в то, что этот божий одуванчик таит в себе смертельную угрозу, что он может запросто свалить любого испытанного бойца, одним движением руки отправив его на тот свет. Нет, не верилось, но и проверять это Голованову совсем не хотелось.
«А зачем нужно их ликвидировать? — это был единственный дурацкий вопрос, который он позволил себе задать Кощею. — Разве не проще дождаться естественного конца — много ли им осталось?»
Позволить-то он позволил, но тут же и пожалел об этом. Он никак не ожидал такой бурной реакции хозяина.
«Это как это? — опешил тот. — Позволить им тихо-мирно умереть в своей постели?! А вот это ты видел? — сунул он ему под нос кукиш. — А они меж тем будут пописывать свои пасквильные мемуары, как мы делали революцию в Африке? Как снабжали героином Европу, как поставляли оружие на Ближний Восток? Да ты хоть слыхал, сынок, что есть такая штука — государственная тайна? Что они давали присягу? А мы, значит, позволим им еще и гонорары получать за предательство?».
«Так страна-то была совсем другая, — попробовал было возразить он, — та уж давно кончилась».
«Ты мне это не ври! — взорвался старик. — Ничего не кончилась! Страна у нас та же самая! Была, есть и будет! А то, что всякие там еврейские умники от нее оттяпали и свое еврейское название ей придумали, так это ничего не значит! Ты думаешь, мы это так и оставим, что ли?! Да ни хрена ты не смыслишь в политике, сынок, лучше уж и не суйся! Ты даже не представляешь себе, какая за нами сила! И не вздумай возражать, я заранее знаю все, что ты скажешь. Просрать такую страну! Никому не позволим!» — не на шутку разойдясь, он треснул кулаком по столу.
Голованов и не возражал. Он уж и так пожалел о своем вопросе, а старик все орал и орал, как будто пытался перекричать толпу, и проклятая псина насторожилась, заняв свое место в опасной близости от гостя.
«И чего за язык потянуло? — ругал себя Голованов, возвращаясь от Кощея. — Старик мухоморов накушался, а ты с ним спорить взялся! Какая, действительно, к черту разница — что за страна, что за предатели! Платят — и на том спасибо. Была бы работа!»
А флейту он все-таки освоил, не ахти, конечно, но в переходах играть можно. Так что, случись чего — ремеслишко прокормит. «Главное — убедительность образа, — внушал ему Кощей. — Ну да ты ведь артист, чего тебе объяснять».
Голованов не собирался надолго засиживаться в парке. Со стариком Кариевым все было понятно: никуда он нынче не денется, из поля зрения не выпадет. Да и вообще, на сегодня Кариев был ему не нужен. Что толку таскаться за ним весь день по жаре? Голованов давно уже решил, как все произойдет, а эта перестраховка — так, уступка Кощею, не более. «Один раз позволишь себе небрежность, — гнусавил тот, — и все дело насмарку. Тут тебе не Олимпийские игры, не биатлон, — вместо похвалы отчитал он его однажды, когда Голованов уложился в три дня. — Тебе платят не за скорость, а за эффективность». Вот и приходилось ему честно отрабатывать свой хлеб. Он не знал, контролирует ли его Кощей, но полагал, что с того станется. Вся эта шпиономания вообще была ему не по сердцу. Дело-то проще пареной репы — подумаешь, какие-то там старики! Списанный материал. Это тебе не банкира завалить. В душе он посмеивался над Кощеем: в игрушки играет, но спорить после того первого опыта уже не решался.
Голованов еще несколько минут покрутился в парке и, взяв такси, поехал сдавать квартиру, в которой провел прошлую ночь. А еще через полчаса он уже катил на другой конец города получать ключи от нового жилья.
Жизнь на колесах… Последнее время он только и делал что куда-то спешил: летел, бежал, ехал, даже заскочить домой было недосуг. Дом оставался где-то в стороне, на обочине, в воспоминаниях, как незыблемый островок детства.
Мысль о доме неожиданно озадачила его. А был ли у него теперь свой дом? Осталась мать, которая по-прежнему жила в Долгопрудном и которой каждый месяц он посылал деньги. Мог бы привозить и сам, но всякий раз находились оправдания. А может, он просто не хотел возвращаться в ту прежнюю жизнь? Окунаться в ее хоть и устроенный, но копеечный быт с вечно сохнущим на веревках бельем, треснувшими обоями, позавчерашними щами. Слушать жалобы матери на подскочившие цены, на постоянные споры с соседями. Даже сам запах этого мира был ему ненавистен — кисловатый запах нищеты и безысходности. Вот только совсем оторваться от этого мира у него не получалось. Прошлое не пускало, цепляясь, как выплюнутая кем-то жвачка. То вдруг напоминала о себе бывшая школьная подруга, когда все уже давным-давно отгорело, то присылали непонятную бумагу из военкомата, а прошлым летом скоропостижно умер отец. И хотя он лет десять как бросил семью и спился, несмотря на свою хваленую интеллигентность, хоронить отца пришлось ему, Голованову, потому как больше у того никого не было. А теперь вот надо было ехать, распоряжаться насчет памятника, и все это опять-таки ложилось на его плечи. Так что, как он ни пытался откреститься от прошлого, ничего не получалось. Но, пожалуй, самое скверное заключалось даже не в этом. Дело в том, что и в настоящем-то у него ничего, кроме этого прошлого, не было: ни друзей, ни любви, ни надежды. Не считать же в самом деле за друзей ребят из отряда, а за любовь — подружку на ночь. И если еще недавно, еще каких-нибудь лет пять назад это его ничуть не смущало, то теперь, приближаясь к тридцатке, он все чаще стал задумываться, и все чаще лезли в его голову дурацкие сомнения на предмет осмысленности бытия.
Закончив дела с переездом, благо всех вещей — одна дорожная сумка, Голованов подался в кино на свежую американскую комедию, пообедал в ресторане и ближе к ночи нанес визит в изрядно намозоливший глаза двор, проверить, все ли в порядке. В сгустившихся сумерках под каштанами вспыхивали светлячки сигарет, слышались приглушенный смех и шепот, а в темной листве монотонно трещали цикады. Посверкивая огнями, содрогаясь от пульсирующей в салоне музыки, проехала мимо машина и скрылась за углом. Дом засыпал, дом гасил окна, но в квартире старика свет еще горел. Старик не спал, старик был дома.
4
Май, как обычно, застал Николая Ивановича врасплох. Конец семестра, у аудитории толпы должников — не протолкнуться, а тут еще деканат отчетность требует. И так одно за другим. Словно сумасшедшие, летели дни, один за другим. А надо бы еще и на даче покопаться. Ну да ладно, не до того — там теперь Алька заправляет.
Дачу эту по настоянию матери приобрел он давным-давно, когда в институте распределяли земельные паи, а само огородничество для многих служило едва ли не единственным способом выживания. С тех пор большинство забросило свои угодья, да и ему по большому счету она бы ни к чему, но Николай Иванович неожиданно к земле прикипел. Он и отпуск проводил неизменно среди сельдерея и цветной капусты — не на море же ехать с его-то профессорской зарплатой. Но все же и времени на нее уходило изрядно, а времени Николаю Ивановичу было жаль. Так что появление на даче Алика вполне его устраивало, и, странное дело, он даже не ревновал его к своим посадкам. Но вот осадок на душе после разговора с другом остался не совсем приятный.
Нет, он конечно же нисколько его не осуждал: что было, то было. Да и кто бы из них в те годы усомнился в честности такого выбора? Пятьдесят седьмой — подумать только! Даль несусветная! Что они вообще тогда понимали? Ничего! Это теперь, десятилетия спустя, когда тайное открылось, многое из того, что происходило в стране, кажется, мягко говоря, неприличным. А тогда… Тогда это даже не обсуждалось.
«И все же, и все же, — думалось Николаю Ивановичу, — мог бы как-то и признаться, что ли, как он нынче-то ко всему этому относится». И думалось ему еще о том, что с недавних пор отношения между людьми стали выстраиваться совсем по-иному. Прежние чувства как-то незаметно подменились политической основой, словно бы вся страна в одночасье превратилась в одну большую Государственную думу. Даже меж давнишних друзей вспыхивали смертельные ссоры на почве пристрастия к тем или иным политическим взглядам. «Хотя, с другой стороны, — рассуждал Николай Иванович, — должна же быть во всем этом бедламе какая-то истина. Возможно, Алик просто ее не нашел? — Но тут же, повинуясь непонятному желанию спорить даже хотя бы и с самим собой, возражал: — А сам-то ты нашел ее, разве, эту истину?».
Такие же бестолковые споры вспыхивали порой и дома. Вспыхивали стихийно, иногда по самому пустячному поводу, но с такой неистовостью, словно на карту были поставлены вопросы мироздания.
«Ну вот, опять убийство! — оторвавшись от своего телевизора, с очередной новостью врывалась на кухню мать. — И что у нас только за страна такая?! Заводы взрываются, самолеты падают…».
«А раньше, что, не падали разве?» — морщился Николай Иванович.
«Раньше, к твоему сведению, столько катастроф не было, и людей просто так не убивали!»
«Раньше еще и не такое бывало! — возражал он. — Людей в лагерях и морили, и убивали тысячами и миллионами ни за что ни про что. Просто товарищ Сталин тебе об этом не докладывал».
«Ты Сталина не трожь! Сталин вон сколько всякого добра для страны сделал! А то, что не докладывал, так потому, что поумнее многих нынешних был. Знал, что народ устает, что народу покой нужен!»
«Ага! Кладбищенский!»
«Ты на себя посмотри! Сам-то в свои годы чего добился? Кем стал? Мог бы уж и кафедру возглавлять или институт даже, а все в профессоришках ходишь! С женой и то толком не смог ужиться, а на Сталина пеняешь!»
После таких пассажей спор, едва разгоревшись, переходил на личности, окончательно утрачивая всякую ясность.
«Профессоришко!» — язвительно шипела мать, покидая кухню.
«Старая большевичка!» — огрызался ей вслед Николай Иванович.
Все, что касалось вопроса его неудачного брака, таило в себе обиду, но особенная горечь заключалась в том, что мать была права. Она словно чуяла эту его болевую точку и била по ней тем сильней и расчетливей, чем глубже в тупик загонял ее он сам своей неопровержимой логикой.
С женой они расстались в самом начале девяностых, пожертвовав в общий котел едва ли с десяток лет. «На твою зарплату лучше жить одному, — сказала она ему на прощанье. — Может, на бутерброд к чаю и хватит». Это были как раз те годы, когда зачет можно было запросто купить за пачку сигарет. Ему-то всегда казалось, что это он терпел ее возле себя. Тем горше было переживать свое заблуждение.
Но и потом, когда студент пошел сплошь денежный и коллеги едва поспевали выдумывать все новые и новые услуги, ломя за них втридорога, он так и остался среди них белой вороной, не разменявший уважение к себе на икру к тем самым бутербродам. «К этому лучше не попадать — завалит!» — кивали на него зеленой абитуре познавшие службу первокурсники.
А в День Победы они с матушкой снова повздорили. Она смотрела парад, показывали трибуны, заполненные гостями и ветеранами, когда он неожиданно спросил:
— Интересно, был бы жив отец, он тоже сидел бы с ними рядом?
— Не болтай ерунды! — отрезала она. — Твой отец был осужден как враг народа.
— И ты до сих пор веришь этому суду? — печально усмехнулся он.
Когда-то, лет пятнадцать назад, Николай Иванович подавал запрос в комиссию по реабилитации, но ответ получил формальный — слишком мало данных. Мать не помнила точной даты рождения отца, не помнила даже его отчества! Не помнила или не хотела помнить?
— А разве был еще какой-то другой? — в ее словах, как обычно, не было и тени сожаления о случившемся. — Лучше посмотри, какой прекрасный парад! Какая музыка! Какие герои! А сколько их полегло, не дожив! Ну что ты все ворошишь прошлое?
— А кому-то даже и возможности такой не дали — дожить. Представляешь, каково это?
В голосе его звучала горечь, но слова выходили какими-то казенными, неуклюжими. Он и сам себе плохо представлял, каково это: быть осужденным как враг народа, когда в стране война. Когда любой конвоир, какой-нибудь деревенщина с тремя классами образования, мог забить тебя насмерть прикладом только лишь за то, что его сельцо где-то под Курском заняли фрицы, а у него там мать и братишки и сестры. А ты — глаза б на тебя не глядели — помогал этому самому врагу, и потому прямая тебе дорога — в яму! А ты еще, сука, дергаешься, еще коптишь небо и надеешься дожить, отсидевшись тут, за Уралом!
— Может, среди тех, на трибуне, есть и тот, кто отправил отца в лагеря? А теперь вот сидит и радуется как ты музыке, солнышку?..
— Слушай, ты дашь мне наконец посмотреть парад или нет?! — взорвалась мать, хватаясь за сердце.
— А ты?! — в свою очередь взорвался он. — До каких пор ты будешь скрывать правду?!
Ни на какое ее «признание» он, естественно, не рассчитывал. Вряд ли он вообще рассчитывал на что-либо, но и радоваться вместе с ней непонятно чему не мог. Совсем не радостно было у него на душе и думалось не о веселом.
Правда? Да кому она нужна, эта правда! Разве же мать одна такая? Когда-то во время путча, когда по Москве деловито ползли БТРы, словно и впрямь рассчитывая остановить гневный людской поток, заполонивший улицы, ему еще думалось, еще верилось: вот оно — пробуждение от вековой спячки! Эйфория улиц сметала старые догмы, крушила авторитеты. Да и разве сыскался бы в то время хотя б один, кто посмел бы усомниться в искренности народных чувств? Усомниться в том, что людьми движет жажда свободы, жажда открытости и правды?
Глупец, как же он заблуждался! Свобода? Кому она прибавила счастья? Правда? Кого и на что она подвигла? Пустые прилавки — вот что подняло толпу! Голодное брюхо — вот главный пропагандист и агитатор! Все то же из века в век: хлеба и зрелищ!
Впрочем, Николай Иванович пытался и поспорить с самим собой, но возражения на сей раз получались неубедительными. Потому ли, что и сам не верил в искренность революций, или потому, что действительность каждый день демонстрировала совсем обратное? Потому что вот она пришла, пора изобилия, и куда подевалась правда? Куда запропастилась? О ней стыдливо забыли, как о нищей родственнице из деревни.
И Алька лукавит: при чем тут присяга? Еще лет десять назад признаться в такой его «работе» было бы стыдно. А теперь — ничего, сойдет. В каком-то смысле это даже и модно — совковый спецназ. Надо же! И кто бы мог подумать! А ведь какие надежды подавал. Золотая медаль, лучший ученик школы. Сколько дорог — выбирай любую.
Николай Иванович вдруг совершенно отчетливо вспомнил то чувство, что владело им накануне окончания школы: старое уносилось прочь, уже унеслось, а новое неведомое манило, душистое, как южная ночь, и такое же непроглядное впереди.
«Алик, Алик! — невольно вздохнул он. — Что за дорогу ты выбрал?!».
Недели через три после праздников Николай Иванович таки оторвался от дел и рванул на дачу. Несмотря ни на что, предвкушение встречи с другом радовало его сердце. К тому же он волей-неволей оказался втянут в некую детективную историю, развязки которой жаждал. Но то, что он там увидел, поразило его не меньше «воскрешения» друга.
Вместо одного Алика он застал на своем участке четверых — впрочем, один-то из них был Алик — поджарых стариков.
— Знакомься, — представил его друг. — Наша команда.
— Ну, не вся, разумеется, — выступил наперед один из вновь прибывших, — все-то мы тут не поместимся.
Николай Иванович смущенно разглядывал гостей и ничего не ответил. Его поразил их вид. Крепкие, жилистые, все будто списанные с одного лица, они являли собой тот тип, что характерен был для низовьев Волги и Яика году этак в…. В общем, Николай Иванович затруднялся определить сроки. Нет, близнецами они не были, но для глаза постороннего, неопытного казались на одно лицо. Несколько широковатые скулы, изломанные надбровные дуги, характерный прищур, смолисто-черные, теперь уже сплошь седые волосы. Николай Иванович понял, что имел в виду Алик: при некоторой доле воображения этих потомков южнорусских смешанных кровей можно было легко принять за каких-нибудь там берберов или африканских арабов.
Его размышления прервал Алик.
— Ты не против, если мы побудем здесь некоторое время? — спросил он. — Устроим у тебя нечто вроде базы?
— Да ради бога, ребята! — поспешил Николай Иванович успокоить своего друга. — Я-то тут почти не бываю. Только тесно же вам, наверное?
— Это ничего, — ответил за всех Алик. — Зато теперь тепло, можно спать и под яблонями. Птички, цветочки… Красотища! А? — и он потянулся, хрустнув суставами.
А кто-то из компании в тон ему пропел: «Роспрягайтэ, хлопци, конэй…». И все они, дурачась, подхватили этот псевдомалороссийский диалект:
— Ну, шо? Пийдем до хаты? Вже и выпыть впору!
— И выпьемо, и закусимо!
— А закуска е?
— Хиба закуски не найдэмо?
За столом, на котором и выпивки, и закуски вполне хватало, и к которой Николай Иванович любезно присовокупил свой коньяк и матушкины пироги, гости неожиданно посерьезнели. Первым делом помянули павших товарищей и лишь затем, понемногу оттаяв, перешли на другие, более веселые темы. Николай Иванович тем временем продолжал внимательно изучать их лица. В глаза бросалась некая странность, которую прежде он не мог понять в Алике. Зато теперь, когда рядом сидели его друзья, Николаю Ивановичу наконец удалось определиться в собственных чувствах. Это было совершенно несвойственное обыкновенным людям постоянное напряжение, готовность в любую минуту отразить невидимый удар. Складывалось впечатление, что за трапезой собрались усталые рыцари, скинув в сенях свои доспехи, они в любую минуту готовы были вновь ринуться в битву.
И словно в подтверждение его мыслей старики совершили какой-то странный обряд. Вместо того чтобы в очередной раз чокнуться, они, стукнув стаканами о стол, выпили, воскликнув одновременно: «За победу!»
Участие в этой пирушке отчасти смущало Николая Ивановича. Слушая их воспоминания, пытаясь вникнуть в названия незнакомых ему мест, он ощущал себя пионером меж фронтовиков. Не было в его жизни того, в чем он мог бы соперничать с ними, — он даже в армии не служил. И хотя в преподавательской среде это было вовсе не редкость, но само отсутствие такого опыта — нутром он это понимал — обедняло его мир. Что-то важное он упустил, придающее этим людям цельность, дающее право сказать: «Я был вместе со своей страной, какую бы подлость она ни уготовила. Ее грех — мой грех», в то время как он всегда был молчаливо «против». И эта ущербность отнимала у него важнейшее право — право быть с ними на равных. Странное дело: отсутствие греха не делало его в собственных глазах безгрешным.
И опять его размышления прервал Алик:
— Ты чего там притих? — окликнул он. — Как успехи на ниве образования?
— Не спрашивай лучше, — отмахнулся Николай Иванович и от вопроса, и от своих назойливых мыслей. — Ничего хорошего новый век не сулит. — И неожиданно спросил: — А вы давно уже здесь собрались?
— Ну, не так чтобы очень… Миша и Арсен еще вчера подъехали, а Ганс за час до тебя прикатил.
— Ганс? — поднял в удивлении брови Николай Иванович.
— Вообще-то он Генрих, а Ганс это так, кличка.
— Что-то вы не слишком похожи на немца, — покачал головой Николай Иванович, разглядывая своего соседа по столику.
— Причина не в этом. Просто когда-то он прочел всего Гете в подлиннике, а это, согласись, покруче, чем просто внешнее сходство.
— Но Генрих тоже вполне немецкое имя.
— Имя есть имя, а кличка — квинтэссенция свойств. Она сразу должна выявлять в человеке главное.
— А у тебя?.. У тебя тоже есть кличка?
— Он у нас Звездочет, — подмигнул ему Ганс-Генрих.
— Это почему же?
— Шибко умный, однако, — рассмеялся в ответ тот.
— Это у него со школы, — кивнул, соглашаясь, Николай Иванович. — Бывало, учитель еще и спросить не успеет: «Кто знает?», а некоторые уже руку тянут.
— Вот-вот! — подтвердил Ганс. — А потом скучают всю жизнь, потому что еще в школе все наперед выучили.
— А я-то все думал, зачем ему медаль? — подхватил Николай Иванович, включаясь в игру. — Оказывается, чтобы валять дурака с чистым сердцем.
— Завидуете? — ухмыльнулся Алик. — И это правильно! Зависть украшает мужчину.
— И ты столько лет молчал об этом?! Нет бы, поделиться опытом!
— Вам только скажи! — поддержал товарища Миша. — Тут же растрезвоните на весь белый свет!
— А что, еще и черный бывает?
Разговор принимал какой-то уж слишком шутовской характер, и чем дальше, тем трудней было вернуться к серьезной теме, а Николаю Ивановичу меж тем хотелось разузнать о дальнейших планах друга. Неожиданно ему помог Арсен, тоже вступившийся за товарища.
— Кабы не Алик, — сказал он, — где б вы сейчас были? Прятались бы по своим норам, как кролики от удава.
— Точно! — подхватил Миша и, подняв свой стакан, торжественно произнес: — За гениальный план Звездочета!
— До дна, как за дам! — не удержался от усмешки Ганс.
— А что это за гениальный план? — осторожно поинтересовался Николай Иванович.
— План по отлову удава, — улыбнулся Ганс.
А сам автор, покосившись на боевых друзей, неожиданно произнес:
— Может, не стоит вслух при посторонних? — И, обернувшись к Николаю Ивановичу, добавил: — Ты извини, Коль, за «постороннего», но лучше бы тебе не знать — крепче спать будешь. Ты даже не представляешь себе, на что способны эти люди!
Но Николай Иванович все-таки обиделся.
— А ты уже знаешь, кто они? Помнится, прежде ты говорил, что не имеешь понятия? — с явным раздражением выговорил он.
— Ну, так… Есть некоторые догадки.
— Черный полковник? — предложил Николай Иванович первое, что пришло на ум.
— А почему бы и нет? — задумчиво произнес Алик. — Возможно, вполне возможно…
— Но это же смешно! Люди не живут так долго! Вспомни, сколько ему тогда было! Под сорок?
— Лет тридцать пять
— тридцать семь, — пожал плечами Алик.
— Пусть так, значит, теперь под девяносто! — горячился Николай Иванович. — Да он если и не в могиле, так давно уж отошел от дел!
— Боюсь, в таком деле, как наше, на пенсию не уходят. И срока давности по нему не существует, — печально проговорил Алик.
Остальные слушали молча, не вмешиваясь в беседу.
— И зачем же, скажи на милость, ему это нужно? Разве вы чем-то ему угрожаете?
Алик ответил не сразу. Он отрешенно вертел в руках стакан, разглядывая его отливающие металлом грани, собираясь с мыслями. И слова его были тяжелы, как вывороченные камни при дороге.
— Ну, что тебе сказать? — произнес он. — Это пуленепробиваемая тема. Тому, кто ровнял весь мир, трудно смириться с тем, что мир сжался наподобие шагреневой кожи, усох до размеров его квартиры. Такие всегда будут искать виновных.
— Ну, хорошо, допустим. И что дальше? Ты знаешь, как его найти? Знаешь его адрес?
— Понятия не имею, — честно признался Алик. — Да и прежде никогда не знал — ни к чему было как-то. С нами работали совсем другие командиры.
— Как же ты хочешь его найти? Через адресный стол?
— Полагаю, там нет его реквизитов.
— Тогда объясни. Я сдаюсь.
— В самом деле, расскажи ему, Алик, — не вытерпел Ганс. — В конце концов, мы живем в его доме, пользуемся гостеприимством. Надо бы и честь знать!
— Вот именно поэтому я и не собираюсь ничего рассказывать, — рассердился Алик. — Потому что наши враги будут думать точно так же и первым делом примутся за Николая. И я очень надеюсь найти убийцу раньше, чем тот, кто его послал, сообразит, что за ним идет охота.
— Но ты уже подставил человека под удар! Так не честнее ли будет рассказать ему все до конца, всю правду?
— Нет! Потому что тогда я подставлю всех остальных, — отрезал Алик.
— А разве право одного меньше права других? Опомнись, Алик! Мы уже проходили это! Тебе нравилось, когда нами играли втемную?
— На войне не бывает демократии, — перебил его Алик, — и права здесь вовсе ни при чем.
— Но воюем-то мы — не он, — не сдавался Ганс. — Лично ему войны никто не объявлял!
— Может быть, он так и думает, — вздохнул Алик. — Может, и все вы так думаете, — обвел он долгим тяжелым взглядом лица друзей и, неожиданно понизив голос, произнес: — Так вынужден вас огорчить — война объявлена всем.
Было в его голосе, в самих его интонациях нечто, не терпящее возражений, нечто такое, что заставило друзей растерянно переглянуться в поисках ответа. И не найдя друг в друге поддержки, не сумев ответить на этот не заданный вопрос, они невольно воззрились на Алика. А тот, словно желая еще более усилить эффект, — будто философия и впрямь способна давать ответы на все вопросы жизни — нарочито сдержанно произнес:
— За прошлое надо платить.
5
Новый день складывался для Голованова вполне удачно. Не успел он выйти на улицу, как невдалеке от своего временного пристанища наткнулся на ремонтную бригаду, возившуюся возле канализационного люка. Повинуясь актерскому чутью, а скорее даже этакому беззастенчивому фиглярству, Голованов подошел к мужику в оранжевой безрукавке.
— Слышь, земляк, одолжи спецовку, а? — дружелюбно улыбнулся он. — Мне свою телку попугать…
— Что значит одолжи? — уставился на него тот. — Эт-те, бля, не казаки-разбойники. Я тут на работе, между прочим.
— Ну, продай, что ли? Сколько за нее хочешь?
— Ладно, давай на бутылку, — согласился мужик, и сделка состоялась.
Таким образом, ровно в половине одиннадцатого стариковская пятиэтажка радушно распахнула свои бронированные двери перед новоявленным сантехником. Голованов устроился на подоконнике в пролете между вторым и третьим этажами, развернул перед собой газету с кроссвордами, и, собственно, на этом первая фаза операции была успешно завершена.
От коллег по отряду Голованов выгодно отличался своей изумительной непредсказуемостью. Он и сам не знал, какую роль подберет ему назавтра судьба, и играл, что называется, с листа. И если сегодня кто-то признал в нем сантехника, то в другой раз мог с удивлением обнаружить в его лице зубного врача или путевого обходчика — все зависело от обстоятельств. Голованов не повторялся. Служба не заглушила в нем актерского дарования, а, скорее, наоборот, усилила его, подняла на новую, недосягаемую высоту. И все же где-то в глубине души мечтал он о настоящей сцене и, чего греха таить, — о признании и известности. Пусть нынче такие времена, что артисту не прожить, но это ж не навсегда, придет же другое время. А если и нет, что с того? Свет клином не сошелся на матушке-отчизне. Можно и в Америку рвануть, сколотить труппу… Вон сколько наших осело на Брайтоне, соскучившихся по родным берегам, по утраченной родине! Им только тему подкинь — валом повалят! А тем у него в запасе было, хоть отбавляй. Время от времени он даже записывал что-то такое, неведомое самому, исполненное некоего глубинного смысла:
Туман сырой, как кладбищенский ров,
Иду по церквам, стучусь — отопри!
Любовь тяжелая, как металлический рок,
Сосет меня изнутри.
И виделись ему бескрайние просторы полей с редкими брошенными деревнями, обветшалые избы, заколоченные глазницы окон. И чуть ли не Блок угадывался в пахнущих полынью строках:
А то вдруг накатывало иное:
Я — генерал потерянной армии.
Эй, солдат, подойди, постой!
Отдай мне сердце, что в нем главное?
Дезертир ты или герой?
Тебе эта штука, вроде, без надобности —
Пленниц трахать? Расходовать вдов?
А я возьму охотно и с радостью,
Потому что мой мотор уже сдох.
Потому что там, где земля упирается в небо,
Где дома без крыш, купола без креста,
Где никто из вас, сук, и в помине не был,
Я строю храм господина Христа.
Голованов верил, что пройдет каких-нибудь года два-три и накопленных денег вполне хватит, чтобы начать самостоятельное плавание, новую, не зависимую ни от кого жизнь. В самых радужных снах видел он свой новый театр, залитый морем огней, в сверкающих лазерных декорациях, чем-то неуловимо похожий на буффонаду Маяковского, и в этих снах был Голованов счастлив.
Но сегодня ему было не до мечтаний. Сегодня он весь был — как сжатая пружина, как взведенный курок, когда уже и предохранитель снят, и патрон дослан в патронник, и осталось лишь одно, последнее… Впрочем, внешне это никак не выражалось — любой проходящий мимо ничего бы такого в нем не заметил. Разве что подумал бы: «Вот, опять у кого-то авария. Значит, будут чинить, воду перекроют…» и чертыхнулся бы в душе на эти неприятные обстоятельства и пошел бы себе дальше.
Сколько подобных интонаций ловил Голованов за время своего вынужденного безделья, ловил так, от нечего делать, потому что надо же чем-то занять мозги. Потому что снующие мимо и не замечали, какой шлейф разочарований, обид, неразрешимых проблем тянется вслед за ними и что кто-то, кому и дела нет до их мелких страстишек, прочтет эти тайные знаки, выдернув их прямо из воздуха, прочтет из чистого любопытства и тут же забудет, выкинет за ненадобностью, как старую газету.
Правда, сегодня долго засиживаться ему не пришлось. Не успел он разгадать и двух кроссвордов, как на третьем этаже щелкнул замок, хлопнула дверь, и старик вышел на лестничную площадку. Голованов замер. Он заметил его краешком глаза, не оборачиваясь и не отрываясь от своего интеллектуального занятия. Ни единым мускулом не выдал он своего интереса, как обученная собака, что глядит не просто мимо жертвы, а куда-то совсем даже в другую сторону, будто ничто в этом мире ее не касается. И все же дальнейшие события стали развиваться по какому-то иному сценарию, совершенно не так, как прописал их для себя Голованов.
— Молодой человек, молодой человек! — неожиданно окликнул его Кариев, заставив обернуться. — Вы ведь из ЖЭКа, да? Будьте любезны, загляните ко мне — вторую неделю кран подтекает. Сколько ни звоню вашим, никто не идет.
Звук его голоса эхом прокатился по лестничным маршам и замер, долетев до верхнего этажа. И опять Голованов сдержался. Лишь мельком глянув в его сторону, он снова ткнулся в газету, недовольно пробурчав:
— Да запарили меня совсем, бригадир час назад обещался подъехать — и хрен, а я тут кукуй! У меня и ключей-то нет, и вообще… я на практике, — заключил он.
— Ну, зайди, сынок, глянь, лень тебе, что ли? Может, там и делов-то — раз плюнуть? Уж пособи старику.
Посещение квартиры Кариева никак не входило в его планы, и Голованов занервничал. Надо было срочно что-то решать. В любую минуту на лестнице мог объявиться кто-нибудь из соседей, а это было бы уж совсем некстати. Тогда все пропало, все придется начинать заново. Голованов нехотя поднялся, с явным неудовольствием сворачивая газету, и процедил:
— Ладно, чего там, показывайте…
Простая логика охотника запрещала общаться с жертвой. Уступи чуть-чуть — и ты уже на крючке обычных человеческих чувств, и жалость найдет предательскую лазейку в твоем сердце. И кто ты после этого? Размазня! Ты уже ни на что не годен, и цена тебе — грош!
Ругаясь в сердцах, Голованов поднялся на площадку и, пропустив вперед старика, шагнул следом.
— Не споткнитесь, ради бога, тут у меня ковер, — обернулся на ходу Кариев, — вечно край задирается.
Но Голованов его не слушал, нащупывая во внутреннем кармане флейту. И вот, когда старик отвернулся, ухватившись за дверь в ванную, Голованов выстрелил.
Флейта со специальным мундштуком представляла из себя не что иное, как духовое оружие индейцев, а яд… Впрочем, Голованов понятия не имел, что это был за яд. «Смотри, сам не уколись ненароком, — предупреждал его Кощей, — в тысячу раз сильней змеиного. Пара секунд — и ты уже среди ангелов». — «За вредность надо бы доплачивать», — пошутил тогда Голованов. «Я и так тебе плачу немерено, — огрызнулся Кощей. — Эти старики получали гораздо меньше твоего, а делали куда как больше!».
Кариев судорожно дернулся, попытался дотянуться до шеи, но ноги его подкосились, и он медленно осел на пол. Его рука все еще цеплялась за дверную ручку, а в потухающих глазах застыла печаль. Голованов склонился над ним и вынул оперенную иглу.
— Прости, старик, — пробормотал он, стараясь не глядеть в его глаза. — Лично я ничего против тебя не имею, но… Сам понимаешь — отработанный материал. Так что того, покойся с миром.
Он подошел к двери, прислушался и, пользуясь краем спецовки, как перчаткой, осторожно открыл замок. На лестнице было пусто. Из какой-то квартиры этажом выше доносилась приглушенная музыка, в остальном же все было спокойно. Голованов уже собрался было захлопнуть за собой дверь, но некая отвлеченная мысль, а в данных обстоятельствах, пожалуй, и несуразная, заставила его вернуться в квартиру. «Когда еще старика обнаружат, — подумалось ему, — а на такой жаре за несколько дней он превратится…». Впрочем, представлять, во что превратится труп, Голованов не стал. По его разумению, старик не заслуживал такой смерти.
Пальцы, вцепившиеся в дверную ручку, удалось разжать с трудом. Голованов подтащил старика к выходу и опустил на пороге. Слегка прикрыл дверь. Теперь любой проходящий мимо должен был обязательно обратить внимание на незапертую квартиру.
Хотя Голованов и считал себя человеком хладнокровным, но сегодняшний случай выбил его из колеи. Не было еще в его коротком опыте ничего подобного. Конечно же убить человека — это не комара прихлопнуть, но одно дело — со спины, не видя глаз, когда и тебя не видят. И совсем другое — когда перед смертью он запечатлел твой образ и, умирая, проклинает тебя и эти проклятия уносит с собой на небеса. Было нечто мистическое в его боязни, какой-то первобытный страх всецело владел им. Он шел, не разбирая дороги, не обращая внимания на прохожих, не видя и не слыша уличной толчеи; шел, а в ушах еще звучали последние стариковские слова: «Не споткнись, сынок». И от этого, несмотря на ростовскую жару, было Голованову зябко.
Так уж повелось, что в отряде Голованова за серьезного бойца не считали. Вечно был он на каких-то второстепенных ролях: отнеси, договорись, забей встречу. Сам-то он, честно говоря, не особо рвался в ударники, довольствуясь малым, да и работа последнее время не баловала. Схлынули митинги, демонстрации, исчезли пикеты и палаточные городки. Политика опять заползала в подполье, откуда однажды так нерасчетливо выползла. Изредка Большак вывозил их размяться на футбольных болельщиках. Они вставали за спиною ОМОНа, незлобно переругивались, щелкая семечки, дожидаясь, пока толпа фанатов хлынет со стадиона. Обычно им доставались те, что сумели прорваться через кордоны: в большинстве своем уже окровавленные, но еще не сломленные, и оттого кичащиеся своей временной победой, они налетали на их сомкнутые кулаки и кастеты. И тут уж ребята отрывались по полной….
А однажды Большак повез их всех в какой-то бойцовский клуб — так, во всяком случае, показалось вначале. На дверях был намалеван здоровенный кулак, под которым красовалась надпись: «Вместе мы сила!» Вышибала на входе любезно распахнул перед ними двери, протягивая для пожатия руку, но Большак не удостоил его даже взгляда. Они шли какими-то лестницами и коридорами, пока не попали в зал, задрапированный в красные, черные и белые тона. Первое, что бросалось в глаза с порога, был огромный портрет Гитлера в строгой точеной раме. Под портретом за массивным канцелярским столом, на котором впору было играть в пинг-понг, восседал некто неопределенного возраста, чем-то неуловимо схожий со своим арийским кумиром. По сторонам в гильзах из-под крупнокалиберных снарядов стояли флаги с хитрыми знаками, стилизованными под свастику.
Большак не счел нужным обходить широкий стол. Он просто перегнулся и, ухватив хозяина за плечи, выдернул его из кресла. «Тебе же было сказано, падла, никаких трупов!» — прорычал он и первым же ударом расквасил лицо местного фюрера. Тот взревел от боли, но даже и не пытался защититься, а лишь бормотал в ответ какие-то несуразные оправдания. Из всех этих возгласов Голованов понял, что речь шла о недавней драке, затеянной скинхедами на Черкизовском рынке. Тогда погибло двое кавказцев, а виновники так и не были найдены.
В какой-то момент Большак обернулся к своим и мотнул головой, показывая в зал, туда, где, затаив дыхание, наблюдала за экзекуцией молодая бритоголовая паства (Большак вообще был немногословен и командовал по принципу: делай как я). Ребята оживились, растягиваясь цепью поперек зала, и тут началось самое настоящее избиение младенцев.
После, на обратном пути, Голованов набрался смелости и, подсев к Большаку, спросил: «Слушай, а чего с ними нянчиться? Повешать бы, как котят, и дело с концом!» Тот хмуро взглянул в ответ, скривился и, как-то вяло пожав плечами, изрек: «Это политика». — «Ну и что?!» — не понимая, переспросил Голованов. «А на хрен нам эта политика? — пояснил Большак. — Нам нужен контроль!».
А потом, когда они уже вернулись на базу, он неожиданно подозвал Голованова и, словно возвращаясь к тому разговору, проговорил: «Ты не думай, они нам не братья. Мы просто их терпим».
Таким образом, по разумению Голованова, отряд занимал свою не вполне легальную нишу, выполняя за других ту грязную работу, которую делать в открытую считалось неприлично.
До самого вечера Голованов мотался какими-то закоулками, пытаясь вытряхнуть из памяти воспоминания сегодняшнего дня, но старик упорно не шел из головы. Был он чем-то похож на его деда, которого Голованов почти не помнил. Дед умер, когда Голованов пошел в пятый класс. Остались от него только несколько фотографий да потускневшие ордена. Помнилось, он любил играть с ними, а дед недовольно ворчал, а потом вдруг сажал его на колени и рассказывал, рассказывал, рассказывал… Ничего не сохранилось из тех рассказов, кроме ощущения колючих усов возле самой щеки да резкого запаха одеколона. После контузии дед почти оглох, и чтоб разговаривать с ним, надо было кричать в самое ухо. А еще дед не любил ванну и всегда ходил мыться в баню. Мать собирала ему белье в маленький чемоданчик, и с этим чемоданчиком он был похож то ли на шахтера, то ли на железнодорожника.
И друзей у него не было, никто к нему не ходил. «Всех забрала война», — жаловался он. Целыми днями, бывало, он просиживал в старом плетеном кресле с газетой, но почти не читал, а бесцельно глядел в окно. Голованов не мог понять, как это так, жить в таком глухом мире, где нет ни единого звука. Случалось, он крепко затыкал себе пальцами уши, чтобы представить, каково это, но ощущение глухоты ему совершенно не нравилось — безмолвный мир деда был не для него.
Как-то раз мать принесла продуктовый набор из гуманитарной помощи: спагетти, консервы, масло… «Alpin Kuh Butter», — прочитал вслух дед и поморщился. Повертел, разглядывая, в руках и спросил: «Откуда это?» — «Из Германии, наверное, — пожала плечами мать. — Какая разница?» — «Какая разница, какая разница, — ворчливо передразнил ее дед. — Большая разница! Благо бы еще из Америки или Британии. А этого добра, неметчины этой, нам и на дух не надо! Снеси обратно!» — «Вот еще! — взорвалась мать. — Вам бы все капризничать: то не так, да се не так. Лучше бы в очередях потолкались!»
Голованов давно приметил, что дед в доме был на особицу. Его терпели, и, бывало, это напряжение выплескивалось наружу.
«И толкались, матушка, и толкались! — не унимался, упорствуя, дед. — И поболее твоего, между прочим, толкались! А говна немецкого в рот не брали!» — «А как же трофейное, батя? — вступился отец. — Шнапс, сосиски, а? Или это тоже все побоку?» — «Тоже мне, сравнил! То ж трофейное! То ж своими руками добыто! А тут ленд-лиз прямо какой-то. Помощнички сыскались, мать их! Тьфу!» — сплюнул в сердцах дед. «Не хотите, так и не ешьте!» — отрезала мать и, хлопнув дверью, выскочила из кухни. А отец, пытаясь загладить обстановку, проговорил: «Давно уж все кончилось, батя. В гости друг к другу ездим туда-сюда, делегации разные… Вон и президент недавно из Германии прилетел, а ты все воюешь! Простить уж давно пора бы». — «Вот ты и прощай, коли такой беспамятный! — огрызнулся дед. — А за меня решать нечего! Лично я никого не прощал и прощать не собираюсь!»
Голованов опомнился от воспоминаний в каком-то сквере возле фонтана и недоуменно огляделся по сторонам. Казалось, только сейчас сидел напротив него старик, кормил голубей, улыбался детям… Голованов вздрогнул и выругался. «Дернуло же надеть эту спецовку! — подумал в раздражении он. — Мог бы придумать что-нибудь поинтересней». Но тут же и смирился как с неизбежным: «А, один черт, не одно, так другое! Всего не предусмотришь».
Сколько в его жизни было всякого, о чем приходилось сожалеть задним числом, и каждый раз он тешил себя надеждой: ну уж теперь-то все будет иначе! Но проходило время, груз прежних ошибок делал его мудрее, вот только случайность никогда не играла по правилам. И как ни пытался он приноровиться к ее ударам, не то чтобы предсказать, но даже почувствовать приближающийся выпад было ему не дано.
Голованов достал из кармана телефон и вызвал единственный хранящийся в его памяти номер. «Можешь говорить смело, аппарат нигде не пробит, — предупреждал его Кощей, — но не дай тебе бог позвонить по нему куда-то еще!»
— Слушаю тебя, — раздался знакомый хриплый голос.
— Так все, вроде, это… дела здесь закончил… вот… — Несмотря на полученное разрешение, Голованов так и не решался говорить по телефону прямым текстом.
— Лады. Возвращайся. Отдохнешь денька три.
Странно, но его собеседник тоже никогда не пользовался преимуществами закрытой линии. И более того — даже по возвращении он никогда не требовал от него подробных отчетов. Возможно, это его не вдохновляло?
6
Через два дня Николай Иванович возвращался в город, и Алик вызвался проводить друга до станции. Повсюду закипала жизнь: чесноком и луком ощетинились грядки огородов, упругой тяжестью наливались листья смородины, а белые свечки вишен таяли в прозрачном воздухе. В высохших лужах терпеливо затаились лягушки. Май вступал в свою силу, и земля спешила отдать последнюю каплю сохранившейся прохлады.
Николай Иванович был сегодня особенно задумчив. Не верилось — не хотелось верить в какие-то надуманные угрозы, но невольно вспоминался разговор, состоявшийся накануне. «Послушай, может, тебе деньгами помочь?» — предложил он Алику. «За предложение, конечно, спасибо, но это лишнее, — усмехнулся тот. — Да и скорее я помогу тебе, старина. Поверь, нас не обижали. Впрочем, мы и сами были не промах». — «А мы и теперь не промах!» — вмешался в их разговор Ганс и расхохотался так, словно и не было вокруг всех этих смертей. Остальные же переглянулись в улыбке, но сдержанно промолчали. Какая-то недосказанность таилась в их взглядах. Казалось, они боялись обронить случайное слово, чтобы лишний раз не побеспокоить хозяина.
«Что это нынче с ребятами? — улучив момент, спросил он у Алика. — Заждались команды «В атаку!»? — «Видишь ли, — произнес рассеянно тот, — вчера должен был подъехать Артур, все ждали. И вот, до сих пор нет».
Момент получился неловкий, и Николай Иванович не нашелся, что ответить.
…Шли молча. Говорить о пустяках не хотелось, а все серьезное, казалось, давным-давно оговорено. Первым нарушил молчание Алик.
— Я вот подумал, знаешь, — задумчиво проговорил он, — мы ведь с тобой в принципе совершенно разные люди. Я — бродяга, ты — домосед. И хотя мы знаем друг друга с детства, я никогда не понимал таких, как ты. Скажи честно, тебе не надоело всю жизнь торчать в городе, ходить на одну и ту же работу, встречать одних и тех же людей?
Николай Иванович ответил не сразу. Он смерил друга долгим испытующим взглядом, словно бы вопрошая, чего же, мол, тут непонятного? И привычно, по-профессорски снисходя до него, как до не слишком радивого студента, пояснил:
— Кто-то из великих сказал: «Тот, кто боится перемен, боится жить». Не слишком лестная характеристика, не правда ли? — усмехнулся он и, помолчав, продолжил: — «А кто избегает постоянства, кто всегда ищет нового, тот боится умереть». Так что в этом вопросе мы с тобой квиты.
— Забавно! — согласился Алик. — А в качестве компенсации судьба каждому подбрасывает его страхи.
— Ну, тебе-то теперь бояться нечего — ты уже умер, — выдавил грустную улыбку Николай Иванович.
— Да, жаль Рустама, — вздохнул Алик, — хороший был мужик. Вот уж кто действительно ни черта не боялся!
— А ты? Разве ты чего-нибудь боишься? — удивился Николай Иванович. — Вот бы уж никогда не подумал! Ну, ладно, в классе, помнится, ты был не самым рослым учеником. А теперь-то? Ты ведь можешь, как говорится, одной левой…
Алик в ответ рассмеялся, перебив друга:
— Чудак ты, Коль! Неужели ты и впрямь полагаешь, что страх связан со слабостью? Разве сила сделала кого-то бесстрашным? Нет, страх — это нечто внутреннее, иррациональное, он всплывает из потаенных глубин в самый неподходящий момент. И вся твоя сила превращается в прах, ты теряешь над ней контроль.
— Чего ж тут иррационального? Ты догадываешься — кто. Ты знаешь примерно — как. И вдруг — иррациональное? Не понимаю.
— Черт его знает, — задумался Алик. — Так-то оно так, а все равно — не по себе как-то. Будто за тобой из прошлой жизни пришли. Все уж давно отгорело, и ты позабыл, расслабился… Вроде как сидишь себе мирно с удочкой, ловишь рыбку, а тут вылезает на берег рак и свистит на всю округу, и тебе уже не до рыбалки. Понимаешь? Не должно быть такого, а происходит!
— А тебе не кажется, что кто-то хочет опять вернуть тот страх, тот, прежний. Понимаешь, о чем я?
— Ну, знаешь ли, — Алик в недоумении развел руками. — Конечно, если глядеть с общей, с философской точки зрения…
— А почему бы и нет? Кто не дает? Взгляни именно так. Вспомни свои ощущения лет эдак пятьдесят назад: это нельзя, то нельзя, и непонятно почему. Никто не объясняет. Все будто воды в рот набрали. — Николай Иванович задумался, уткнувшись взглядом в тропинку, и, помолчав, продолжил: — Страх — великая вещь. С помощью страха очень легко управлять. Особенно, если по-другому не получается.
— Ну, ты хватил! Так мы с тобой бог знает куда залезем!
— Это не мы залезем, это страна залезет. Или уже залезла… или затащили. Этот твой полковник, он же не один такой, у кого крыша потекла. Это же частный случай в рамках общей тенденции. Просто его вовремя никто не прищучил, а может даже, и не захотел, а теперь и вовсе лелеет.
— Так и меня, по твоей логике, никто не прищучил, я-то такой же! — перебил Алик.
— Ты исполнитель, чего с тебя взять? — отмахнулся Николай Иванович. — Да ты и не у дел нынче!
Алик на мгновение задумался.
— Нет, Коль, ты передергиваешь. Тот большой страх здесь ни при чем, и ты эти страхи не родни. Там действительно гениальный режиссер работал. Тайна была, согласен, но тайна совсем особого рода: спите, мол, спокойно, граждане, вас это все не касается. Такая вот забота была отцовская. А подразумевалось при этом, что граждане все равно через шторы станут подглядывать: за кем там нынче приехали? — Он как-то лукаво взглянул на Николая Ивановича и продолжил: — А тут иное, тут вроде как внушить хотят: а никакого убийства и не было. Сердечный приступ, отек легких, так, естественная убыль.
Уже на станции Николай Иванович вновь попытался расколоть друга на предмет его решения.
— Может, все-таки расскажешь, Алик, что вы там такое задумали?
И опять получил недвусмысленный отказ — друг умел быть твердым.
В электричку Николай Иванович сел раздраженный. И место ему досталось на солнцепеке, и напротив уселся какой-то неопрятный тип, и вообще… Конечно же он понимал Алика: его тайны — страшные тайны, за ними кроется смерть. Умом понимал, а в сердце кипела обида — друг называется! Невольно вспомнилось, как впервые Алик пришел к ним в класс: щупленький, с голодными глазами какого-то затравленного зверька, он долго не мог выбрать, к кому прибиться. Жесткий мальчишечий этикет требовал поставить новичка на место — в неписаной школьной иерархии это было правило. Правда, выдумывали эти правила те, кто ничего иного выдумать был не способен. Они не составляли большинства, они даже не были сильнее, но они были сплоченней, а еще — за ними была улица.
И вот однажды после уроков к Алику подошел Славка. Он был всего лишь посыльный, на побегушках, тот, кому поручают приносить черную метку. «Гитлера видел?» — ни с того ни с сего спросил он у Алика. «Нет», — опешил тот, ничего не подозревая. «Пойдем, покажу!» — ухватил его за рукав Славка и потянул за собой во двор, туда, где в пожухлой листве засыпали яблони школьного сада. Коля, Женька и их товарищи хмуро потащились следом. Там под деревьями уже собралась внушительная компания во главе с вожаком Васькой Пугачевым. Пугач — а иначе его никто и не величал — был вообще не из их, а из соседнего класса. И славился он тем, что в каждом классе засиживался года по два.
Когда они подошли, Пугач восседал на куче сметенных листьев и смолил папиросу. «Ты, что ли, новенький?» — лениво процедил он, поднимаясь навстречу. И не дожидаясь ответа, саданул под дых, отчего у Алика перехватило дыхание и невольно налились слезы.
Это было вроде посвящения в рыцари, вроде удара мечом по плечу, не так больно, как обидно. Алик пошатнулся, но устоял, в растерянности озираясь по сторонам.
«Гитлер капут, понял?» — оскалился в улыбке Пугач и сплюнул папиросу.
«Понял, — с трудом выдавил из себя Алик, — ну и чего?»
«Кто не с нами, тот против нас! Понял?»
«Ну, и чего дальше? — Алик уже пришел в себя и теперь демонстративно выказывал свою независимость. — Дальше-то что?»
«Так ты не понял, пацан, что ли?» — снова замахнулся Пугач, но в этот миг Коля и Женька выросли между ними. «Все, Пугач, отвяжись, хватит! Всем уже все понятно».
И Васька отступил, деланно безразлично оборачиваясь к своим. «Дальше, дальше, — передразнил он и осклабился. — А дальше папе мама не дает».
С той поры и сложилось их товарищество, их тройственный союз: Колька, Женька и Алик. Шли годы, но лишь крепла их дружба. Вместе гуляли, ходили на каток, смотрели первое послевоенное кино, вместе готовились к экзаменам. Мечталось, как будут взрослеть, учиться в одном университете, и не беда, что на разных отделениях, зато в одних и тех же стенах будут, как тогда говорилось, грызть гранит науки.
Святая наивность! Плохо же они знали Алика. Кто бы мог подумать, что увлекут его совсем иные материи? Что пропадет он на долгие годы не просто из поля их зрения — пропадет из страны, из пределов досягаемости простых человеческих отношений, став частицей той государевой силы, что позже заклеймят как аппарат подавления личности и свободы? Кто бы мог тогда во все это поверить?
Николай Иванович невольно вздохнул и огляделся по сторонам. Воспоминания давались легко, вот только возвращение в действительность было тяжко. Неожиданно его внимание привлек веселый шум за соседней скамейкой, там шла игра в карты. Судя по доносившимся репликам вроде «мое слово — пас», «два виста как с куста», «с маленькой ходи — век воли не видать», легко было догадаться, что играли в преферанс.
И Николай Иванович опять с головой нырнул в свои юные годы.
Кто из друзей впервые принес правила незнакомой игры, теперь это, конечно, забылось. Играли и прежде: в дурака, в козла, в тысячу. Играли тайком, прячась от взрослых, от их вечных занудных пореканий. К картам вообще было странное отношение — «развлечение буржуазии», «пережиток прошлого». И лишь у Алькиного отца находили они поддержку. «Человек должен познать все, — говаривал он, — а потом уж делать выводы: нужно ему это или нет».
Преферанс очаровал их сразу же, очаровал своей логикой, тактикой разнообразных комбинаций. К тому же о нем и Чехов писал — это уже отговорка для взрослых. В общем, классе в десятом они и думать о чем-либо ином позабыли. Конечно, оставались и шахматы. Но в шахматы втроем не поиграешь — это лишь, когда третьего нет.
Нет, на деньги они не играли — играли на запись. «Будем играть на деньги — всей дружбе конец», — по-взрослому рассудил Алик. И хотя выигрывал почти всегда он, но играть на деньги наотрез отказывался.
И все же, как так получилось, что их друг, их Алька, которому чести было не занимать, пошел служить в органы? Николай Иванович незаметно для себя опять сбился на ту же больную тему. Ведь никто из бывших школьных друзей не свернул на эту дорожку. Как-то неприлично это считалось, что ли. Вопрос требовал ответа, а ответа у Николая Ивановича не было. «Надо все-таки поговорить с Женькой», — решил для себя Николай Иванович и, не откладывая в долгий ящик, загоревшись, тут же из поезда позвонил товарищу: «Через часок заскочи — есть разговор». Просто ему страстно не хватало собеседника.
Разумеется, Николай Иванович вовсе не собирался выдавать тайну друга, но без этого и разговор не клеился, пустой разговор выходил у них с Женькой.
— Как это, никто? — возмущался Женька. — Ну да, из наших — никто, а Лешка Фадеев из параллельного, помнишь такого? И Катька Богуславская в следователи подалась.
Про Лешку-то он, признаться, забыл, да и немудрено. Лешка давным-давно ушел из их жизни, как и из жизни вообще. Лет через пятнадцать после окончания школы он застрелился прямо в своем кабинете. Темная была история, какое-то служебное расследование. Поговаривали, что замахнулся он на кого-то из сильных мира сего. Теперь уж Николай Иванович и не вспомнил бы.
— И все же, — не собирался сдаваться он, — это скорее исключение, чем правило. Помнишь ведь, было такое дворовое понятие: «западло»? Настучать, заложить друга, да и не друга, может, а так… Вообще такое отношение к милиции было, к краснопогонникам, — Николай Иванович покрутил пальцами в воздухе, пытаясь передать самое ту атмосферу. — Нельзя с ними сотрудничать — и точка. А уж чтобы самому служить…
— Ну, было, было, — кивнул, соглашаясь, Женька. — Воровская страна — и законы в ней воровские. Да только кто ж их придерживался? Ты да я да мы с тобой, — усмехнулся он, — да друзья наши — одноклассники.
— Не все, — невольно вырвалось у Николая Ивановича.
— То есть, как это? Что значит — не все? — осекся Женька. — Кого ты имеешь в виду?
Это была ошибка, но ошибка вполне поправимая. Промолчи Николай Иванович или обрати все в шутку, дело бы приняло совсем иной оборот. Вот только хотел ли он сам этого, не разъедала ли его душу обида на недосказанность друга?
— Ну, так… в общем… — попытался было он замять ситуацию, но сделал это крайне неловко, и Женька ему не поверил.
— Нет уж, ты давай, договаривай, — недовольно проворчал он. — Сказал «а», так говори и «б».
Женька вообще отличался категоричностью и не любил недомолвок. Он и в школе было прослыл ябедой, пока, повзрослев, друзья не приняли как должное его патологическую склонность к честности.
Николай Иванович задумался. Что для него в этот момент было важнее? Сохранить верность бывшему школьному другу? (А в том, что этот друг — бывший, никаких сомнений у Николая Ивановича уже не осталось. Хорошо, конечно, собраться, как прежде, посидеть, выпить, вспомнить былое… Но у него теперь свои друзья, свои тайны, своя жизнь, и ему, Николаю Ивановичу, в общем-то в этой жизни не было места.) Или же остаться верным другу настоящему, испытанному, который к тому же не поставит тебя перед дурацким выбором, не ворвется в твой дом со своими головорезами? Да и, в конце-то концов, другу принято доверять!
Все эти соображения россыпью искр промелькнули в голове Николая Ивановича, озарив его новым и совершенно ясным откровением: друг — это тот, у кого от тебя нет никаких тайн, ну, ровным счетом никаких. Впрочем, оставалась в запасе еще последняя спасительная соломинка, за которую и попытался ухватиться Николай Иванович:
— Но меня просили не называть…
— Кто? Кто просил?! — не дал ему договорить Женька.
— Алька, — совершенно нечаянно сорвалось с языка у Николая Ивановича.
— Так Алька же умер! — Женька с явным недоумением уставился на товарища.
— Алька? — усмехнулся в ответ Николай Иванович, и в этой усмешке слились и отчаяние, и решимость одновременно. — Алик и теперь живее всех живых, — неудачно пошутил он.
— Как это?! — у Женьки даже дыхание перехватило, но, взглянув в глаза Николая Ивановича, он понял, что тот не врет. — И ты молчал?! Какой же ты друг после этого?
От такого убийственного обвинения Николаю Ивановичу стало не по себе и теперь уж точно не оставалось ничего иного, как выложить все карты. Или почти все — о сборище Алькиных друзей на своей даче Николай Иванович упомянул вскользь. Не рассказал он и о том, что за Алькой идет настоящая охота, а так, мол, просто ищут.
— Да… Дела! — вздохнул Женька, впившись пятерней в затылок. — И он все эти годы водил нас за нос!
— Ну, это все-таки государственная тайна, ты ж понимаешь, — заступился Николай Иванович за Алика.
— Тоже мне — мадридский двор, — недовольно хмыкнул Женька. — А намекнуть он, конечно, не мог.
«Тебе намекнешь, как же!» — проворчал себе под нос Николай Иванович, а вслух спросил:
— Ну, и что ты обо всем этом думаешь?
— А что я, собственно говоря, должен думать? Ты тут, понимаешь, оглоушил, как обухом по голове, а я думай!
— Я в том смысле, что как это он так, а? Это же не милиция даже.
— Ну, тут-то все просто, допустим. У тебя вот отца репрессировали. Мой отец хоть и не сидел, а на фронте погиб, так зато брат его, мой дядя, через все лагеря прошел. И почти у каждого так: близкий родственник или дальний. Так что у нас с тобой уже иммунитет выработался против власти — никакого сотрудничества. А он-то этого ничего не нюхал, на своей шкуре не испробовал. Для него все за чистую монету было, так ведь?
— Пожалуй, что так, — согласился Николай Иванович. И все же какой-то червь сомнения еще грыз. Не верилось, что все решается так вот просто. — А скажи, — спросил он, — это везде происходит, во всем мире или в этом вопросе мы тоже особенные?
— Ты это про что? Про недоверие к властям?
— Ну, в общем смысле. Точнее, к силовым, к полицейским органам.
— Про весь мир не скажу, не знаю, да и вряд ли повсюду так. Скорей, это относится не к странам, а к маргиналам. Подумай, в том же Лондоне или Нью-Йорке, где-нибудь на Бродвее, скажем, кто ж их боится — полицейских? Или ненавидит? Они чистильщики, и не более того. А вот в Гарлеме — да, там совсем другое дело. Так там и обитают одни изгои.
— По твоей логике выходит, и мы все были изгоями? — усмехнулся Николай Иванович, но усмешка получилась горькой.
— А разве ты сомневался?
— Ну… не особенно. Но почему же мы так любили свою страну, а? Почему боготворили вождей? Почему так люто ненавидели врагов?
— А ничего иного рабу и не дано. Любовь да ненависть — вот и все его чувства. Тебе ли, литератору, об этом не знать?
Николай Иванович конечно же знал, и думал он примерно так же, с тем лишь уточнением, что самого себя он ни к рабам, ни к изгоям, естественно, не причислял. Как умудренное поисками философского камня средневековье полагало самое себя центром мироздания, вокруг которого вертится солнце, так и Николай Иванович считал все, происходящее с ним, чем-то в своем роде единственным и неповторимым, скорее исключением, чем правилом. Слишком уж нетривиальным казался ему собственный опыт: поздний брак, жена-студентка, развод по-итальянски, жизнь с престарелой матушкой… Порой ему верилось, что в его жизни заложен некий тайный смысл, он силился угадать его, но тщетно. Прошлое вызывало в нем лишь раздражение, будущее рисовалось смутно и загадочно, хотя и черпало в этом прошлом свое вдохновение, и ни то, ни другое не позволяли экстраполировать себя в настоящее. Оно, это самое настоящее, оставалось совершенно непредсказуемым.
— Просто мы всегда жили на обочине, на обочине цивилизации, — перебил его размышления Женька, — а думали, что живем в самом центре.
И в этих его словах была горькая истина.
— Ладно, чего там, не унывай, — подмигнул он, заметив настроение друга. — Прорвемся! Помнишь: «Как на Тихом океане тонет баржа с чуваками…», а? — отстучал он в такт костяшками пальцев. — «Поплавский — рок, Поплавский — буги, Поплавский съел письмо подруги».
— Угу, — хмуро кивнул в ответ Николай Иванович. — «Зиганшин — буги, Зиганшин — рок, Зиганшин съел второй сапог».
7
Новая встреча с Кощеем не сулила Голованову ничего хорошего. Об этом он догадался сразу же, еще не переступив порог, едва заслышав за дверью злобное рычание псины. Последнее время черный терьер встречал его весьма равнодушно, то ли привыкнув, то ли смирившись с ним как с неизбежностью. Но нынче, видно, что-то случилось — пес явно поддался настроению хозяина.
— Ну, что, сынок, в прошлый раз ты дал маху, — приветствовал его старик ехидным, если не сказать издевательским тоном. — Совсем не того подстрелил, за кого отчитался.
— То есть, как это? — опешил Голованов. — Что значит — не того?
— Ладно, ладно, — поспешил успокоить его старик, — это мой недогляд. Противник-то оказался хитрей, чем я думал.
Но Голованов уже рассердился. Он умел, когда нужно, чуть-чуть пережать свою роль.
— Что значит — не того? — с возмущением повторил он. — И вы так спокойно говорите об этом?! Как будто я вам не ту газету принес!
Старик не принял игры. Он лишь на мгновение сфокусировал на нем свой колючий иронический взгляд и как ни в чем не бывало продолжил:
— За него не переживай. Этот парень из той же обоймы, он тоже заслужил свою смерть. Днем раньше, днем позже — какая разница? Он бы все равно ее получил.
— Тогда какие проблемы? — фыркнул сердито Голованов. — Я вообще не понимаю, в чем дело.
Кощей не спешил с ответом. Он рассеянно глядел в окно, наполовину приглушенное тяжелыми шторами, словно бы там, за этим окном, пытался прозреть скрытые от глаз тайны. При этом кадык его непрестанно дергался, как бывает, если ритмично стучать языком по небу — Голованов угадал это движение. Старик будто взвешивал на языке подходящее слово, не решаясь выпустить его на волю.
— А дело в том, — произнес наконец он, — что ты разбудил глиняного солдата. — На мгновение он отвлекся от своего занятия, одарив Голованова загадочной улыбкой, и пояснил: — Помнишь терракотовую армию Цинь Шихуанди? Того, что построил Великую китайскую стену? — Голованов недоуменно пожал плечами, а старик продолжил: — Впрочем, это и неважно. Ты ж не на истфаке учился, верно? В театральном, помнится? Так о чем это я? — перебил он в задумчивости самого себя. — Ах, да! Так вот, мы всего лишь осколки той великой армии. Понимаешь? Ос-кол-ки, — произнес он нарочито по слогам. — Императору не помогли ни эта армия, ни эта стена, так-то! А что это значит, мой мальчик? — он выдержал долгую паузу и многозначительно изрек: — А значит это лишь одно — то, что и стену, и армию нужно отстроить заново! — Он опять замолчал, обронив тяжелый грудной вздох, и собака подошла и положила голову ему на колени. — А когда-то давным-давно на Халхин-Голе мне казалось: весь мир лежит у наших ног, — улыбнулся старик, поглаживая рукой покорную псину. — Святая наивность! Да… Юность не лучшая пора для упражнений в стратегии. Ты ничего этого, конечно, не знаешь и знать не можешь, но именно там ковалось наше оружие, мой мальчик! — Он задумался над чем-то своим, далеким, и неожиданно сменил тему: — Хорошие они ребята, китайцы, но уж слишком миролюбивы. Не слушай, что о них теперь говорят. Вот японцы — другое дело, но и они нынче не те, нет, не те. Только и знают, что клянчить свои острова, словно кот, пробравшийся в рыбную лавку. И все же они нам не враги, уж ты мне поверь. Нет, настоящая угроза придет из-за океана. Янки, британцы… цивилизация моря… Вся эта шушера, черт бы ее побрал! А ведь когда-то мы были друзьями — смешно! Впрочем, я и тогда не верил этим басням. Нас родила другая земля, мы совсем разные люди. Придет пора — и нам станет тесно в наших колыбелях, и вот тогда ты увидишь…
Голованов почти не слушал весь этот бред — безумие стариков сродни безумию нищих. Но и не слушая, он принужден был слышать и оттого производил в ответ самое глупое и самое безобидное действие из тех, что мог, — он кивал и поддакивал в такт стариковским перлам.
— Так что там насчет солдата? — улучив момент, вставил Голованов.
— Какого еще солдата? При чем тут солдат? — поперхнулся Кощей.
— Ну, которого я разбудил.
— Ах, да! Солдат… Солдат это так, образ. Просто теперь они должны обо всем догадаться. Дураки будут, если не догадаются. Так что твоя работа обретает некую новую остроту. Ты понимаешь, о чем я?
— Не вполне.
— Ну как же? Раньше-то ты шел к
ним, как в стадо овечек, а теперь перед тобой будет стая волков. И это уже очень серьезно, мой мальчик!
— Наверное, это и стоит дороже? — ухмыльнулся Голованов.
— Я тебе о серьезных вещах толкую, — огрызнулся старик, — а у тебя на уме одни деньги! Опомнись! Ну, прибавлю я тебе лишнюю тройку, пятерку сотен — не проблема. А что изменится? Где гарантия, что ты справишься, сделаешь все как надо?
— Так раньше-то вопросов не возникало.
— Раньше, раньше, — ворчливо передразнил старик. — Раньше и в тебе нужды не было, дурачок.
Голованов не откликнулся на стариковские страхи: чего они стоят, эти одуванчики? Вот митинги или демонстрации — да! Там не зевай — можно и по кумполу схлопотать запросто. Но это так, для себя информация, а шефа требовалось расщедрить.
— А они что, вооружены разве? — осторожно поинтересовался Голованов.
Старик посмотрел на него как на пустое место.
— Глупец же ты, ей-богу. Да они тебя голыми руками сделают, как муху, как клопа прихлопнут и фамилии не спросят! А ты — оружие! Зачем им оружие?
— Что ж раньше-то не прихлопнули?
— Раньше они о тебе и не догадывались, а теперь осторожными будут. Теперь у них на затылке глаза вырастут, словно у Януса! Этого-то, надеюсь, знаешь? — улыбнувшись, подмигнул он.
— Кто ж его не знает? — хмыкнул Голованов. — Это у него глазенки в разные стороны разбежались?
— Не мели чушь! — поморщился старик. — Янус двулик. Он прозревает прошлое и будущее одновременно.
— Я ж и говорю: один глаз — на Кавказ, а другой — в Арзамас.
— Тьфу ты, балбес! Ну как с тобой говорить?
— Да чего там, и так ясно! Вы уж все объяснили. Значит, того… будем заходить сбоку.
Старик опять поморщился, но промолчал, очевидно, махнув рукой на не в меру болтливого гостя. Он лишь постучал костяшками пальцев по массивной столешнице и, выразительно глянув на собеседника, встал и зашаркал в другую комнату. А подозрительная псина тут же поднялась следом и улеглась возле ног Голованова.
Чем-то весь этот разговор напоминал затейливую суету мух, усевшихся полакомиться медом. Было что-то вяжуще-сладковатое в речах старика, чего он, Голованов, никак не мог взять в толк.
Кощей вернулся через мгновение будто и вовсе никуда не уходил. В руках он держал увесистую пожелтелого картона папку, завязанную на тесемки. «Дело № …» — значилось на ней, а от руки была прописана цифра 309. Голованову показалось: чем-то древним пахнуло на него, неким виденным лишь в кино действом. То был реликт, антураж совсем иной эпохи.
— Откуда такая прелесть? — оживился он и впервые совершенно непринужденно улыбнулся.
— Оттуда! — покосился на него старик, мотнув головой куда-то за спину.
Он развязал тесемки и, порывшись, извлек на свет аккуратную пачку цветных фотографий стандартного подарочного формата.
Содержимое столь явно не соответствовало форме, как, к примеру, кондиционер хрущевке, что Голованов невольно хмыкнул.
— На вот, полюбопытствуй, — протянул снимки старик, — с кем будешь иметь дело.
Старик с фотографий никаких особых эмоций у Голованова не вызвал. Лицо как лицо, в меру худое, чуть-чуть восточное, внимательные глаза, нос горбинкой… В гораздо большей степени заинтересовал Голованова профессионализм фотографа. Он разглядел в нем, так сказать, собрата по перу: тот же почерк дотошного наблюдателя, то же умение выбрать верную позицию. Вот старичок выходит из каких-то дверей, вот разговаривает с продавцом магазина, а здесь, очевидно, прогуливается в парке и что-то рассматривает в высоких соснах, придерживая рукой шляпу. Снимки были горячими, буквально двухдневной давности, и сняты, как заметил Голованов, на хороший цифровик, а не на какую-нибудь там мыльницу. Но более всего заинтриговало Голованова то обстоятельство, что прежде Кощей такой прыти не проявлял, ограничиваясь двумя фотографиями — фас и профиль, — и это тоже что-то да значило.
— Ну, и как тебе объект? — поинтересовался старик, дав ему вволю насмотреться на фотографии.
— Но ветер подул — и тебя уже нет, кого ты хотел удивить? — промурлыкал вместо ответа Голованов какую-то полузабытую песенку и, сложив ладонь трубочкой, демонстративно приставил ее к губам.
— Да ты хоть знаешь, сынок, о ком говоришь? — не выдержав, взорвался Кощей. — Мастер спорта по самбо, в высоту прыгал, как Брумель — два метра без разбега, Гете читал в подлиннике, Гейне знал наизусть, стрелял из любого оружия! — скривился старик. — А танцевал как — паркет дымился! Каких людей теряем! — с горечью вздохнул он. — Теперь уж таких не сыщешь! А ведь всего лишь ШРМ заканчивал.
— ШРМ это что? — поинтересовался Голованов.
— Школа рабочей молодежи, сынок. Рабочей, — многозначительно повторил Кощей, — не вам, балбесам, чета! Да он пятерых… десятерых таких, как ты, стоит! А ты — «дунешь»! Выкуси! — сунул он под нос Голованову фигу.
— А чего фамилия такая странная и имя? — Голованов вслух прочитал титул папки: — Генрих Креузольт. Он что, немец, что ли? Пленный? Фашист?
— Дурак ты — фашист! Да ему всего-то пять лет стукнуло, как война началась. Отец — да, немец, участник Сопротивления. В Испании летал, между прочим. А мать… — он задумался, усмехнувшись чему-то своему, — мать башкирка. Странный альянс, не правда ли?
— Пожалуй что мезальянс, — хмыкнул в ответ Голованов.
— Хочешь быть самым умным? — перехватил его улыбку Кощей. — А кстати, что ты там имел против фашистов? Очень даже неплохая идея была по тому времени, и мы ее всячески поддерживали, пока они на нас не наехали. Это уж всегда так: две хорошие идеи не уживаются рядом.
Заявление старика прозвучало столь неожиданно, что Голованов растерялся и, не найдясь с ответом, ляпнул невпопад первое попавшееся:
— Но фашизм подавляет личность!
— Подумаешь, личность! Было бы чего подавлять, — отмахнулся старик. — Любое государство подавляет личность: одно — больше, другое — меньше. И потом, разве тебе нравится нынешний бардак? Все эти бомжи, геи, проститутки… Прикажешь терпеть эту шваль? Мир не дорос до свободы, мой мальчик. Он еще только лижет ее молочко.
— А вы, значит, хотите поставить всех в строй?
— Ну, зачем же так сразу? И почему всех? Только достойных. Нужна же хоть какая-то социальная сегрегация. Без крематориев, разумеется, без лагерей. А прочее быдло туда, — махнул он, — за сто первый километр. Пускай там нюхают свои портянки.
Голованов как-то натянуто усмехнулся:
— А разве такой темы еще не было? Помнится, еще дед с батей спорили. Сойдутся за телевизором — и давай фигней страдать. Сталин, Брежнев и прочая хрень.
— Брежнев, Сталин, — передразнил старик. — Не вижу ничего общего. Ты слышал звон, а сути не знаешь. Сталин в кулак страну сжал — ни одна сволочь не пикнет! А Леня мямлей был и слабаком, все просрал, что до него нажили! Правда, перед тем еще Кукурузник постарался — шут гороховый. За Америкой погнались, видишь ли.
— Дед говорил, Сталин под себя страну строил, — вставил Голованов.
— Да у тебя не дед, а философ прямо! — рассмеялся Кощей. — А в придачу еще и шутник! Где же он видывал, чтобы страну под другого лепили?
— Да ту же Америку взять: как написали один раз конституцию, так и не трогают — на все времена.
— Подумаешь, Америка! — недовольно перебил старик. — Да она вообще с краю, с другой стороны шарика, там все навыворот. Кто под нами вверх ногами? — хмыкнул он. — У нас не Америка, нам их свобода ни к чему.
— А нас об этом спросили?
— Еще бы! И не дважды ли, кстати? В семнадцатом и в девяносто первом. И многие ли на нее покусились? Так-то, мой мальчик, так-то! — старик даже крякнул, явно наслаждаясь собственным превосходством. — И потом всему на свете свой срок. Есть время демократий и время диктатур, и нынче как раз такая пора. Подожди немного и ты увидишь, как демократия сожрет твою хваленую Америку и не подавится, а после примется за всю прочую Европу. И глазом моргнуть не успеешь, как благодарные граждане будут кричать «Хайль!» новому Цезарю, или Гитлеру, или Сталину — какая разница, как его будут называть.
— А причина? Я не вижу причины, — все еще пытался возражать Голованов.
— Причина? — хмыкнул старик. — Да хоть те же негры и иммигранты. Живут себе на пособие и не хотят заниматься грязной работой. Зато хотят носить белые воротнички и стричь купоны где-нибудь на Уолл-стрит. Вот тебе и причина.
— Это проблема? — пожал плечами Голованов. — Получай образование — и работай.
— А они не хотят, понимаешь? Не хотят они твоего долбаного образования! Им надо все и сразу! — чуть ли не на крик сорвался Кощей. — Попробуй-ка объяснить дураку, что он дурак!
Кощей был по-своему прав, и Голованов невольно задумался. Вообще-то подобные споры не входили в его планы, но в разговорах со стариком глупо было придерживаться каких-либо планов — темы бесед возникали совершенно непредсказуемо.
Пауза затягивалась, и Кощей насторожился.
— У тебя какие-то сомнения, дружок? — осторожно поинтересовался он.
— Да все не могу понять, чем же вам не угодило это старичье? Черта ли за ними гоняться?
— Тебе это надо? — сверкнул на него Кощей. — Делай свое дело да получай бабки. — Но, поразмыслив, унял свою неожиданно вспыхнувшую злобу, добавил: — Жаль, конечно, но они не вписываются в современную концепцию. Они жили с другой идеей, мой мальчик.
8
Все случилось как в каком-то кошмарном сне или в кино, так, что Николай Иванович не сразу решился во все это поверить. Он как раз выходил из своего нежданно опустевшего дачного домика, теряясь в догадках, куда же это подевался Алик со своими друзьями, даже записки не оставив на прощанье, как словно из-под земли выросли люди в камуфляже и масках. Его ударили, скрутили, накинули на голову мешок и поволокли, сунув на сиденье урчавшей неподалеку машины.
— Одного поймали! — услыхал он первые слова кого-то из своих похитителей и в хрипе и треске рации скорее угадал, чем расслышал ответ:
— Отлично! Этого сюда, а Зотов со своими — на месте!
Машина дернулась, поползла по дачному бездорожью, проваливаясь, раскачиваясь с боку на бок, и Николай Иванович впервые осознал, что сам он теперь в наручниках и словно в тисках зажат меж двух бугаев на заднем сиденье. В голове крутились обрывки мыслей: «За что?» и «Почему я?», но доминантой среди них звучало: «А где же Алик? Неужели его тоже взяли?» Но ведь сказали же, что поймали одного, так, может, Алику удалось скрыться? И посреди этого отчаяния будто молотом по железу стучало и оттого гналось прочь нелепое и потому особенно навязчивое сомнение: «Неужто Женька? Ну, не гад же он, в самом-то деле!».
После той единственной нечаянно оброненной фразы охранники всю дорогу хранили упорное молчание, и Николай Иванович невольно начал выстраивать свою защиту от неведомых пока обвинений. От первого недоумения не осталось и следа — дело, как и предупреждал Алик, принимало слишком серьезный оборот, но раздражение осталось. Да кто они такие, черт побери, что позволяют себе хватать первого встречного? Так, ни за что ни про что, не спросив ни имени, ни отчества, не поинтересовавшись даже, тот ли это человек, которого они ищут. Но тут же встал перед ним и вполне резонный вопрос: а кого они ищут? Альку? — так не на того напали, и это очень скоро выяснится. Кого-то из его друзей? Но почему у него на даче? С какой стати? И что вообще означает это их: «Одного поймали»? Они что, собирались тут поймать целую дюжину? Одно для него вырисовывалось совершенно ясно: никого другого поймать им не удалось, а он для них не добыча. Он здесь вообще ни при чем. Он приехал к себе на дачу. Он живет, ни от кого не прячась. А то, что он знает Алика, что Алик его друг, — так это никакое не преступление, и потому задерживать его они не имеют никакого права.
Все эти мысли крутились в его голове, наслаиваясь одна на другую, и все же четкого понимания происходящего у Николая Ивановича не было. А его упрямая и ничем не обоснованная уверенность, что все должно немедленно проясниться, только сбивала его с правильного хода рассуждений.
Первым же неприятным испытанием для Николая Ивановича стало то, что помещение, куда его наконец привели, оказалось вовсе не кабинетом, как он наивно полагал, а самой что ни на есть настоящей камерой. Мутная лампа под низким потолком, голый стол да два-три табурета — вот и все, что он разглядел, как только с головы его стянули проклятый мешок. И ни оконца, пусть зарешеченного, замазанного краской, засиженного мухами, ни щелочки, куда бы пробивался дневной свет. И мысль о том, что тут, наверное, ничто не изменилось со времен отца, и, может быть, он тоже все это видел, стала первой нерадостной мыслью, пришедшей в голову. Это было как наваждение, словно бы мгновенный обморок, и Николай Иванович невольно тряхнул головой, прогоняя от себя непрошеное видение.
Впрочем, наблюдения его длились не более минуты. Дверь ржаво скрипнула, заставив вздрогнуть, и в камеру одновременно шагнули двое, за широкими спинами которых угадывался третий. Николаю Ивановичу тычком указали на табурет, скорее приказывая, чем разрешая. «Садитесь» и обычное в таких случаях и по сути формальное «имя, фамилия, отчество» послужило началом тому неприятному роду знакомств, которых вы вовсе не жаждете.
— Я хотел бы сделать заявление, — совершенно неожиданно даже для самого себя произнес Николай Иванович, прервав десятилетиями отработанную процедуру.
Троица переглянулась, выдавив подобие общей улыбки, и старший — тот, что вошел последним, сдержанно кивнул.
— Я, Сосновский Николай Иванович, профессор, преподаватель кафедры русского языка и литературы педагогического института, — начал свою тираду заключенный, — требую немедленно освободить меня из-под стражи. — Он на мгновение задумался над формулировкой, прежде чем перейти на ненавистный ему канцелярит, и заключил: — …как не имеющего отношения ни к каким выдвигаемым против меня обвинениям.
Лицо старшего скривилось в ухмылке, он явно рассчитывал услышать нечто более существенное.
— А вы уже знаете, в чем вас обвиняют? — лукаво поинтересовался он.
— Нет, но я… — замялся Николай Иванович и вовремя оборвал себя, сообразив, что все дальнейшие пояснения будут не в его пользу.
— Что ж, тогда не перебивайте, профессор, и будьте любезны придерживаться протокола.
И опять последовал легкий кивок, вернувший ситуацию в исходное русло: год рождения, место рождения, домашний адрес, состав семьи и так далее, и так далее, и так далее.
Как бы ни был занят Николай Иванович навязанным ему противостоянием, все же он не мог не заметить, что допрос вел фактически один человек. Второй исполнял обязанности секретаря, а третий — старший и, по всей вероятности, главный в этой компании — лишь внимательно слушал, сидя несколько поодаль. Порой он делал короткие записи в лежавшем перед ним блокноте. Но первый касающийся существа дела вопрос задал именно он:
— Ответьте, с какой целью вы прибыли сегодня в дачный кооператив на двести тридцать восьмом километре северной железной дороги?
Вопрос как вопрос, ничего необычного, казалось, в нем не было, и тем не менее он заставил Николая Ивановича нахмуриться.
— Скажите, — после некоторого раздумья произнес он, — а я должен был получить у вас разрешение?
В его словах, точнее, в самом их тоне можно было угадать оттенок иронии, но это как поглядеть. И все же те, кто самой природой государственности поставлен, скорее, на службу закона, взглянули на дело именно так.
— Тебе же было сказано, профессор, придерживаться протокола, отвечать на вопросы, а не дурочку тут валять. Не то ты у нас в сортир по разрешению ходить будешь! — сорвался второй по старшинству, вероятно, заступаясь за первого.
— А вы мне не тычьте, молодой человек, вам не по возрасту, — заступился за самого себя Николай Иванович.
— А я тебя еще и не тыкал, дедуля! А ткну, так от тебя лужа останется!
Возможно, ничем хорошим эта перепалка и не окончилась бы, особенно если учесть обстоятельства, место и время, но старший опять дал отмашку, переводя диалог в разговорную плоскость.
— Взгляните на фотографию, — подтолкнул он Николаю Ивановичу снимок, на котором тот сразу же узнал Алика. — Вам знаком этот человек?
— Да.
— И вас не затруднит назвать нам его имя?
В самой такой просьбе ничего предосудительного не было — имя, сообразил Николай Иванович, они наверняка знали и без него.
— Это Альберт Михайлович Донгаров, — произнес он и, чтоб сразу же избежать дальнейших уточнений, пояснил: — мой старый школьный товарищ.
— А с вами, оказывается, можно сотрудничать, — дождался он в ответ улыбки старшего, но воспринял ее по-своему.
Он вовсе не собирался поддаваться на их уловки, а если и снисходил до разговора, то только лишь в силу создавшегося положения.
— Что он вам рассказывал про свою службу?
Этот вопрос как бы на гребне первого успеха задан был младшим по званию, обидчиком Николая Ивановича — лейтенантишкой, как мысленно обозвал его он сам. Тогда как старшему он молчаливо согласился присвоить звание майора. Впрочем, даже если бы оба они не были в штатском, ему все равно не суждено было убедиться в собственной правоте — Николай Иванович совершенно не разбирался в знаках различия.
— Да ничего такого особенного Алик мне не рассказывал, — с нескрываемым раздражением произнес он. — Плавал, нырял… что-то еще в этом же роде. Я не запоминал подробностей.
— Он упоминал при этом какие-нибудь названия: города, страны?
— Если и упоминал, то только в общих чертах, вскользь. Африка, например, или Куба. Кажется, звучало название Катанга.
— Катанга?
Следователи — а, очевидно, именно таков был род их занятий — недоуменно переглянулись. Только теперь Николай Иванович спохватился, что они даже не представились, хотя для него в данном случае важно было не это. Он силился понять, куда они клонят и что такое тайное хотят выведать у него, чего он рассказывать им не должен.
— А что такое Катанга? — спросил младший.
— По-моему, это название какой-то провинции в Конго.
— В которой он воевал?
— Об этом он мне не рассказывал.
— Скажите, вы человек мало пьющий? — неожиданно спросил старший, тот, кого Николай Иванович произвел в майоры. И увидев недоумение в его глазах, уточнил: — Я в том смысле, что вы нам тут ничего не выдумываете насчет этой самой Катанги?
— Нет, конечно же… То есть я почти не пью.
— Тогда зачем вы прихватили на дачу две бутылки коньяка? Угостить своего товарища?
Вопрос был задан, и ответа типа «не знаю» он не подразумевал. Можно было, конечно, ответить: «Не ваше дело» или более мягко: «Это мое личное дело», но все равно выходило достаточно грубо. А нарываться на ответную грубость Николаю Ивановичу совсем не хотелось. К тому же все равно на дачу они ехали не за ним, а за Аликом, это было ясно как божий день. И потому большой беды в его признании не было.
— Да, — с трудом выговорил он, — хотя я не понимаю, почему должен вам рассказывать об этом?
— Но мы же с вами сотрудничаем, не правда ли? — улыбнулся старший.
Это была неправда, и все же Николай Иванович смущенно промолчал.
— А кто еще из его друзей присутствовал при вашей встрече?
Но о какой такой встрече идет речь? Ведь ни о какой конкретной встрече он им не рассказывал. Если они что-то и знали о встрече, так не от него — так примерно должен был бы рассуждать Николай Иванович, но так он не рассуждал. Потому что в памяти его в этот миг совершенно отчетливо всплыли слова друга: «Ничего я ему рассказывать не собираюсь, чтобы не подставить всех остальных». И опять иголка недоверия больно кольнула его в сердце.
— Какие еще друзья? — воскликнул он. — Я не понимаю, о ком вы говорите.
— Ну как же так, Николай Иванович. А вот соседи говорят, вас было четверо.
На самом-то деле их было пятеро, но в данном случае все это не имело никакого значения, потому как Николай Иванович понял наконец, чего от него добиваются. Им нужен был не просто Алик, им нужны были все!
— Нет, — устало произнес он, — никаких друзей не было. Возможно, соседи что-то путают.
— Да поймите же, Николай Иванович, эти люди смертельно опасны! Они, наверное, вас обманули, обвели вокруг пальца. Что они вам такое наговорили?
— Нет, — покачал головой Николай Иванович, — никаких друзей Алика я не знаю.
И тут младший следователь будто взорвался:
— Да чего с ним базарить, Пал Егорыч! Целлофан на голову — он нам вмиг всю банду сольет!
Николай Иванович чуть не вскочил, не веря своим ушам, а старший едва заметно поморщился:
— Ты в уме, Сань, а? Да он у нас тут же и съедет. У тебя прошлый месяц мертвяк был, нам только нового не хватает!
— А хочешь, — обернулся этот, названный Саней, к Николаю Ивановичу, — мы из тебя Чикатило сделаем? У нас тут как раз со вчерашнего две метелки парятся — они тебя враз опознают! Или можем наркобарона, а? Тебе чего нравится?
Николай Иванович похолодел. Сознание собственной беззащитности впервые обрушило его мир. Дом, институт, друзья, родная литература — все оказалось беспомощным под натиском этой злой, беспринципной и беспощадной силы. И что было толку ворошить прах отца, когда самого его, ни в чем не повинного, готовы были вот-вот растоптать, смешать с грязью?
— Мне нужен адвокат, — прохрипел Николай Иванович.
— Ах, тебе, сука, адвоката захотелось! — взревел младший, а старший почти одновременно с тем произнес:
— А для чего вам, собственно говоря, адвокат, Николай Иванович? Мы вас еще ни в чем не обвиняем. Мне казалось, мы просто беседуем.
Он грузно поднялся и пальцем поманил своего коллегу:
— Пойдем, Санек, покурим, а товарищ тут пока отдохнет, подумает. Побудь с ним пока, Сереж, — похлопал он по плечу секретаря.
Как только дверь за ними захлопнулась, секретарь, склонившись над столом, прошептал:
— Николай Иванович, а вы меня не помните? Я ведь учился у вас три года назад. Вы мне еще тройку за Чернышевского поставили. На экзамене. Перышков Сергей, помните?
— Перышков? — переспросил Николай Иванович.
— Нет, именно Перышков, через «е» пишется.
— А… Ну да, было что-то…. Ну, и как вы? — отрешенно спросил он.
— Да вот, сюда устроился, как видите… Уж третий год. — Он вдруг замялся и как-то виновато пробормотал: — Вы уж извините, что так… Не обращайте внимания. Это у них манера такая.
— Так сделайте же что-нибудь, голубчик! — спохватился Николай Иванович. — Сообщите в деканат, на кафедру, позвоните, умоляю! — схватил он Сергея за руку. — Может, через друзей, не сами. Ведь бог знает что они тут такого наговорили!
— Я сделаю, сделаю! — зашептал Сергей. — Держитесь!
После перекура ситуация неожиданно изменилась. Николая Ивановича подвергли очередной унизительной процедуре, заставив снять шнурки и ремень и вывернуть карманы, после чего препроводили в одиночную камеру. «Посидите тут, подумаете, — напутствовал его старший следователь, — может, что интересное вспомните», — и, оставив бумагу и ручку, удалился.
Это была самая длинная ночь в жизни Николая Ивановича, а он даже не заметил, как она началась. Тусклый свет в верхнем оконце его полуподвальной камеры незаметно сгустился в сумрак, дрогнули, надвинулись из углов тени, и где-то там, невидимый в глубине, робко застрекотал сверчок.
Оставшись наедине с собой, Николай Иванович долго не мог отделаться от неприятных переживаний допроса, а в том, что это был никакой не разговор, а самый что ни на есть натуральный допрос, у него не возникало никаких сомнений. Почему он не сказал им, что они не имеют никакого права задерживать его, что дружба с Аликом — его личное дело? Может, потому, что и сам не слишком этому верил? Остался ли Алик верен их прежней дружбе? Был ли до конца правдив в своих рассказах? Почему не посвятил в свои планы? Вопросы повисали в воздухе, вызывая лишь новую волну негодования в ответ: да кто они, эти люди, что взялись судить его? Кто дал им такое право?
Про освещение в камере опрометчиво забыли, а может, это было сделано с расчетом — мутная лампочка под потолком раздражала не меньше дурацких вопросов. И вот он ходил из угла в угол, наблюдая, как изменяется его собственная тень: то расширяясь, занимая собой едва не половину пространства, то съеживаясь, стыдливо прячась под подошвы ботинок. Ходил, повинуясь собственному ритму, повинуясь этому, будь он неладен, форс-мажору, и не мог справиться с самим собой. Порой ему казалось, что утро рассеет все неприятности, откликнется институт, выступит общественность. Не могут же они в самом деле бросить его на произвол? Не могут!
Но ночь находила новые лазейки для страха. А что если он не знает всех обстоятельств дела, если оно серьезней, чем говорил о нем Алик? Если ему предъявят обвинение в причастности, в укрывательстве преступников? И мысль о том, что он на краю гибели, уже не казалась ему такой уж неправдоподобной. Да, эти люди способны на все, он пешка в их грязных руках.
Ему нестерпимо хотелось знать, который час. Время обрело для него новый, почти сакральный смысл. Но часы, как и телефон, и прочую мелочь, у него отобрали, карманы вызывали отвращение своей пустотой. Николай Иванович живо представил, как вещи его разложены на столе перед следователями и те копаются в них, точно плотоядные мухи в забытом хозяевами обеде. Теперь-то уж они добрались до его записной книжки. Ничего они там не найдут, но само ощущение, что кто-то роется в его мыслях, вытряхивает душу, словно бесцеремонно украденный кошелек, заставляло его содрогаться от брезгливости. Он был на грани срыва и понятия не имел, сколько это может продлиться.
Он намотал уже сотни кругов по камере, когда обострившийся слух принес ему еще одно новое испытание. Он не сразу поверил ушам — откуда здесь взяться музыке? Разве, кто-то из охранников решил послушать приемник. Но нет, ошибки не было, он даже угадал мелодию, а первые же услышанные слова убедили его в собственной правоте. Это был старый, давным-давно забытый фокстрот. Старый настолько, что, когда Николай Иванович начал всерьез увлекаться музыкой, тот уже безнадежно вышел из моды. «В парке Чаир распускаются розы, в парке Чаир расцветает миндаль…» — пел вкрадчивый и немного слащавый голос; прислушавшись, Николай Иванович различил даже шипение заезженной патефонной пластинки. И чем-то невозвратно-далеким пахнуло на него из тех незапамятных лет, ароматом медуницы и флоксов повеяло из благоуханных садов его детства. Деревянные решетки оград, шпалеры, увитые плющом, девушки в каких-то нелепых теперь летящих платьицах, бумажные зонтики от солнца, милиция в белом, мороженщица катит по дорожке свою синюю коляску и ватага ребятишек следом… И повсюду веселье, смех. А вечером еще и танцы, и вздохи, и ласковый ветерок с реки. Светлая радость, что лентой довоенного кино лилась из окошечка летнего кинотеатра, охватила Николая Ивановича. И хотелось лететь, лететь, лететь и не возвращаться.
Музыка оборвалась так же нечаянно, как и началась. Она еще жила, потухающей струной трепетала в воздухе, когда новый звук, настойчивый и неприятный, перебил ее. Шаги, гулкие шаги по коридору, железный скрип чьей-то чужой двери, слова — не разобрать, сухие, словно треск сучьев, и снова шаги, теперь уже дальше, дальше… И вдруг — хлесткий, как удар бича, выстрел, смерчем взорвавший пустоту коридоров.
Николай Иванович вздрогнул. Мелкая серебристая пыль оседала с потолка, в нахлынувшей тишине он явственно ощутил стук собственного сердца. «Но это же невозможно! — пробормотал он, стирая со лба холодный пот. — Смертная казнь отменена!» Или все-таки нет? — усомнился в нем кто-то другой.
В изнеможении опустился он на единственный приткнутый к стене табурет. Что же делать? Покаяться? Рассказать все как есть? Но как же Алик? И Ганс, и все остальные? А где они? Их же нет, нет… Они уже где-то далеко-далеко. Ясно же было сказано: «Одного поймали». Одного! Так что никому он не навредит, никого не выдаст, раз все разбежались. А может, и недалеко? Может, затаились рядом и ждут? На них объявят охоту. А они и понятия не имеют, что врагам уже все известно, что осталось лишь взять след. Но их и так ищут. Что нового может он о них рассказать? Как вместе сидели за столом, пили водку, закусывали? Да он и фамилий-то их не знает, он даже толком не запомнил их лиц! И потом, разве он брал на себя ответственность за них? Если и брал, так только за Альку. Как он тогда спросил: «Надеюсь, все останется между нами?» Но про Альку известно и так, про него они уже все знают. А другие? Кто они? Алькины друзья — не его. Конечно, в определенном смысле это предательство. Или, сказать мягче, — некрасивый поступок. Но почему страдать должен именно он? Почему, не спросив, они подставили его под удар? Сами-то, небось, на свободе! С какой стати он должен за всех отдуваться?
Бледные листы бумаги, что оставил следователь, и притягивали, и отталкивали одновременно. Всего несколько слов — и он на свободе. Лишь несколько слов, совсем немного. И с чего это Алик решил, что война объявлена всем? Кто дал ему право решать? Лично он, Николай Иванович, так не думает. Конечно же королевство не без изъяна, но не до такой же степени! А этот «вечный бой, покой нам только снится» — это все игры, их игры. Так пусть и играют сами с собой, коли до сей поры не наигрались. Сами с собой. А он устал. Устал. У него совсем другие интересы и другая жизнь — своя жизнь. Пусть оставят его в покое. Жаль, что все так нелепо сложилось, что им так и не удалось договорить. Тогда не удалось. Не удалось быть вместе, как хотелось. Когда-то хотелось. Давно. Не случилось. А этот спецназ…. Или это был не спецназ? Ведь спецназ не носит повязок, а у них повязки. И у Алика с Женькой повязки. И у него, у него теперь тоже повязка. И он тоже с ними. Они все вместе. Всегда вместе. И это хорошо — вместе. Потому что сейчас будет музыка. Их музыка. И негры. Странно…. Разве негры поют по-русски? А почему бы и нет? Почему бы им всем не петь по-русски? Нынче весь мир поет по-русски. И что-то знакомое, где-то слышал, не вспомнить: «В парке Чаир голубеют фиалки, снега белее черешен цветы…». А как здорово! Только негры так могут! Нет, не зря они катили в Москву, а? И Алька кивнул — не зря! И Женька тоже смеется. А этот толстый на контрабасе… Кто б мог подумать, что у него такой фальцет? «Помню разлуку так неясно и зыбко, в ночь голубую вдаль ушли корабли». А тот, на ударных, — кто он? Он ведь не негр? И почему в шляпе? Почему подошел, улыбнулся? Разве они знакомы? Взял листы и разорвал их. Просто разорвал и все. И что-то кольнуло: отец? Неужели?! «Отец!» А тот приложил палец к губам и растаял в стене.
И больше Николай Иванович не помнил ничего. Он спал.
9
Станция Удельная встретила Голованова строем могучих сосен и долгожданным после московского удушья дождичком. Бесконечные ветки путей, пешеходный мостик, сырые покосившиеся заборы… Все как обычно неприютно и безрадостно. Поначалу новое место вызывало у Голованова приступ меланхолии — разве можно здесь жить? Но проходили дни, и привычка брала свое. Те же улочки, те же дома… Или солнце глянуло на них по-другому? Вот и нынче было ему не по себе: какой-то непокой грезился в этих высоких соснах. «Да и черт с ним, пройдет! — отмахнулся он. — Бывали места и похуже».
Перрон опустел, немногочисленные приезжие разошлись по домам, торопясь навстречу своим маленьким заботам, и Голованов остался один, озираясь в поисках источника информации. Стена возле билетных касс пестрела объявлениями. Здесь хватало и спроса, и предложений. «Молодая семья из трех человек, русские, без вредных привычек, снимет на месяц…», «Сдается дачный домик, две комнаты и мансарда, сад 6 соток…», «10 июня на перроне утеряна сумка с документами на имя Петрова В.В. Нашедшего просят…», «Щенка таксы отдам в хорошие руки…». Голованов пробежал глазами этот калейдоскоп людских надежд и разочарований и выбрал объявление наудачу.
На звонок откликнулась девушка, назвала условия и, поторговавшись с ней для приличия, Голованов согласился. «Ключ возьмете у соседки — голубенький домик напротив, зовут Роза Павловна. Скажете: «От Светы». Деньги отдадите ей же. Я ей сейчас перезвоню, — пулеметом прострекотала девица и добавила: — Будет что непонятно — звоните».
На этом первая часть дела была завершена, но это была лишь самая незначительная его часть.
Всякий раз, попадая в незнакомое место, Голованов в первую очередь старался оценить степень исходящей от него угрозы. Как бы ни были города похожи один на другой, как бы одинаково беспечны и нелюбопытны ни оставались люди, все же некий дух места накладывал свой неповторимый отпечаток на их обитателей. Особенно же это касалось небольших городков и поселков. Складывалось странное впечатление: чем менее постарались граждане в вопросе преумножения своего рода и расширения среды обитания, тем сильней подстегивал их дух к сохранению собственной исключительности. Это обстоятельство Голованов подметил давным-давно, еще на пороге зрелости, и теперь умело пользовался своим наблюдением. Главная его стратегия заключалась в том, чтобы вычислить этот усредненный тип обывателя, вжиться в образ и тем самым слиться с действительностью. Наверное, ему бы цены не было в какой-нибудь разведшколе. Возможно, шпионы — это вообще несостоявшиеся артисты или наоборот — с какой стороны посмотреть.
Так или иначе, но мимикрия Голованова была почти врожденной. Он и прежде-то не был избалован вниманием. Если его и замечали, то лишь затем, чтобы спросить, который час, или попросить огонька. Он был неприметен, как одуванчик среди лугового разноцветья. Что он для этого сделал? Да в общем-то ничего. Просто удачно воспользовался тем, что предоставила мать-природа.
Домик по указанному адресу оказался на редкость симпатичен и прост. Весь он утопал в зелени яблонь и барбариса, а чуть на отшибе возвышались все те же знакомые сосны. Словоохотливая Роза Павловна, провожая Голованова до самых дверей, не уставала нахваливать прелести местной жизни.
— Тут у нас благодать, тишина! Даже белки запросто бегают. А воздух-то, воздух какой — не надышишься! Я вот тоже, что ни лето, мансарду сдаю. Все ж какая-никакая прибыль. Только нынче все студенты больше пошли, а народ не понимает, катит на море. Вы-то вот, небось, не поехали, и правильно, и правильно…
— Вы смеетесь? — улыбнулся ей Голованов. — Это на аспирантскую-то стипендию?
— Ох уж, да! — закивала она головой. — И не говорите! В наше время за деньгами не угонишься.
Голованов и не заметил, как определил свою социальную принадлежность — слово само сорвалось с его языка. «Аспирант? — усмехнулся он про себя. — Что ж, пусть будет так». Аспирантом он еще не был.
В той жизни, что за пренебрежимо малой давностью лет можно было бы вполне считать и этой, образование имело для Голованова совершенно определенный смысл. Оно позволяло выделить себя из толпы, доказать, что ты выше и лучше, хотя бы лишь самому себе. Иногда он задавался глупым вопросом: а зачем ему такие доказательства? Ведь он это он, он-то знает себе цену, знает, на что способен. Но ответа на этот вопрос у него не было.
Он забыл или почти забыл одну давнишнюю историю. Случилась она классе в четвертом-пятом. В тот год они только-только перешли в среднее звено, сменив классного руководителя, толком не привыкнув еще к новым учителям. Словно беспомощные котята, тыкались они в коридорах — школа стала неожиданно большой и непонятной. Как-то раз на уроке литературы молоденькая учительница попросила выучить какое-нибудь лирическое стихотворение Пушкина. Куда она подевалась с тех пор? Голованов и думать о ней забыл, она пропала из их жизни так же неожиданно, как и возникла.
Дома мать все перевернула в поисках Пушкина — безрезультатно. Отец заявился под вечер и, как уже стало обычно в те годы, навеселе. На все расспросы отвечал уклончиво: «Другу дал почитать», но и в голосе его, и в глазах был столь явный оттенок фальши, что даже он, Голованов младший, все понял. «Ну и гад же ты после этого, — выплеснула свое отчаяние мать. — Боже, как же я от всего устала!» На шум притащился из кухни дед и, подобно мудрому Соломону, все рассудил по-своему: «Ладно тебе, Анюта, не кипятись. Я, чай, и сам кое-чему учился. Значит, будем вспоминать». И потащил его с собой подальше от родительского скандала. «Ну и черт с вами, разбирайтесь тут, как знаете! — бросила в сердцах мать. — Я и так уже на дежурство опаздываю!» Она убежала в свою больницу, они же с дедом допоздна просидели на кухне, разучивая полузабытое им стихотворение.
А наутро деда не стало. Он не проснулся в свой урочный час, просто взял и не проснулся. Впервые Голованов так близко столкнулся со смертью, но страха, как представлялось ему раньше, не было, а было лишь обыкновенное мальчишечье любопытство.
На уроке он без запинки прочитал выученное накануне стихотворение: «Горные вершины спят во тьме ночной…» и очень удивился вопросу учительницы: «Почему ты решил, что это стихотворение Пушкина?» — «Мне сказал дедушка», — смутился он. «Тогда, может быть, ты спросишь у него?» Но в ответ он почему-то расплакался.
В тот раз учительская загадка так и осталась неразрешенной. Лишь позже выяснилось, что это перевод Лермонтова из Гете. «Как же так, — думал он тогда, — дед умер, не узнав что-то очень важное. Умер в заблуждении». Повзрослев, он понял еще и другое. Очевидно, словами: «…подожди немного, отдохнешь и ты» дед как бы прощался с ним, предчувствуя близкую смерть, и было для него совершенно не важно, чьи это стихи — Пушкина или Лермонтова. Иное заботило его.
Однако та первая давняя установка оказалась сильней — он не позволит себе допустить такую ошибку, он не позволит себе умереть в неведении. Надо успеть узнать все, а иначе зачем мы рождаемся на свет? Дед не успел, не справился со своей задачей, он так и умер, не исполнив свой долг. Наверное, ему никто этого вовремя не объяснил. Зато уж он, Голованов, своего не упустит.
Примерно так рассуждал он в те юные годы. Позже это как-то истерлось, заслонилось другим, но суть осталась: сначала образование, все остальное — потом. Те же, кто не соответствовал установленному им правилу, — неудачники, и этим все было сказано. Им не могло быть места ни среди его друзей, ни даже среди врагов.
Станция Удельная предъявила Голованову совершенно иные условия для решения поставленной перед ним задачи. Мир поселка был тесен, словно шахматная доска. Здесь любой его шаг был очевиден, как намерение пешки, рвущейся в дамки, и потому ни о какой привычной тактике не могло быть и речи. А коли так, коли стать невидимкой нельзя, так нечего и пытаться. И вообще: кто сказал, что невидимость лучший способ защиты? Существуют методы и покруче. Значит, нужно поставить себя так, чтобы от тебя шарахались, будто от чумы, затыкали уши и глаза, как от назойливой ненавистной рекламы. И начинать надо было немедленно.
В болтливости Розы Павловны Голованов не сомневался — через день-другой половина поселка будет знать о новом отдыхающем. И потому свой первый визит он решил нанести именно ей.
— А, это опять вы? — встретила его соседка. — Стряслось что-нибудь?
— Да в общем-то нет. Просто визит вежливости. Я ведь никого здесь не знаю, — приветливо улыбнулся он ей. — Так, зашел поговорить на минутку.
— Вот и прекрасно, и прекрасно! — расплылась в ответной улыбке Роза Павловна. — У меня как раз и самовар на подходе. Посидим, чайку попьем. А то ведь у нас тут и поболтать-то не с кем.
— Я, как бы это сказать… Не совсем поболтать, — смутился Голованов, — я здесь почти что на работе.
— Да ну? — изумилась Роза Павловна. — И какая ж у нас тут может быть работа? Уж не по лесной ли части?
— Социологические исследования, — развел руками Голованов, словно извиняясь за такую прозу жизни. — Проблемы девиантного поведения населения пригородов в городской среде мегаполиса.
— Надо же, как интересно! — оживилась Роза Павловна. — У всех, знаете ли, столько проблем, столько проблем! Скажите, а пенсию нам в результате этих ваших исследований не прибавят?
— Ну, это вряд ли, — сочувственно улыбнулся ей Голованов, — это все-таки научное исследование, не более.
— А… — протянула Роза Павловна, и было видно, что на этом ее живой интерес к теме иссяк. — Тогда давайте чай пить.
Самовар на веранде, мятные пряники, вишневое варенье — домашним уютом повеяло от этой провинциальной картинки, и Голованов невольно расслабился. В конце концов, мог он себе это позволить после стольких недель и месяцев постоянного напряжения? Роза Павловна без умолку болтала, вздыхая, рассказывала о каких-то своих неурядицах, не забывая при этом потчевать гостя. Совсем как мать, думал, глядя на нее, Голованов. Впрочем, все старики похожи, с возрастом у них появляются общие болячки, общие темы для разговоров. Вот и мать последнее время, что он ее видел, все вздыхала — слова не скажет без этого. Как будто в самом этом акте был сосредоточен некий глубокий смысл, некая договоренность со Всевышним: «Взгляни, Господи, как мне плохо!» И он должен был обязательно посмотреть и ужаснуться.
«Неужели и я доживу до такого же вот маразма? — думал иногда Голованов. — Или, как говаривал Пьер Безухов, я это буду уже не я, а кто-то совсем другой?» Впрочем, подобное в его жизни уже случалось, и, размышляя над загадкой личности, Голованов никак не мог связать себя сегодняшнего и того угловатого пацана, что сидел когда-то на коленях у деда, слушая байки про далекую непонятную войну. Было ли у него с ним что-то общее? Пожалуй, что и нет. Разве только лишь память? Хотя, если честно, особенно-то и вспомнить было нечего. Скандалы в семье? Безденежье? Первую глупую любовь? «Отрезанный ломоть», — любил приговаривать дед. Отрезанный ломоть.
— А что же вы чаю себе не подливаете? — отвлекла его от неприятных размышлений Роза Павловна. — Давайте, давайте, пока горяченький!
— Так вы разрешите задать вам несколько вопросов? — опомнился Голованов. — Это по моей работе.
— Что ж, задавайте, конечно, коли надо, — вздохнула соседка. — От меня не убудет.
— Прежде всего, Роза Павловна, скажите, пожалуйста, вам часто приходится бывать в столице?
Голованов постарался начать как можно официальней, сложив перед собой стопкой листы с заготовленными вопросами.
— Ну, уж раз-то в неделю всяко: по магазинам пробежаться, на рынок… В Москве ведь многое дешевле, а у меня к тому же проезд бесплатный. Вот, например, на прошлой неделе…
— Погодите, погодите, — прервал ее Голованов, — давайте все-таки не отклоняться от темы, а то нам и целого дня не хватит.
Роза Павловна обиженно поджала губы, но промолчала.
— Вот такой вопрос, подумайте, — продолжил он: — что вас больше всего раздражает в
городе? И возможные варианты ответов: транспорт, люди, реклама, непривычный ритм жизни.
— Ой, миленький, да все раздражает! Все! Вот все, что сказал — и шум, и гам, и толчея, — все и раздражает!
— Тем не менее, надо выбрать что-то одно. Подумайте. Может, все-таки последнее — непривычный ритм?
— Ну, пусть будет так, пусть так, — согласилась Роза Павловна, — только, если подумать, так все раздражает.
— Следующий вопрос, Роза Павловна: каким транспортом вы пользуетесь чаще всего? Метро, общественным наземным, то есть троллейбусом, автобусом, трамваем, маршрутками или просто такси?
Голованов вошел в раж. Он интересовался и длительностью пребывания в городе, и средней стоимостью покупок, весом багажа, наличием сидячих мест в транспорте, боязнью краж и даже пользованием туалетом и еще много, много чем другим. Вопросы сыпались на бедную Розу Павловну один за другим, и она все чаще поглядывала на стопку листов, сложенных перед ее мучителем.
Часа через два Голованов выдохся.
— Ну, уж я нынче наговорилась всласть, язык намозолила! — Роза Павловна откинулась в изнеможении на спинку кресла. — Неделю теперь и рта не раскрою! И что у тебя только за работа такая? Этак ты каждого будешь спрашивать?
— Каждого — не каждого, а человек сто — сто пятьдесят опросить придется. — Голованов недвусмысленно развел руками — мол, ничего не поделаешь — работа.
— Да… Скажите на милость, чем люди занимаются, — задумчиво проговорила она, и было непонятно, чего больше в ее словах — похвалы или порицания.
А вот Голованов своей работой остался вполне доволен. «Еще десяток несчастных, — прикидывал он, — и от меня начнут прятаться».
10
Николая Ивановича отпустили так же неожиданно, и не объясняя причин, как и взяли. Просто в камеру с утра вошел незнакомый офицер, принес вещи и, не глядя в глаза, произнес: «Извините. Произошла ошибка». Вот и все. А Николай Иванович и не требовал никаких объяснений — ему с лихвой хватало возвращенной свободы. Он и обидчиков своих видеть не желал, но на выходе как назло нос к носу столкнулся со старшим следователем, поднимавшимся навстречу с пластиковым стаканчиком кофе в руке. «А, профессор! — как-то странно хмыкнул тот. — Вы уж нас извините, ошибочка вышла». И уже разминувшись с ним, обернулся, бросил вдогонку: «А вот бумагу-то могли бы и не рвать — казенная. Бумага-то чем виновата?»
Впрочем, Николаю Ивановичу не было никакого дела до этих подробностей. Голова после жуткой ночи тупо болела, а затекшие мышцы требовали немедленного отдыха. В некоторой прострации дотащился он до трамвая и едва не уснул, дожидаясь своей остановки.
Утро занималось туманное, с намеком на нудный моросящий дождь, и в запотевшем салоне трамвая зевали редкие по случаю выходного пассажиры. Улицы были почти пустынны, лишь возле магазина на остановке крутились какие-то неопрятные личности. Они расступились, пропуская Николая Ивановича, и только один из них, тот, что сидел на ступеньке у окошечка для приема посуды, неожиданно окликнул:
— Эй, дяденька, дай грошиков, похмелиться охота. — Николай Иванович поморщился и шагнул, отшатнувшись, мимо, но попрошайка загнусавил вслед: — Подай Христа ради, коли опять в кутузку не хочешь!
Николай Иванович в недоумении оглянулся, и тут его сонливость будто ветром сдуло — на ступеньках сидел Алька! В какой-то немыслимой куртке, из рваного плеча которой торчала вата, в стоптанных на босу ногу башмаках, был он неотделим от этой уличной стаи, что с утра пораньше промышляла в поисках спиртного.
— Ну, что уставился дядя? Человеков не видел? — оскалился Алик подобием улыбки и тут же, переходя на быстрый шепот, пробормотал: — В семь вечера на нашем месте.
Николай Иванович едва не задохнулся от нестерпимого желания тут же что-то спросить, ответить. Как же это? Почему? Но Алька так выразительно протянул ему грязную ладонь, что все слова невольно застряли в горле. Он торопливо порылся в кармане и, высыпав ему какую-то мелочь, пошел не оглядываясь. «В семь часов, в семь часов, — как заведенный твердил он дорогой, — в семь часов на нашем месте».
Отдохнуть Николаю Ивановичу так и не удалось — какой уж тут, к черту, сон? Полежал, поворочался с боку на бок, прокручивая в голове все мыслимые и немыслимые перипетии, и не утерпел, сорвался задолго до назначенного срока.
«Наше место» — это был такой пятачок в центральном парке неподалеку от школы. Когда-то здесь стоял летний кинотеатр, возле которого была разбита клумба и красовалась гипсовая скульптура авиатора. По вечерам с веранды напротив играл духовой оркестр, на скамейках уединялись парочки, и в сгустившемся сумеречном небе грезились полеты к далеким неведомым мирам.
Они любили прибегать сюда после уроков. Днем здесь бывало немноголюдно, и можно было, не стесняясь окружающих, подурачиться, помечтать или просто сыграть в расшибалку на вытоптанной лужайке за кинотеатром. С тех пор тут все изменилось: снесли обветшавший кинотеатр, вслед за ним отправились веранда и статуя, и образовался пустырь, а спустя несколько лет на этом месте вырос обычный пивной ларек. Если это называлось прогрессом, то что же тогда такое регресс?
Об этом и размышлял Николай Иванович, сидя за кружечкой пива под белым пластиковым тентом. Он специально выбрал такую позицию, чтоб уж на этот-то раз Алька не смог подойти незамеченным. «Ведь черт его знает, как у него получается», — ворчал Николай Иванович, забыв о том, что это он сам всегда подходил к другу и всякий раз не мог его распознать.
Вот и на этот раз Алик, ничуть не таясь, сел рядышком, и опять Николай Иванович принял его сперва за постороннего.
— Алька, это ты, черт? Ты жив и свободен? — воскликнул он радостно, едва лишь тот поздоровался.
— Как видишь, — равнодушно пожал плечами друг.
— А меня-то, меня! — едва не захлебнулся словами Николай Иванович.
— Я знаю, — перебил Алька, — я же предупреждал: не болтай. А ты меня не послушался.
— Но Женька! Женька-то свой, наш! Как же это? Он и так на меня обиделся, что поздно сказал. Как же он мог, а?
— Женька здесь ни при чем, я не верю.
— А кто же? Кто?!
— Ты забыл, где живешь? Забыл, что у стен сперва вырастают уши, а уж потом на них клеят обои?
Николаю Ивановичу совсем не нравилось то напускное равнодушие, с каким слушал его друг.
— Нет, ты просто не представляешь, что я пережил, Алька! Чего они мне там наговорили! — И он принялся было рассказывать и про допрос, и про музыку, и про казнь…
— Да, славненький спектакль тебе показали! — усмехнулся Алик. — Скажи спасибо, что к конторщикам попал, а не в ментовку. У тех с шутками плохо.
— Так ты считаешь, это был розыгрыш? — не поверил Николай Иванович.
— Святая наивность! За это тебе и воздастся! — вздохнул Алька.
Но Николай Иванович взорвался:
— И ты так спокойно говоришь мне об этом?! Но это же натуральное издевательство! Это ж такие люди… Это нелюди! Как же ты мог служить им, Алик?!
И, пожалуй, впервые за сегодняшний день Алька по-настоящему рассердился.
— Я служил не им, а стране. Служил так, как считал нужным, как понимал это. И не надо передергивать, Коля, — все мы тогда так понимали.
— Но разве ты не заметил, что за типы вьются вокруг тебя? С твоим-то умом ты этого не понял?
— А люди были разные, Коленька. Помнишь, когда я только что пришел в школу, в класс, этот ваш авторитет, ваш Пугач, захотел поставить меня на место? Помнишь? Это было не ваше правило, но разве вы против него возражали? — Конечно же Алька был прав, тысячу раз прав — ничего не попишешь. Повисла неловкая пауза и, разрежая обстановку, Алик вслух прочитал вывеску над ларьком: — «Три пескаря». Надо же! — усмехнулся он. — Кто-то еще читает Толстого.
— Это опять твой полковник, как думаешь? — не поддержал его веселья Николай Иванович.
— Вряд ли. Огласка ему ни к чему. Хотя, если честно, не знаю. Не зна-ю, — повторил он по слогам.
— А как же ребята?
— За них не волнуйся, с ними все в порядке.
То, о чем в свое время умолчал Алик, не считая нужным посвящать в эту тайну друга, выглядело очень просто. Отряд разбивался поровну таким образом, чтобы за каждым следил напарник. Теперь задача поимки убийцы обретала вполне зримые очертания. Роли были распределены, отсутствующие проинформированы, и, собственно говоря, оставалось лишь попрощаться с гостеприимным хозяином дачи, как в дело неожиданно вмешались спецслужбы. Когда Алик говорил другу, что не знает причин происшедшего, то нисколько не кривил душой — он и сам был в таком же недоумении. Можно сказать, что им просто повезло. Буквально за пять минут до нападения на дачный домик Ганс, обладавший сверхъестественным чутьем, крикнул: «Рассредоточиться!» Команду не пришлось повторять дважды, и все дальнейшее Алик наблюдал из надежного укрытия, единственно, переживая за участь друга.
Версию о руке полковника (а она, естественно, первой пришла на ум), он отмел сразу же. Зачем было делать явно то, что до сих пор делалось тайно? По меньшей мере, это было бы совсем неразумно.
Ясно было одно: Колька проговорился, потому как поверить в случайность происшедшего было еще труднее. Но и обвинять во всех грехах Женьку он не спешил. Да, Женька со школьной скамьи слыл правдолюбом, и никакой тайны доверить ему никто бы из них не решился. Но правдолюб и стукач это не одно и то же.
Оставалась и еще одна глупая версия: позвонил кто-то из пытливых граждан, соседей по участку. Мол, вот, вместо одного знакомого соседа наблюдаю сразу четверых неопределенной кавказской национальности. Но разве следовало бы в этом случае ожидать масочный карнавал со спецавтоматами? В лучшем случае — милиционера с пугачом в кобуре.
В общем, не было у Алика ответа на этот непростой вопрос, не было. И это обстоятельство весьма его удручало. Но, с другой стороны, в той основной задаче, что поставил перед собой отряд, это ничего не меняло.
Расставание с другом детства вышло несколько скомканным и неловким. Что было сказать на прощанье? Береги себя? Извини, что втянул тебя в эту дрянь? И то, и другое казалось ему излишне выспренним, театральным. Друг должен все понимать и так. Единственное, о чем он сожалел, что не удалось как следует посидеть на дорожку, возможно, даже втроем, вместе с Женькой. Поболтать, вспомнить былое. Так уж сложилось, что он лишен был этой простоты человеческого общения, и не его была в том вина.
— Ладно, старик, давай уже будем прощаться, мне пора, — торопливо пробормотал он. — Повинись за меня перед Женькой, так, мол, и так… Ну да ты и сам понимаешь, что к чему.
Он поднялся, оставив на столе недопитую кружку, махнул рукой и через мгновение уже смешался с толпой отдыхающих.
И еще об одном обстоятельстве Алик не рассказал своему другу — о том, что на его долю выпала задача охраны Ганса, и требовалось немедленно выезжать на место. Впрочем, это второе умолчание целиком вытекало из первого.
Алик был легок на ногу и уже на другой день после прощания с Колькой он докладывал Гансу о первых результатах своих наблюдений.
Ему пришлось немало потрудиться над своей внешностью, ведь убийца, кто бы он ни был, прекрасно знал его в лицо. Так что теперь перед Гансом сидел совсем незнакомый старик, в котором можно было угадать торговца арбузами или завсегдатая зала игровых автоматов, но никак не Донгарова Альберта Михайловича.
Первые результаты были скромны, да и не доклад это был, а так, дружеская беседа. Алька показывал своему товарищу снимки тех, кто засветился вблизи домика хозяина, ближайших соседей по улице. Вглядываясь в лица на дисплее фотоаппарата, Ганс легко узнавал их, называя Алику имена. Все это были старожилы поселка, соседи по улице, по участку. Лишь один снимок насторожил его.
— А вот эту девочку я прежде здесь не встречал. Кто она? По виду ей лет восемнадцать.
— Подумаешь, девушка. На молоденьких потянуло? — хмыкнул Алик. — Ну, красивая, да. А впрочем, так, ничего особенного.
— А кто сказал, что убийца должен быть непременно мужского пола? — резонно возразил Ганс.
— Да никто в общем-то. Инерция мышления, — пожал плечами Алик. — Ладно, приму к сведению.
— Что мы вообще о нем знаем? — рассуждал вслух Ганс. — В трубочку может дунуть каждый.
— Но не каждый сумеет подойти к тебе незамеченным, для этого нужен опыт.
— Подумаешь, опыт! Вспомни знаменитое: «Бабуля, как пройти в библиотеку?». Отвернулся — и тебя укололи. Не обязательно даже стрелять из духового ружья, можно ткнуть и иглою.
— Держать отравленную иглу в руке опасно, — возражал Алик. — Мало ли — споткнешься и поцарапаешься ненароком. Все равно что зажать в кулаке гадюку.
— А укол зонтиком?
— Ага, очень удобно таскать зонтик в солнечную погоду и мечтательно поглядывать на небо: «Кажется, дождь начинается».
В этой пикировке друзья нисколько не уступали друг другу, и все же каждый из них понимал, что это слова, брошенные на ветер. Кто он, убийца? Каково его оружие? Здесь ли он уже, в поселке, или совсем-совсем в другом месте? И самое главное — кто его послал, кому они помешали? Ни на один из этих вопросов ответа у них не было.
— Набросай мне примерную схему поселка, — попросил Алик. — Выходы с улицы, твои маршруты: как ходишь в магазин, на почту, на станцию. Куда ты вообще ходишь? Может быть, где гуляешь? Мне придется стать твоей незримой тенью.
— Гляди, не перестарайся, у нас здесь каждый человек на виду.
— Пожалуй, это и к лучшему. Тем трудней будет убийце подойти незамеченным. Он, как и я, вынужден будет изучать твой маршрут, искать наиболее слабые места. Да и мне нет нужды пасти тебя всюду. Достаточно перекрыть лесопарк, ну, может, еще несколько мест.
— Да и вообще, бог даст, сюда он не сунется. Интересно, кто там наверху выбирает очередность жертв?
— Уж лучше бы сперва к нам. Я чувствую в себе азарт охотника, — усмехнулся Алик, и показалось, его черные глаза вспыхнули.
— Зато меня ничуть не вдохновляет роль приманки, — скривился в ответной улыбке Ганс.
Время было позднее, и Алик вышел проводить друга. Чтоб не спугнуть убийцу, он не стал останавливаться у своего боевого товарища, а снял домик поодаль, на соседней улице. Прежде эту часть поселка занимали правительственные дачи, еще той, легендарной сталинской гвардии. Крепкие, порой двухэтажные особняки из потемневшего с годами дерева до сих пор коротали свой век, выделяясь на фоне новомодных кирпичных построек, кичащихся балконами и башенками, своей добротностью и простотой. Внуки их первых хозяев давным-давно расстались со своим хлопотным наследством, переехав куда-нибудь на Рублевку или в Архангельское, а новые владельцы не спешили с перестройкой жилища. Разве уж домик совсем обветшал и грозил новым собственникам из своего тревожного двадцатого века.
Друзья вышли на улицу. Июньская ночь сияла над ними бездонным магическим светом, нетревожным, как глубь родника, но рваными мазками теней чернели на нем вершины могучих сосен.
— Скажи, ты уже вроде как вне игры, — озаботился Ганс. — Что это? Революция пожирает своих детей?
— Дети это мы, что ли? А кто у нас революция? — не поддался его мрачному настроению Алик.
— Я так, образно. Просто хочу понять эту силу.
— Любая сила бессмысленна, дружище. Понять ее невозможно.
— А мне и не нужен смысл, мне важен источник.
— Ты боишься, Ганс? Скажи прямо.
— Я не боюсь, но и приятного в этом ничего не вижу. Будь ты на моем месте, ты бы чувствовал то же самое.
— Помнится, я это уже проходил.
— Не совсем так. Ты не знал, что на тебя объявили охоту, а это, согласись, не то же самое.
— Но уж и философствовать в этой ситуации я бы не стал.
— Ты жесток, Алик.
— Я не жесток, а жесток. Объявлена война, значит, воюй! О чем тут еще рассуждать?
— Ладно, — спохватился через мгновение он и хлопнул друга по плечу. — Не сердись. Я за твоей спиной.
Алик жаждал взять след. С каждым днем круг его поисков расширялся. Все новые и новые снимки демонстрировал он Гансу, и тот частенько лишь разводил руками в ответ.
— Надо же, сколько у нас приезжих, — вздыхал он, — а я и не знал.
Некоторых он исключал сразу же. Они гостили по многу лет, приезжая, как правило, целыми семьями. Они не то чтобы договаривались с хозяевами заранее; места для них были забронированы постоянно. Летом они жили здесь месяцами, осенью выбирались на денек-другой за грибами, зимой — покататься на лыжах.
Была еще категория родственников. Эти были непредсказуемы. Они могли нагрянуть в любой момент: к бабуле на блины, за урожаем клубники. Многих из них Ганс успел изучить за свою долгую жизнь в поселке, других видел мельком.
И все же оставались еще и такие, кто не попадал ни в одну из категорий, — просто случайные люди, и их было немало. Склонность к изоляции, к одиночеству была, пожалуй, их отличительной меткой.
— Работы тут по плечу хорошему аналитическому отделу, — грустно шутил Ганс.
— Но мы-то с тобой больше, чем отдел, старина! — подбадривал его Алик. — При прочих равных условиях мы стоим целого взвода.
— Только кто ж нам их предоставит, равные условия? — оставался при своем мнении Ганс.
Однажды вечером он зашел к Алику в самом мрачном расположении духа.
— Знаешь, как убили Артура Кариева? — с ходу спросил он. — Прямо у себя в квартире!
— Откуда такие сведения? — опешил Алик.
— Сегодня звонил Мишка, у него есть связи в Ростове. Вышли на местного следователя. Официально они, естественно, никакого убийства не подтверждают — кому ж нужен висяк? Даже вскрытия не было. Санитары записали — сердечный приступ. Но следователь говорит, что укол был, и именно в шею, сзади.
— Нехорошую новость ты принес, нехорошую, — задумчиво пробормотал Алик. — Раньше он этого себе не позволял. Интересно, что бы это значило?
— Может, на него нажали? Потребовали ускорить процесс?
— Вряд ли, — покачал головой Алик. — Тут что-то другое.
Минут на пять он вообще замолчал, будто перебирал в голове шахматную партию.
— Кстати, помнишь, ты интересовался природой силы? — неожиданно спросил он. — Мне кажется, я знаю отгадку. Скажи, за что мы с тобой воевали?
— За мир во всем мире, за социализм и справедливость, — отчеканил как по нотам Ганс.
Алик поморщился.
— Это так, агитка. А по существу?
— Как и Штаты, — пожал плечами Ганс, мол, чего уж тут непонятного, — за мировое могущество.
— Ага! Ну, и где оно теперь, это могущество? Куда подевалось?
— Так уж сложились обстоятельства, — развел руками Ганс.
— Но это ты сегодня так отвечаешь. А что бы ты сказал лет двадцать назад?
— Предательство.
— Вот именно! — вскрикнул Алик. — Именно предательство! И знаешь, что отсюда вытекает? Кто-то до сих пор живет прошлым, Ганс! И он мстит, потому что все мы для него предатели.
День шел за днем, проходили недели, а Алик так и не приблизился к разгадке фигуры убийцы. Возможно, его здесь и не было? От других групп тоже не поступало никаких утешительных известий.
Как-то раз, просматривая с другом очередную порцию снимков, Алик спросил:
— А это что за тип? Ты его знаешь?
— О нем уже весь поселок знает, — отмахнулся Ганс, — аспирант какой-то московский. Достает всех своим опросником. Народ от него просто бегает.
— А что за вопросы? Многих он уже опросил?
— Понятия не имею. У меня, слава богу, не был. Говорят, уж если вцепится, так часа на три, не меньше. У него там в списке больше сотни вопросов.
— А где он остановился, можешь узнать?
— Разумеется. Ты его в чем-то подозреваешь?
— Никого я, дружище, не подозреваю. Но каждого надо отработать до конца. Этого аспиранта я, к примеру, раз пять видел, и только сегодня удалось незаметно сделать снимок. А это что-нибудь да значит. Как по-твоему?
— Может, человек просто не любит фотографироваться?
— Возможно, возможно… Все возможно. Только я ведь не объявлял о своих намерениях, не говорил: смотрите сюда, сейчас птичка вылетит! Просто он все время контролировал мои действия, покуда я был вблизи. Вообще-то человек публичный ведет себя несколько иначе.
— А узнать он тебя не мог?
— Исключено! Его бы тотчас смыло. Разве бы он тут околачивался?
Аспирант, как выяснил Ганс, остановился не так уж и далеко — минутах в пяти от его дома. И обошел он, оказывается, почти все соседние участки. Лишь на его, Ганса, улицу он почему-то не заворачивал.
— Тебе не кажется это странным? — спросил Алик.
— Ну, да. Есть, наверное, — вынужден был согласиться Ганс. — Но это всего лишь странность, на ней обвинения не построишь.
— А подозрение можно?
— А подозрений — сколько угодно. Подозревать ты можешь любого.
— Отлично! Тогда поехали дальше. Видишь ли, я бы и не подумал ничего такого, но случай с Артуром меня озадачил. Охотник, стреляющий дичь влет, не будет убивать ее на гнезде. В этом есть что-то ненормальное.
— Вероятно, другой возможности у него просто не было.
— Не было сегодня, не было вчера, значит, дождись завтра. Что называется, имей терпение. Он не профессионал, Ганс, он любитель. Это все объясняет.
— Допустим. Но почему ты считаешь, что убийца это именно наш аспирант?
— Я ничего не считаю, я просто загибаю пальцы. Первый — я уже загнул. Едем дальше. Человек, впервые попавший в новое место, обычно ведет себя тихо, уединенно.
— Обычно!
— Я и говорю — обычно. И все, кого ты тут отобрал, так и поступают, но только не он. Почему?
— Специфика работы, — пожал плечами Ганс.
— И при этом он в постоянном напряжении. Я ж говорю, не мог достать фотоаппарат — он меня постоянно держал на мушке. Ты видел когда-нибудь интервьюеров? Они без царя в голове, никого не замечают вокруг. Им важно лишь получить ответы на свои дурацкие вопросы, и больше их ничего не волнует. Итак, это палец номер два. Ну, и последнее — то, что он ни разу не появился на твоей улице. Это три.
— И все равно этого мало.
— Согласен, — кивнул Алик, — но других кандидатов у меня нет. Или это он, или убийцу надо искать совсем в другом месте.
Он сказал это так, будто кто-то все время подгонял его сзади: след! След! И не было никакой возможности остановиться и все хорошенько обдумать.
— Я вижу его, Ганс, вижу, понимаешь? Он устал, выдохся. Устал жить по самим же собой установленным правилам. Устал прятаться. Возможно даже, он устал убивать.
11
Лето уже уверенно шагнуло за середину, когда Голованов впервые решился навестить домик старика. Нет, заходить внутрь он, разумеется, не собирался. Последние дни он практически и не занимался опросом. Он присаживался где-нибудь в тени на скамейку, а то так и прямо на землю и что-то писал, писал в своем толстом блокноте. Если мимо случалось пройти кому-то из местных жителей, Голованов непременно здоровался и задавал один и тот же вопрос:
— Извините, вы не могли бы поучаствовать в социологическом исследовании на тему…
Как правило, договорить ему не удавалось. Заранее предупрежденный товарищ шарахался в сторону и со словами: «Вы меня уже спрашивали» спешил поскорее пройти мимо.
Эта тактика позволяла Голованову и оставаться у всех на виду, и в то же время быть как бы невидимым: если вы не хотите, чтобы вас заметили, так и не смотрите в ту сторону. Многие так вообще обходили его стороной, словно какую-нибудь цыганку.
Конечно же дом интересовал Голованова не сам по себе. Требовалось установить некие ориентиры. Собственно отсюда и начиналась та прямая работа, ради которой он здесь. Момент этот был чрезвычайно важен и исполнен глубокой метафизики: обратного пути за ним уже не существовало.
Голованов легко выяснил, что с дорожки старика (местные высокопарно называли их улицами) в «деловую» часть поселка, туда, где расположены торговые точки и станция, ведут два пути. Один из них, кружной — им мало кто пользовался, — уводил к огородам. Охватывая участки широкой дугой, он упирался в дорогу, ведущую мимо станции. С точки зрения его «работы», путь этот был идеален, но вряд ли старик сюда заглядывал.
Второй шел прямо через лесопарк. Был он намного короче первого, но на этом его достоинства и заканчивались. Вообще-то путь этот был не совсем один. По неискоренимой русской традиции от каждой дорожки вечно спешащие граждане протоптали свою родную тропинку, ведущую прямо к цели. Случилось это еще в незапамятные времена, а нынче, что ни минута, по тропинкам этим сновали вездесущие дачники, бегали трусцой сдвинутые на фитнесе тетеньки, гоняла на великах ребятня, подпрыгивая на узловатых сухожилиях корневищ. И ни секунды покоя, какое уж там уединение! При таких обстоятельствах не могло быть и речи о том, чтобы застать старика Генриха врасплох, без свидетелей. И, пожалуй, впервые Голованов почувствовал свое бессилие.
«Очевидно, слишком легко все сходило до сих пор», — думал Голованов, пытаясь обнаружить хоть какую-нибудь лазейку в этой непробиваемой схеме. Ему уж очень не хотелось подключать к делу Кощея — тем самым он расписывался в собственном бессилии, но не идти же было к старику на дом? Хватило с него и Кариева!
— Это Голованов беспокоит, — проговорил он в трубку. — Тут такое дело: надо бы вызвать старика на станцию. Например, встретить друга. И вызвать пораньше, часиков в пять. Иначе здесь все забито отдыхающими. Как вы считаете, возможно такое?
На том конце установилось продолжительное молчание. Голованову показалось даже, что его никто не услышал.
— Алло! Алло! — прокричал он несколько раз.
И только тогда трубка ожила, раздался знакомый дребезжащий голос:
— Чего шумишь? Слышу я тебя, слышу. Подумать не даст. Ему ведь еще и телефон отключить придется, а? Они же теперь все на связи.
— Это неплохо бы, а то ведь и проверить догадается.
— Да не твоему отключить, а гостю.
— Ну да, ну да, разумеется, — сообразил Голованов.
— Давай так поступим, сынок: я подготовлю все и перезвоню денька через два. Будь на связи.
Голованов невольно вздохнул, с этой стороны дело было улажено.
На радостях он даже заскочил на чаек к Розе Павловне, прихватив с собой шоколадный торт.
— Ну, и как продвигается ваша работа? — встретила его соседка.
— Вообще-то работы еще непочатый край. Но в целом, спасибо, успешно. Конец уже виден.
— А ведь вам нравится у нас, признайтесь, — неожиданно произнесла она с такой безапелляционностью, что не признаться было действительно невозможно.
— Ну, разумеется, разумеется, нет слов! — охотно согласился он. — Где теперь в Подмосковье найдешь такие боры?
— И не говорите! — вспыхнула Роза Павловна. — Все захватили! Все повырубили! И управы никакой на них нету! Ведь что творят! Что творят!
И она принялась выкладывать ему, точно заезжему прокурору, все нюансы тонких земельных отношений в поселке.
«А счет, пожалуй, один-один», — усмехнулся про себя Голованов, слушая этот нескончаемый монолог и вспоминая о прошлой встрече. Он уже успел пожалеть о своем участии в чайной церемонии и прикидывал теперь, сколько же еще посидеть, чтобы не стыдно было уйти, сославшись на дела.
Новость о телеграмме потрясла Алика.
— Надо же, как широко у них поставлено дело! — воскликнул он. — А кто там сейчас с Ромкой? Ашот? Его телефон тоже заблокирован?
— А вот и не угадал! — обрадовался Ганс. — С какой бы стати? Ты понял, как они просчитались?
— То есть Ашот ни о какой телеграмме не слышал?
— Вот именно! Он говорит: Ромка сидит себе спокойно и ни в какие гости не собирается.
— А я что говорил, а? — обрадовался Алик. — Что и требовалось доказать!
— Так, значит, все-таки аспирант?
— Потерпи до завтра. Завтра все разъяснится. Да и какая теперь, к черту, разница?
Финал так долго мучившей их истории был близок, и это не только радовало, но и пугало одновременно. Особенно был озабочен Ганс.
— Но как ты сможешь прикрыть меня в парке? Там негде спрятаться. Он тебя сразу же обнаружит, и тогда все насмарку!
— Это почему же — насмарку, дружище? Мы схватим его и обыщем, вот и все. Будь уверен — оружие будет при нем!
— А разве это что-то доказывает?
— Ганс, голубчик, ведь мы ж не в суде! Тебе нужны доказательства, если найдется оружие? Нет? Тогда какие могут быть сомнения?
— Но он-то будет молчать.
— Молчать он может в любом случае: припрем мы его к стенке или не припрем. Это уже от человека зависит, а не от обстоятельств. Но я очень надеюсь его разговорить.
— А если мы все-таки ошибаемся?
— Подумаешь! — пожал плечами Алик. — Извинимся, и дело с концом.
— Посмотрим, — с сомнением проворчал Ганс.
Они просидели до глубокой ночи, обсуждая детали завтрашней операции. Все казалось, что-то не договорено, не обсуждено, а времени перерешать уже не было.
— Иди себе спокойно и прямо, — напутствовал Алик на прощание друга. — И не оглядывайся на собаку Баскервилей.
Голованов не понял, как все произошло. Очевидно, на какое-то время он выпустил из рук ситуацию. Последнее время он чувствовал излишнюю усталость, слезились глаза от недосыпания. «Корабль дал течь», — усмехался он. Сказывались часы ночного бдения за домиком Генриха, когда он силился понять, что за странные отношения связывают его хозяина с таким же, как он, стариком, живущим по соседству, и нельзя ли извлечь отсюда выгоды. Но нет, Генрих и здесь оставался недоступен, как скала.
И вот теперь, стоило ему, что называется, выйти на прямую наводку, когда и Генрих — вот он, рядом, и вокруг — никого, как этот старик — будто из-под воды вынырнул — тут же пристроился сзади. Где он недоглядел, где дал промах? Ситуация, складывавшаяся как нельзя лучше, рассыпалась прямо на глазах, рушилась, словно карточный домик. И, значит, все к черту! Значит, опять ожидание, опять поиск неведомо какого решения.
Голованов невольно ускорил шаг — надо же было как-то выходить из этого глупого тупика: сесть на поезд, что ли, прокатиться пару остановок туда-обратно. А иначе зачем он здесь в этот ранний час? Но тот, что сзади, не только не отстал, а напротив, прибавил шагу, приблизился так, что он, Голованов, в какой-то момент оказался зажат меж ними, словно малолитражка между двумя трейлерами. И здесь произошло самое невероятное и непредсказуемое. Задний неожиданно окликнул его, и едва Голованов обернулся, как оказался на земле со скрученными руками, а этот проклятый старикан уже восседал на нем и совершенно невинно улыбался при этом.
— Вот черт! Что это значит? — дернулся Голованов, но хватка старика была слишком крепкой. — Что за дурацкие шутки?! Я опаздываю на электричку!
— Не на эту? — и Генрих, который почему-то тоже оказался рядом и, видимо, был заодно с нападавшим, сунул ему под нос какую-то телеграмму.
Тень сомнения, что он раскрыт, что все кончено, вихрем пронеслась в голове, но он тут же взял себя в руки. «Никто ничего не знает. Нет никаких доказательств. Он посторонний, приезжий. Он и стариков этих видит впервые. Кто они такие, черт побери?» И он почти убедил себя в этом.
— Подержи-ка его, Ганс! — скомандовал первый. (И опять какая-то странность. «Почему не Генрих?» — удивился Голованов.) — А я пока пороюсь у него в карманах.
А вот это уже слишком! Это была откровенная наглость, и Голованов позволил себе рассердиться.
— Послушайте, по какому праву? Что вы себе позволяете?! Кто вы такие? — снова дернулся он.
Но старик его даже не слушал. Он извлек блокнот из бокового кармана, полистал и, открыв на последней странице, принялся вслух читать:
— Корабль дал течь — несовместимая с жизнью рана. Мачты сбиты, проигран бой. Оглашенные, выйти из храма! Истинные в вере, за мной! — Он хмыкнул. — Что это за бред, а? — и отшвырнул блокнот в сторону.
Затем достал оттуда же два телефона и, наконец, к ужасу Голованова вытащил из внутреннего кармана флейту.
— Не сломайте! — хотел было крикнуть Голованов, но голос его сорвался на хрип.
— А дунуть-то в нее разрешаешь? — прищурился старик, словно для него и впрямь требовалось разрешение, и демонстративно нацелился ему в лицо.
Голованов невольно зажмурился. «Откуда? Откуда они знают?! — билось в его голове. — Неужели Кощей? Но зачем? Что за игру он затеял?» Ответа не было, а старик тем временем принялся осторожно откручивать мундштук.
— Смотри! — обернулся он к Генриху, демонстрируя крохотную оперенную иглу. — У тебя остались какие-нибудь сомнения?
— Какие уж тут сомнения, — насупился Генрих. — Это что же значит, дружок? — зловеще склонился он. — Ты решил поиграть с нами в индейцев?
Голованов молчал. Теперь любые слова были не в его пользу.
— Нет, он собирается поиграть в глухонемого, — ухмыльнулся первый старик и спросил: — Сколько у нас времени, Ганс?
— Около получаса до следующей электрички.
— Успеем! — И, обернувшись к пленнику, произнес: — Сейчас я полистаю твои телефонные книжки, а ты тем временем назовешь мне имя хозяина. В противном случае… — он покрутил перед самым его носом иглу.
— Но я не знаю! Не знаю имени! Только кличку! — впервые по-настоящему испугался Голованов. — Кощей!
— Ага, — отыскал старик, — это где заглавная «К», а других номеров нет?
— Да.
— И за что же он получил такую страшную кличку?
— Не знаю! Он очень старый.
— Ты видел его лично?
— Да.
— У него над правым глазом…
— Родинка.
— А на подбородке…
— Шрам.
— А живет?
— Напротив «Детского мира». Точнее, не знаю, не помню. Я не запомнил адреса.
— Отлично! А теперь закрой глазки, солдат.
— Что это? Зачем?! Вы не имеете права! — дернулся Голованов из последних сил. — Я же на службе! Я выполнял приказ! Он сказал, вы — списанный материал! Он сказал…
— Он ошибался.
И прежде чем пленник успел увернуться, Алик нанес ему смертельный укол.
— Зачем ты так, Алик? — устало произнес Ганс, поднимаясь на ноги. — Я думал, ты и вправду решил лишь попугать.
— А ты его в плен хотел взять, что ли?
— Не знаю, но он ведь для нас был уже не опасен. И потом он на самом деле всего лишь исполнитель, Алик.
— Он солдат, Ганс, такой же солдат, как и мы, а это война.
Но он не рассеял того тяжелого осадка, что был на душе у товарища. Смерть, пусть и смерть врага, была для того слишком невероятным событием в это утро.
— Просто его жизнь и смерть были в твоих руках. Он мог бы жить, Алик.
Всем группам был дан отбой. Это был самый знаменательный итог их работы и все же… И все же в каждой победе есть горечь, хотя бы капля. Знал ли об этом Алик? Вероятно, лишь чувствовал. Ганс был склонен к философии, не он. А Алик был прежде всего воин. И потому он не стал дожидаться, пока соберутся все.
— Куда ты? Ведь мы ж ничего не решили! — пытался остановить его Ганс.
— Мы вырвали зуб, а корень остался, — отмахнулся Алик.
— Но, может, хватит смертей? Поставим на этом точку?
— У нас всегда все кончалось на стрелочниках, — улыбнулся в ответ Алик, — не пора ли ломать традицию?
И Ганс не смог его удержать.
12
Город встретил август дождями. Небо, словно сошедший с ума садовник, ударило во все трубы и шланги, и, вырвавшись на волю, вода поразила безумием граждан. Город поднял воротники, распахнул зонтики. Город нырнул в подворотни и под козырьки остановок — куда там! Вскипая потоками, вездесущая вода хлынула на улицы и тротуары, догоняя мечущихся, настигая понадеявшихся на надежность укрытия, повсюду утверждая тщету и суетность бытия.
Николай Иванович едва добрался до дома.
— Ну и ливень, черт! Ботинки — вдрызг! Слышь, мам? Дай что-нибудь сухое! — завозился он у порога.
— На вот, надевай скорее. — Мать принесла халат, шерстяные носки. — Обедать будешь?
— Конечно, буду! И полотенце еще, мам!
— А в Европе-то что творится! — рассказывала мать, наливая ему борщ. — Дунай из берегов вышел, люди на крышах спасаются! Весь день в новостях показывают.
— Угу! — отозвался он, обжигаясь горячим. — Теперь и до нас докатилось.
— Ладно, ты ешь, ешь! — забеспокоилась мать. — Ноги-то, небось, промочил? Водки выпьешь?
— Капельку.
— Тут тебе, кстати, опять повестку прислали.
— Тьфу ты! — поперхнулся он. — Какую еще повестку?
— Почем я знаю? Это у вас все какие-то тайны, — обиженно пробормотала она, — опять, наверное, с этими твоими дружками.
— Какими дружками? О чем ты, мам?
Он пришел в раздражение от такой очевидной нелепости.
— Ну, Алик твой, кто там еще? Откуда мне знать? Ты мне никогда ничего не рассказываешь.
— Постой, постой! — он даже отодвинул от себя тарелку. — Откуда тебе известно про Алика?
— Ну как же! Ты же и говорил! — возмутилась она.
— Я совсем о другом говорил! То есть, я, конечно, об Алике говорил, но это ж когда было! И потом, какие такие дружки? С чего ты взяла?
— Ну, я не знаю. Ты всегда так — наговоришь чего, а мне догадывайся!
— Ничего я тебе такого не говорил, не выдумывай!
— Ну вот еще! Откуда же я взяла?
Она обиженно поджала губы и закурила, неловко ломая спички.
— А вот это я бы и хотел узнать — откуда? — В его голосе звучало нескрываемое раздражение. — Откуда, черт возьми, моя мать знает то, чего я ей никогда не рассказывал?
— А с Женькой забыл, как на кухне шептались? По-твоему, я глухая, что ли?
— Ах, вот откуда уши растут! — сообразил он. — Я-то думал, она телевизор смотрит, а она под дверью шпионила!
— Ничего не шпионила! И не смей так говорить про свою мать! Я-то пока из ума не выжила, а вот вас ваши тайны до добра не доведут. Попомнишь еще мои слова!
Она закашлялась, затушила свою едкую папиросу, разгоняя ладошкой дым.
Страшная догадка поразила Николая Ивановича. На мгновение ему показалось даже, что он потерял дар речи.
— Так это была ты?! Ты?!! — вырвалось наконец у него. — А я-то, дурак, грешил на Женьку! Вот дурак, еще и Альке сказал! Стыдно-то как, господи! Ну почему, почему, а? Почему так?! — он вскочил, не в силах усидеть на месте, заходил из угла в угол, спотыкаясь о табурет, налетая на угол стола, и не мог, ни на секунду не мог остановиться.
Мать терпеливо ждала, пока схлынет эта первая волна гнева, этот круговорот по кухне.
— Ну, чего ты так раскричался? — как можно тише проговорила она. — Ничего я такого и не сказала. Подумаешь. Я только…
— Зачем?!! — перебил он ее, срываясь на крик. — Объясни, зачем?!!
— А затем, что взрослый уже! — не выдержала она собственного тона. — Нечего в эти игрушки играть, вот зачем! Пусть те, кому надо, разбираются — не твоего ума это дело! И не смей на меня кричать! Я тебе только добра желаю. И про тебя я ничего такого не сказала, не думай. Твои дружки тебя использовали и бросили! Твоей же добротой пользовались, знали, что ты безотказный.
— Какой добротой, мам? Господи, о чем ты? А ты не подумала, что это не моя тайна? Что есть вещи, которые доверяют только друзьям. Не подумала, что теперь будет с Алькой?
— Ничего с твоим Алькой не будет — с него, как с гуся вода! Меньше надо было по заграницам шастать!
— Что ты такое несешь? Опомнись! Это была его работа! Понимаешь, Ра-бо-та! — словно молотком по столу, по слогам проговорил он.
— Скажите на милость, работа! — хмыкнула она. — Знаем мы вашу работу, как же! Твой папочка тоже все по загранкомандировкам катался. Берлин, Вена… А после… Чем это кончилось?
— Так не ты ли и с отцом постаралась? — невольно вырвалось у него.
— Да как ты смеешь! — задохнулась негодованием мать. — Твой отец был предатель! Его секретарша оказалась немецкой шпионкой, а он с ней в Берлин укатил! А я предупреждала! Он знал! Знал, что должен был ты родиться, и все бросил! Он предал нас с этой немецкой дрянью, с этой потаскухой, а я ведь его любила! Что ему было нужно? Что?! У него все было — полон дом! Чего ему еще не хватало?
— И ты… Ты своими руками отправила его на смерть?! — не поверил он.
— Чего ты от меня хочешь? Чего добиваешься? Я любила его, я имела право! А он нас предал, понимаешь? Предал! — она закашлялась, схватилась за грудь. — И почему на смерть? Я рассказала все, как есть, правду. Его бы все равно взяли, без меня. А нас бы сослали за Урал, в лагеря. Ты же ничего не знаешь, какое было время! Ничего! Ты не представляешь, какая была жизнь! А он возвращался ночами, и не знаешь, что думать, чего ждать…
Она вдруг охнула и осела, вцепившись пальцами в спинку стула, а он в страхе уставился в ее побледневшее лицо и все не мог сдвинуться с места.
Опомнившись, он перерыл все в поисках валерьянки, валидола — что там у нее припасено на такие случаи? Бросился к телефону вызывать «скорую», в комнату за подушкой под голову, в ванную за полотенцем. И все бежал куда-то, бежал, бежал, не в силах остановиться и, наверное, даже как-то бессознательно боялся самой этой остановки.
«Скорая» подъехала на удивление быстро. Должно быть, дожидалась где-нибудь за углом.
— Ничего страшного, — констатировал врач, осмотрев больную, — обычный обморок. Сердце в полном порядке. Даже удивительно для ее-то возраста. Полежит маленько, все пройдет.
— Водочки выпьете, доктор? — предложил на радостях Николай Иванович.
— Ну, разве по капельке? — согласился тот. — За здоровье больной.
Алик вышел на площадь у трех вокзалов, огляделся. Нескончаемый поток машин в обе стороны, мокрый асфальт, безразличные взгляды прохожих. Многотонной усталостью навалился город, чуждый город, странный город. Город юношеских мечтаний и утраченных идеалов, город, так умело и так наивно воплотивший в себе суть всей страны.
Открыл телефон, вызвал номер на букву «К», подождал и услышал почти позабытый голос:
— Алло, это ты, музыкант?
И подумалось: надо же! Век минул, царства пали, а голос остался. Все тот же. Разве что чуть дребезжащий.
— Нет, не музыкант.
А мог бы стать и музыкантом. Мог бы много кем стать.
И уже нетерпеливей:
— Алло, кто это?
— Помнится, чья-то смерть была на конце иглы?
— Алик, ты, что ли? Алик?!
Узнал, ну надо же! И вроде в голосе теплота. А ведь недавно еще, не задумываясь, отправил на смерть.
— Я.
— Откуда у тебя мой телефон? Ах, ну да! Все понял, можешь не отвечать. Так что ты хотел?
В глаза посмотреть? Что ж, может, и так. Но даже намека на ответное тепло не дождется.
— Встретиться.
— Ты где?
— У Казанского.
И долгая пауза в ответ. Задумался.
— В сквере на Лубянке через час. Идет?
И тоже задумался. Кликнет своих мальчиков? С него станется! Хотя вряд ли. Место людное — не постреляешь.
— Согласен.
До Лубянки полчаса неспешной ходьбы. Шел и думал: а если все сначала? Слабу? У Гайдара такой рассказ был, что ли? Глупо. Это просто другое время. Все другое, страна другая. А ведь почти пятьдесят лет минуло, надо же! Скоро уже пятьдесят. А что они видели? Первый спутник, первый фестиваль? Они и думали-то по-другому, и видели по-другому. Разве был тогда цвет? В памяти только черный и белый. Еще изредка
красный по праздникам — скупо. Шахматы, хлеб, кино… А зимою весь мир черно-белый. И на улице в детстве только игры, а все остальное — дома. И люди дома или на работе. Разве было столько людей на улице? А ведь людей было не меньше. Улица — праздность, безделье. «Гражданин, пройдите к себе домой!» А в остальном мире и того хуже. Там диккенсовские персонажи: оборванные, нищие, попрошайки. Там персонажи Гюго из парижских трущоб. А ведь живут же люди и там. Каково им? Не живут — мучаются! А надо, чтоб все было как у нас. Хорошо! Весело! Чтоб работа так работа. Праздник так праздник. Все должны жить как мы, это ли не цель, не счастье?
На углу у Милютинского заминка. Металлическим штакетником перегорожен переулок, группа зевак на тротуаре. Оглянулся.
По Мясницкой тупым строем надвигалась толпа, флаги. Над головами колышутся транспаранты: «Очистим Москву от инородцев!», «Россия для русских!», «Русский, защити свой дом!». Тут же попы с иконами и лампадами умиленно трясут бородами. Размалеванные вроде бы девицы курят на ходу, целуясь в заглот с такого же неопределенного пола личностями. И какие-то бритые ублюдки в коже, на рукавах подобие свастики, в мутных глазах — мечта о бутылке и телке. Передний с мерзким флагом вскинул в приветствии руку. И черная сотня каркнула разом, брызнув ядовитой слюной на землю.
Что это? Откуда?! И не стерпел — будто плюнули прямо в него — шагнул, преграждая дорогу переднему. Всей толпе преграждая. Вырвать из рук, разорвать поганую тряпку, растоптать… Но уже налетели, не устоять. Озверели. Повалили, коваными ботинками наотмашь. В живот, в голову. Но не сдаваться. Ты же воин, солдат! Ты должен!
А других воинов поблизости не было.
Дождь не унимался весь день, словно его целый год не было. Словно до того вселенская засуха была какая! Господи, ведь есть же на земле приличные места, где и дождь как дождь, и солнце как солнце.
Николай Иванович приводил в порядок свои бумаги. Вот оно лето — мгновенье капризной славы, а завтра уже опять на работу. И запрягай до следующих журавлей.
На душе было противно. Видно, после ссоры с матерью. Какая-то неприятная тяжесть легла на грудь. Надо бы с ней все-таки полегче, думалось. Ведь годы-то уже какие! Подумал и вышел проведать — как она?
А мать возилась на кухне, кашляла, опять дымила свой «Беломор».
— Курила бы ты что-нибудь помягче, что ли? — не то чтобы предложил, просто посочувствовал он.
— Что ты понимаешь? Помягче! — хмыкнула она. — Этот запах оттуда, из прошлого. Этот запах родной. Вот у тебя есть что-нибудь такое?
Ну, и о чем тут еще говорить? Все как обычно.
Вечером Николай Иванович собирался посмотреть концерт теноров по «Культуре». Редко бывало такое лакомство, а мать опять уткнулась в свои «новости».
— Не насмотрелась ты разве, мам? Ну что у нас может быть нового?
А она:
— Потерпи, всегда что-нибудь новенькое случается.
И он вынужден был смотреть вместе с ней всю эту кашу: наводнение в Европе, взрывы в Ираке, аварию на нефтепроводе где-то в Центральной России.
Одно и то же, одно и то же.
«В Москве прошел марш патриотических сил, — бесстрастно сообщал диктор. — В завязавшейся потасовке и давке один человек погиб, трое получили ранения. Личность погибшего выясняется».
Все как всегда. Как всегда. Из года в год.
— Шел бы ты лучше спать, сынок, — вздохнула мать. — Завтра тебе опять на работу.
2006
Оглавление
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

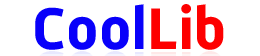
Последние комментарии
22 часов 6 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 20 часов назад
2 дней 42 минут назад
2 дней 1 час назад
2 дней 1 час назад