Аристотель о началах человеческого разумения [Евгений Викторович Орлов] (pdf) читать онлайн
Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА
Е.В. ОРЛОВ
АРИСТОТЕЛЬ
О НАЧАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМЕНИЯ
Монография
Ответственный редактор
доктор философских наук В.П. Горан
НОВОСИБИРСК
ИЗДАТЕЛЬСТВО СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
2013
УДК
ББК
1(091)
87.3
0-66
Р еце нз е нт ы
доктор философских наук Е.В. Афонасин,
доктор философских наук М.Н. Вольф,
доктор философских наук В.Т. Звиревич
0-66
Орлов Е.В.
Аристотель о началах человеческого разумения:
Монография / Е.В. Орлов; отв. ред. В.П. Горан; Рос.
акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. –
Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2013. – 303 c.
В монографии предпринята попытка системного анализа
эпистемологии Аристотеля, т.е. его учения о достоверном научном знании. Последовательно рассматриваются все стадии
научного познания, согласно Аристотелю: чувственное восприятие и опыт; познание сути бытия; причинное объяснение
посредством доказывающего силлогизма, т.е. обретение научного знания; применение универсального знания. Книга
посвящена прежде всего «Второй аналитике» Аристотеля, но
в ней также уделяется внимание отдельным материалам
«Метафизики» и некоторым его биологическим трактатам.
Книга адресована специалистам по античной философии
и науке.
Утверждено к печати
Ученым советом
Института философии и права СО РАН
ISBN 978-5-7692-1336-6
© Орлов Е.В., 2013
© Институт философии и права
СО РАН, 2013
© Оформление. Издательство
СО РАН, 2013
Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ………………………………………………………………………………
ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ…………………………..……..............
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ…………………………..…………………….
ЭСТЕТИКА………………………………………………………………………………………
1. АРИСТОТЕЛЬ ОБ ОПЫТЕ И УМЕ ВО «ВТОРОЙ АНАЛИТИКЕ» II 19..……..……………………………………………..
1.1. Перевод An. Post. II 19……………………………………………………..
1.2. Комментарий к An. Post. II 19………………………………………….
1.2.1. Два последних вопроса «Аналитик»…………………………
1.2.2. Чтό есть узнающий уклад души?.................................
1.2.3. Как начала становятся известными?...........................
1.2.4. Ум – начало эпистемы……………………………………………….
1.2.5. О познании каких начал идет речь в An. Post. II 19?
ЭССЕНЦИАЛИЗМ……………………………………………………………………………
2. АРИСТОТЕЛЬ ОБ ОСНОВАНИЯХ КЛАССИФИКАЦИИ…
2.1. Три примера исторических классификаций …………………
2.2. Онтологический и гносеологический подходы Аристотеля к определению видов...............................................
2.3. Аристотелевский подход к определению видов рода и
новая теория референции в аналитической философии.....
3. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ В «ИСТОРИИ ЖИВОТНЫХ» АРИСТОТЕЛЯ……………..………………...........
3.1. Комментарий к Hist. An. I 1–5…………………………………………
3.2. Комментарий к Hist. An. I 6………………………………...............
3.3. Арисотелевские разделения животных на «водных, сухопутных и “воздушных”»….………………………………………….
3.4. Как соотносятся разделения животных по частям, образу жизни, праксисам и нравам с родовидовым разделением………………………………………………..........................
4. АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ КРИТИКА ДИХОТОМИИ: комментарии к An. Post. II 13, Met. VII 12 и Part. An. I 2–3…..
4.1. Аристотель и диайресис: Об определениях. An. Post. II 13
4.1.1. Перевод An. Post. II 13………………………………………………
4.1.2. О неком способе определения на примере определения «тройки»: комментарий к An. Post. II 13, 96a20–
6
8
10
12
–
17
20
–
25
32
38
41
49
55
56
58
72
79
80
85
101
104
113
115
–
4
96b25………………………………………………………………………......
4.1.3. Об определении посредством разделений на основании различий: комментарий к An. Post. II 13, 96b25–97b6
4.1.4. О сократовской индукции при определениях: комментарий к An. Post. II 13, 97b7–39………………………………….
4.2. Аристотель и диайресис: Об определениях. Met. VII 12
4.2.1. Перевод Met. VII 12……………………………………………………
4.2.2. Комментарий к Met. VII 12………………………………………..
4.3. Аристотель и диайресис: Критика дихотомии.
Part. An. I 2–3 ………………………………………………………………….
4.3.1. Перевод Part. An. I 2–3……………………………………………….
4.3.2. Комментарий к Part. An. I 2–3……………………………………
Комментарий к 1-й части (642b7–9)…………………………
Комментарий к 8-й части (643b26–644a10)………………
Комментарий ко 2-й части (642b10–20)……………………
Комментарий к 3-й части (642b21–643a27)………………
Комментарий к 4-й (643a27–31), 5-й (643a31–35) и
6-й (643a35–b8) частям……………………………………………
Комментарий к 7-й части (643b9–26)………………………
Разделения и определения посредством последовательного диайресиса и посредством принятия
всех различий сразу…………………………………………………
4.3.3. Аристотель о классификации по нескольким основаниям………………………………………………………………………
4.4. Онтологические следствия критики дихотомии…………….
АНАЛИТИКА: ОБРЕТЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ……………….
5. ПРОБЛЕМА «ФОРМУЛИРОВКИ ПРОБЛЕМ» И «ПЕРВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ»: An. Post. II 14 и Part. An. I 1….
5.1. Перевод An. Post. II 14……………………………………………………..
5.2. Комментарий к An. Post. II 14………………………………………….
5.3. Проблема «формулировки проблем» в Part. An. I 1………
6. ПОИСК ПРИЧИН И «ПЕРВЫЕ УНИВЕРАЛИИ»……………
6.1. An. Post. II 15…………………………………………………………………….
6.2. An. Post. II 16–17……………………………………………………………….
6.2.1. Перевод An. Post. II 16–17………………………………………….
An. Post. II 16……………………………………………………………………
An. Post. II 17……………………………………………………………………
6.2.2. Краткий исторический экскурс в область математики
и естествознания аристотелевского времени..............
Доказательство Евдоксом перестановки накрест
120
129
134
136
–
138
143
145
150
151
152
153
155
170
171
173
175
179
186
188
–
189
194
198
–
200
201
–
203
206
5
членов пропорции………………………………………………………
Почему одни животные живут долго, а другие нет?...
Почему опадают листья?................................................
6.2.3. Комментарий к An. Post. II 16…………………………………….
6.2.4. Комментарий к An. Post. II 17…………………………………….
7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И «ПЕРВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ»……..
7.1. Ошибки, которые могут возникнуть при нахождении
первых универсалий……………………………………………………..
7.1.1. Перевод An. Post. I 5…………………………………………………..
7.1.2. Комментарий к An. Post. I 5……………………………………….
7.2. О преимуществах универсальных доказательств:
An. Post. I 24…………………………………………………………………….
АНАЛИТИКА: ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ……………
8. АРИСТОТЕЛЬ ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ, ОБЫДЕННОМ
И ДЕЯТЕЛЬНОМ ЗНАНИИ В «ПЕРВОЙ АНАЛИТИКЕ» II 21…………………………………………………………….
8.1. Аристотель о деятельном знании за пределами An. Pr. II 21
8.2. Перевод и комментарий – An. Pr. II 21, 67a8–67b11……..
8.3. Что есть частное и обыденное знание и индуктивная
посылка…………………………………………………………………………..
8.4. Применение универсального знания и апория Менона
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ…………………………………………………………………
9. АРИСТОТЕЛЕВСКОЕ РЕШЕНИЕ АПОРИИ МЕНОНА…….
9.1. Перевод An. Post. I 1………………………………………………………..
9.2. Комментарий к An. Post. I 1……………………………………………..
9.2.1. Предпознание…………………………………………………………….
9.2.2. Предшествующее знание…………………………………………..
9.2.3. Вариативность аристотелевского решения апории
Менона для разных стадий познания……………………
9.2.4. Дополнительный комментарий к An. Pr. II 21: уточнение к аристотелевскому решению апории Менона
9.3. Заключение………………………………………………………………………
БИБЛИОГРАФИЯ…………………………………………………………………………
–
212
219
221
229
235
237
–
239
244
252
–
253
255
260
266
268
–
273
275
276
278
285
289
292
294
6
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая книга тесно связана с нашей предшествующей книгой «Философский язык Аристотеля» [168]. Фактически две эти книги являются двумя частями одного исследования. Книга «Философский язык Аристотеля», хотя и имеет
определенное самостоятельное значение, была написана ради
книги «Аристотель о началах человеческого разумения» в качестве предварительных (предуготовительных) глав. По многим вопросам, затрагиваемым в предлагаемой книге, мы будем
отсылать читателя к нашей предшествующей книге.
Монография «Аристотель о началах человеческого разумения» посвящена прежде всего «Второй аналитике» Аристотеля. Нашу книгу можно рассматривать как введение во «Вторую аналитику». Однако в этой книге затрагиваются и вопросы, касающиеся «Метафизики» Аристотеля. Они рассматриваются прежде всего ради истолкования «Второй аналитики»,
хотя опять же имеют и определенное самостоятельное значение. Ибо мы рассмотрим важнейшие, ключевые, с нашей точки зрения, вопросы «Метафизики».
Сократ занимался понятийным познанием. Для него
знать – значит знать определение чего-либо. Платон искал онтологические основания понятий. Аристотель, продолжая заниматься проблематикой определений и их онтологических
оснований, стал рассматривать еще и причинное объяснение.
Вообще причинные объяснения стали давать до Аристотеля.
Аристотель же сделал свой весомый вклад в логику и методологию причинного объяснения. В предлагаемой монографии
мы уделим должное внимание и аристотелевскому подходу к
разделению родов на виды на основании различий, и определениям, и его учению о причинном объяснении.
Для детального анализа ряда материалов Аристотеля мы
сделали их собственные переводы. Эти переводы выполнены в
духе «более точных переводов», о чем мы писали в книге
«Философский язык Аристотеля» [168]. В таких переводах при
7
выборе между точностью перевода и хорошим русским языком предпочтение отдается точности. Такой перевод, приближающийся к буквальному, предлагается не вместо полноценных переводов, а в дополнение к ним, ибо он выполняет лишь
техническую роль для детального истолкования текста оригинала.
Книга состоит из четырех разделов и заключения, в которых последовательно рассматриваются этапы научного познания, согласно Аристотелю.
В разделе «Эстетика» на материалах «Второй аналитики» II 19 рассматривается учение Аристотеля о чувственном
восприятии, опыте и соотношении опыта и ума.
В разделе «Эссенциализм» на материалах «Истории животных», «Второй аналитики» II 13, «Метафизики» VII 12 и
двух глав из трактата «О частях животных» I 2–3 анализируется подход Аристотеля к разделению родов на виды на основании различий и определению родов и видов.
В разделе «Аналитика: Обретение универсального знания» на материалах «Первой аналитики» I 5, 24, «Второй аналитики» II 14–17, а также «О частях животных» I 1 изучается
аристотелевский подход к причинному объяснению. В этом
разделе мы делаем краткий экскурс в историю античной математики и естествознания, чтобы показать связь логико-методологических поисков Аристотеля с наукой его времени.
В разделе «Аналитика: Применение универсального знания» на материалах «Первой аналитики» II 21, а также частично «О душе» II 5 и «Физика» VIII 4 мы рассматриваем аристотелевское учение о знании в возможности и в деятельности,
т.е. проблематику применения универсального знания к частным случаям.
В итоговом разделе «Вместо заключения» мы обращаемся к аристотелевскому решению апории Менона, известной
нам по диалогу Платона «Менон»: знаем ли мы или не знаем
то, что мы ищем, исследуем, изучаем? Решение этой апории
фактически подытоживает весь ход научного познания, согласно Аристотелю.
8
ФОРМАЛЬНЫЙ АППАРАТ
При символической записи посылок и силлогизмов мы
следуем за Р. Смитом [20, c. xv–xxi], который, в свою очередь,
следует за Дж. Коркораном (J. Corcoran).
Заглавные буквы обозначают термины, причем сначала
указывается предикат, а затем субъект (как это делал и Аристотель, а не так, как принято в современной логике: сначала
указывать субъект, а затем предикат). В качестве букв, обозначающих термины, мы используем греческие буквы, – те же
самые, что использовал и Аристотель. Например, «А В» следует читать так: «альфа» присуще «бете».
Малые латинские буквы a, i, e, o обозначают качество и
количество посылок: общеутвердительная (a), частноутвердительная (i), общеотрицательная (e), частноотрицательная (o) –
в таких записях, как АаВ, АiB, AeB,AoB.
Знак «├ » отделяет посылки от заключения. Вообще, логическим смыслом предложенного Дж. Коркораном истолкования аристотелевской силлогистики, по словам З.Н. Микеладзе, является «истолкование силлогизма не как импликации, а
как утверждения о выводимости заключения из посылок»
[158, c. 619]. Мы не вступаем в полемику по поводу логического смысла аристотелевского силлогизма и отдаем предпочтение символической записи, предложенной Дж. Коркораном, из-за ее простоты и близости к тексту самого Аристотеля.
Правильные модусы первой фигуры силлогизма записываются так:
АаВ, ВаГ├ АаГ
АеВ, ВаГ├ АеГ
АаВ, ВiГ├ АiГ
АeВ, ВiГ├ АoГ
Сам Аристотель часто не указывает ни количества, ни
качества какой-либо посылки и обозначает ее, например, как
А В. Такие посылки он называет неопределенными. Силлогизм
из неопределенных посылок может быть записан так:
9
А В, В Г├ А Г.
Пропорции (по др.-греч. аналогии) мы будем записывать так:
a : b :: g : d, – что следует читать следующим образом:
«альфа» так относится к «бете», как «гамма» относится к
«дельте».
10
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
СОЧИНЕНИЯ АРИСТОТЕЛЯ (и ПСЕВДО-АРИСТОТЕЛЯ)
An. Post.
An. Pr.
De An.
De Gen. et Corr.
De Int.
EE
EN
Gen. An.
Hist. An.
IA
Juv.
Long.
MA
Mem.
Met.
Metr.
ММ
Part. An.
Phys.
PN
Pol.
Rhet.
Prob.
– Analytica posteriora – Вторая аналитика
– Analytica priora – Первая аналитика
– De anima – О душе
– De generatione et corruptione – О возникновении и уничтожении
– De interpretatione – Об истолковании
– Ethica Eudemia – Эвдемова этика
– Ethica Nicomachea – Никомахова этика
– De generatione Animalium – О возникновении
животных
– Historia animalium – История животных
– De incessu animalium – О ходьбе животных
– De juventute et senectute, De vita et morte,
De respiratione – О юности и старости. О
жизни и смерти. О дыхании // PN
– De longitudine et brevitate vitae – О долгой и
короткой жизни // PN
– De motu animalium – О движении животных
– De memoria et reminiscentia – О памяти и
припоминании // PN
– Metaphysica – Метафизика
– Meteorologica – Метеорологика
– Magna moralia – Большая этика
– De partibus animalium – О частях животных
– Physica – Физика
– Parva naturalia
– Politica – Политика
– Rhetorica (или Ars Rhetorica) – Риторика
– Problemata – Проблемы
11
Soph. El.
Top.
– Sophisticielenchi – О софистических опровержениях
– Topica – Топика
СОЧИНЕНИЯ ПЛАТОНА
Pol.
Soph.
– Politicus – Политик
– Sophista – Софист
СОЧИНЕНИЯ ЕВКЛИДА
Euclid
– Начала Евклида
12
ЭСТЕТИКА
1. АРИСТОТЕЛЬ ОБ ОПЫТЕ И УМЕ
ВО «ВТОРОЙ АНАЛИТИКЕ» II 19
Джонатан Барнс, переводчик и комментатор «Второй
аналитики», отмечает [17, с. 259]1, что при чтении знаменитой
главы An. Post. II 19, посвященной познанию начал эпистемы
(ejpisth>mh), помимо множества детальных проблем возникают
три трудности общего характера.
Во-первых, Дж. Барнс называет An. Post. II 19 двуликим
Янусом, смотрящим и в сторону эмпиризма, и в сторону рационализма. Дело в том, что в этой главе Аристотель сначала
пишет об опыте и индукции, заключая, что «начало эпистемы
из опыта» (100a6–9), а в конце главы заговаривает об уме и
заключает: «начало эпистемы – ум» (100b5–17). Таким образом, в одной главе в качестве начала эпистемы он называет и
опыт, и ум. Возникает вопрос: как же, согласно Аристотелю,
познаются начала – эмпирически, т.е. индуктивно, или же они
постигаются умом? Дж. Барнс пишет: «Объяснить или примирить две эти явно противоположные стороны аристотелевской
мысли – классическая проблема аристотелеведения...». Дж. Барнс
также отмечает, «что классическая дистинкция между “интуитивным” и “демонстративным” знанием, являющаяся общим
свойством рационалистов и эмпиристов, происходит в конце
концов из этой главы».
Во-вторых, имея в виду, что бóльшая часть An. Post. II
посвящена поиску определений, т.е. тоже начал эпистемы,
Дж. Барнс задает вопрос: «Принадлежит ли An. Post. II 19 к
другому пласту аристотелевской мысли? Или две попытки
рассмотрения схватывания нами начал взаимно дополнительны?».
В-третьих, о познании каких начал ведет речь Аристотель в An. Post. II 19: о приобретении терминов или посылок?
Большинство комментаторов ожидают, что речь должна идти
о первых неопосредованных, т.е. недоказываемых, посылках
1
Ссылки на [17] в настоящей книге делаются по изданию 1994 г.
13
доказывающих силлогизмов. Однако сам Аристотель в качестве примеров приводит не суждения, а единичные и универсальные термины (Каллий, человек, животное).
Общепринятое истолкование An. Post. II 19 сводится к
следующему. Во-первых, комментаторы исходят из того, что
речь у Аристотеля идет о началах доказательства. Во-вторых,
в качестве начал доказательства рассматриваются прежде всего неопосредованные посылки доказывающих силлогизмов.
Мы познаем неопосредованные посылки доказывающих силлогизмов посредством индукции, которая идет от эмпирических единичных допущений к универсальному обобщению; а
обобщение это совершается посредством интуитивного акта
ума. Получается, что индукция несамодостаточна. Она требует
в качестве дополнения интуиции. Здесь же встает проблема
полной и неполной индукции. Этот подход освящен авторитетом У.Д. Росса [27] и ряда зарубежных и отечественных специалистов2. Текст же главы не подтверждает эту версию бесспорным образом. Поэтому вновь и вновь предпринимаются
попытки прочитать эту главу иначе.
Дж. Барнс вводит ряд дистинкций, которые позволяют
уточнить истолкование этой главы. Во-первых, он обращает
внимание на различие между познавательными способностями
(hJ du>namiv) и узнающими укладами (hJ gnwri>zousa e[xiv) души
[17, с. 260]. В качестве познавательных способностей Аристотель рассматривает (прежде всего в De An.) чувственную восприимчивость и ум (способность к умопостижению). В качестве же укладов Аристотель называет в An. Post. II 19 (1) опыт,
(2) мнение, (3) расчет (logismo>v), (4) разумение (ejpisth>mh) и
(5) ум; в An. Post. I 33 он рассматривает также (6) недоказывающее разумение (ejpisth>mh ajnapo>deiktov), (7) искусство (te>cnh), (8) рассудительность (fro>nhsiv) и (9) софию. В VI книге
«Никомаховой этики» Аристотель упоминает в качестве познавательных укладов мнение и (10) допущение (uJpo>lhyiv), а
также рассматривает искусство, разумение, рассудительность,
софию и ум.
В An. Post. II 19 Аристотель использует слово e[xiv шесть
раз (99b18, b25, b32; 100a10, a11; 100b5–6). У.Д. Росс [27,
2
Ссылки на [27] в настоящей книге делаются по изданию 1949 г.
Изложение общепринятого истолкования An. Post. II 19 см. также у Д. Хамлина
[47, с. 167].
14
с. 673–675], комментируя строки (99b18, b25, b32), говорит о
способностях (faculty); комментируя же строки (100a10, a11;
100b5–6), – о познавательных укладах (states of knowledge, cognitive states of mind, thinking states). При этом он не акцентирует внимание на их различии. Б.А. Фохт [80] и З.Н. Микеладзе [89] переводят e[xiv (уклад) как «способность»; только в
100b5–6 З.Н. Микеладзе переводит «tw~n peri< thnoian
e[xewv» как «из состояний мысли».
Аристотель многократно использует слово e[xiv (уклад) в
«Никомаховой этике». Мы уже писали об укладах души у
Аристотеля в [168, с. 69–71]. В EN/EE Аристотель ведет речь
об укладах души как познавательных, так и нравственных. На
определенное сходство в понимании тех и других у Аристотеля справедливо указывает Д. Хамлин [47, с. 172]. Э.Л. Радлов переводит e[xiv как «приобретенные свойства души» или
«приобретенные качества души» [102], Н.В. Брагинская – как
«устои», «нравственные устои» или «склад души» [94, т. 4,
с. 816], М.А. Солопова – как «состояние [души]» или «душевное качество» [113, с. 333]. Мы берем за основу один из переводов Н.В. Брагинской, а именно «склад души», из стилистических соображений заменяя в нем приставку, т.е. «уклад»
вместо «склад».
Перевод в An. Post. II 19 e[xiv как «способность» представляется неудачным, так как в этой же главе Аристотель
ведет речь не только о e[xiv, но и о du>namiv, т.е. собственно о
«способности» (99b32–33, b35). У.Д. Росс, комментируя эти
строки, также говорит о способности (faculty), Б.А. Фохт и
З.Н. Микеладзе тоже переводят du>namiv в данных строках как
«способность» (у Б.А. Фохта в одном случае «возможность»).
Тем самым затушевывается аристотелевское противопоставление «уклада» души и «способности», из которой он возникает.
А ведь именно возникновение e[xiv из du>namiv Аристотель и
обсуждает в этой главе. На этот момент обращает особое внимание Д. Хамлин, который отчетливо заявляет, что речь в
An. Post. II 19 идет о генетическом рассмотрении познавательных укладов души [47, с. 171–172], т.е. о генетической эпистемологии. Со своей стороны добавим, что о возникновении познавательных способностей Аристотель в явном виде говорит
в работе «О возникновении животных» II 3, 736a24–737a34
[79; 10, с. 158–65, 173]. Поскольку, согласно Аристотелю, чув-
15
ственное восприятие врожденно, речь идет о его возникновении на эмбриональном уровне.
Во-вторых, Дж. Барнс различает познавательные уклады
души и соответствующие им методы познания [17, с. 268]. При
этом, с его точки зрения, разумению-эпистеме как познавательному укладу соответствует доказательство как метод, а
уму как познавательному укладу – индукция как метод познания (последнее спорно). Получается, что Аристотель ведет в
этой главе речь как о происхождении познавательных укладов
души, так и о соответствующих им методах познания, в том
числе об индукции. Последнее положение важно подчеркнуть,
поскольку Д. Хамлин [47], сомневаясь в правильности общепринятого истолкования An. Post. II 19 (а именно, он сомневается в правильности истолкования места и сути индукции у
Аристотеля), предпринимает попытку обосновать довольно
спорное утверждение, что, поскольку An. Post. II 19 посвящена
генетической эпистемологии, речь об индукции как методе
познания в ней вообще не идет; с его точки зрения, в этой
главе нет речи и о познании неопосредованных посылок доказывающих силлогизмов (последнее справедливо).
В-третьих, Дж. Барнс различает у Аристотеля два варианта опыта. В Met. I 1 опыт есть единичное допущение, например:
Каллию, страдающему вот этой болезнью, вот это [снадобье]
помогло3,
т.е. мы допускаем, что некоему подлежащему (в данном случае Каллию, страдающему вот этой болезнью) нечто сопутствует. Опыт в данном случае единичен.
В An. Post. II 19 опыт есть «узнавание [универсального]
термина», например:
Каллий – человек,
т.е. мы узнаем вот это (Каллий) как нечто (человек) («человек» не сопутствует Каллию, а высказывается в его сути).
Опыт в данном случае универсален. При этом Дж. Барнс считает, что для Аристотеля разница между этими вариантами
опыта несущественна (что спорно). Так, Аристотель, с его
3
Здесь и далее Аристотель цитируется в переводе автора монографии,
если не указано иное.
16
точки зрения, колеблется в An. Post. II 19 между концептуальным и пропозициональным подходами, не осознавая этого.
В конечном итоге Дж. Барнс склоняется к тому, что An. Post.
II 19 имеет эмпирическую направленность. Аристотель задает
в этой главе два вопроса и дает два ответа.
Первый вопрос (о методе): как начала становятся известными? –
Ответ: индуктивно.
Второй вопрос (о познавательном укладе): что есть узнающий
уклад души? –
Ответ: ум.
Дж. Барнс высказывается против перевода и истолкования nou~v, т.е. ума, как «интуиции». Ни о каком рационализме,
с его точки зрения, в An. Post. II 19 речи нет.
Отметим еще несколько позиций по поводу An. Post. II 19.
З.Н. Микеладзе, комментируя фрагмент An. Post. II 19, 100b5–17,
говорит только об интеллектуальной интуиции, без какой-либо
связи с опытом или индукцией. Он считает, что ум есть
«начало (единица) науки», но при этом не поясняет, что значит
«единица науки» (хотя делает ряд ссылок)4. Т. Энгберг-Педерсен [39, с. 307–308, 317], исходя из того, что аристотелевская
индукция состоит в переходе от единичного к универсальному, считает, что индуктивное обобщение происходит с помощью ума. Однако, подчеркивает он, речь идет не о том уме
(укладе души), который Аристотель имеет в виду в An. Post.
II 19, 100b5–17 и который, с точки зрения Т. Энгберг-Педерсена, «гарантирует» истинность неопосредованных посылок
доказывающих силлогизмов. Об уме как способности к индуктивному обобщению чувственно воспринимаемых данных,
согласно Т. Энгберг-Педерсену, Аристотель пишет в De An.
III 4 сл.5, а также в An. Post. I 31 и EN VI11, 1143a35–b5. А о
4
См. прим. 7 к An. Post. II 19 в [89]. В этом примечании З.Н. Микеладзе
делает ссылку на прим. 4 к An. Post. I 23 (в том же изд.), в котором и
содержится интересующий нас комментарий. См. также прим. 17.
5
Мы уже приводили в [168, с. 37] слова Аристотеля из De An. III 4,
429a23: «...Умом же называю то, чем душа размышляет (dianoei~tai) и
принимает (uJpolamba>nei)». Если исходить из этого определения ума (как
способности, см. De An. III 4, 429a22), ему будут соответствовать все уклады
души, связанные с размышлением, т.е. мнение, расчет, искусство, рассудительность, размышление, недоказывающее разумение, разумение, софия. Обратим
внимание на то, что уже в De An. III 6 Аристотель вносит в понимание ума
следующее различие: ум, посредством которого утверждается что-то на основа-
17
чем же тогда идет речь в обсуждаемом нами сейчас фрагменте
An. Post. II 19, 100b5–17? Вслед за Д. Хамлином он считает,
что в этом фрагменте говорится не о познании неопосредованных посылок доказывающих силлогизмов, а об уме как
укладе души, который Аристотель рассматривает в контексте
генетической эпистемологии. При этом остается неясным, что
это за посылки, истинность которых «гарантирует» ум как
познавательный уклад души.
Ч. Кан [54] справедливо считает, что проблема An. Post.
II 19 возникла, в частности, в связи с тем, что аристотелевскую
эпистемологию переформулировали в посткартезианском духе. Аристотеля же надо истолковывать в его собственном духе, в том числе в его собственных словах и выражениях. Ведя
речь о проблеме соотношения опыта и ума, Ч. Кан напоминает
разницу между обыденной и научной концептуализацией и
проводит следующую линию: индукция порождает обыденную концептуализацию, а ум – научную (имеется в виду восходящая к Средневековью и далее к самому Аристотелю дистинкция номинальных и реальных определений). Позиция
Ч. Кана вызывает ряд возражений в деталях и аспектах
подхода к проблеме, однако общая направленность его мысли
нам представляется верной.
В данной главе решение общих проблем An. Post. II 19
будет сопряжено с решением целого ряда детальных проблем.
Некоторые из возникающих вопросов будут рассматриваться
не в полном объеме, а лишь конспективно, хотя они и достойны самостоятельного и подробного рассмотрения.
1.1. Перевод An. Post. II 19
Как мы уже отметили в «Предисловии», предлагаемые в
этой книге переводы Аристотеля представляют собой опыт
нии чего-то, может быть истинным и ложным («ум» в широком смысле слова), а
«ум», который о сути на основании сути бытия, – всегда истинен («ум» в узком смысле слова) (см. также Met. IX 10 и прим. 125 в [167]). Т. Энгберг-Педерсен ведет речь об уме в широком смысле слова, когда это имя означает
«размышление» и «принятие». Мы считаем, что лучше тогда и говорить о
«размышлении» и «принятии», а «ум» оставить для узкого смысла. Предложенное Т. Энгберг-Педерсеном истолкование «ума» как способности к обобщению без гарантии истинности и необходимости последнего подвергает сомнению Р. Мак-Кирэхэн [58, с. 11–12, прим. 38].
18
«более точных переводов», о которых мы писали в книге «Философский язык Аристотеля» [168]. Такие переводы могут
быть непонятны в отдельных местах при первом прочтении.
Они не призваны делать текст понятным, а выступают скорее
в качестве того, что требует объяснения. Содержание представленных в книге глав Аристотеля станет понятным из комментариев к этим главам.
1. Два последних вопроса «Аналитик»
99b15–17: О силлогизме и доказательстве, чтó каждое есть и как
возникает – [стало] очевидно, вместе [с тем] и о доказывающем
разумении: ибо то же есть.
99b17–19: О началах же – [1] как становятся известными? и
[2] чтó [есть] узнающий уклад [души]? – отсюда пусть будет ясным для разобравших сначала затруднения.
Три предварительные апории
99b20–22: Что не могут разуметь через доказательство, не познав
первые неопосредованные начала, говорилось раньше.
99b22–26: [Что] же [касается] познания неопосредованных [начал], [1] что из двух: то же есть или не то же? затруднился бы
кто-то, и [2] что из двух: эпистема для каждого из двух или нет?
или в одном случае эпистема, в другом – какой-то [иной] род
[познания]? и [3] что из двух: не сущие в[нутри] уклады происходят в [душе] или [же], сущие в[нутри] остаются скрытыми [для
нас]?
Обсуждение третьей предварительной апории
99b26–27: Если мы их имеем, неуместно: ибо получается, [что]
имеющиеся познания точнее доказательства остаются незамеченными.
99b28–29: Если же мы принимаем [их], не имея прежде, как бы
мы узнавали и учились, не имея предпознания (ejk mh< prou`parcou>shv gnw>sewv)?
99b29–30: Ибо невозможно, как и для доказательства говорили.
99b30–32: Очевидно поэтому, что невозможно [их] иметь, [невозможно им и] происходить (ejggi>gnesqai) [в душах тех, которые]
не имеют ни познаний, ни одного уклада [души].
Решение третьей предварительной апории
99b32–34: Необходимо иметь какую-то способность, [однако] не
такую иметь, которая будет достойнее их [т.е. познаний] по
точности.
99b34: Кажется же, что это присуще всем животным.
19
99b35–37: Ибо [животные] имеют врожденную критическую
способность (du>namin su>mfuton kritikh>n), которую называют
чувственным восприятием; при сущем в[нутри] чувственном
восприятии, у одних животных происходит сохранение восприятия, у других не происходит.
99b37–100a1: У скольких не происходит, или вообще, или для
чего-то не происходит, нет у них познания вне чувственного
восприятия [единичного]; у других же чувственно воспринимающих [познание] может иметься еще [и] в душе.
100a1–3: При многих же таких возникающих [сохранениях] различие какое-то возникает; таким образом, у одних возникает
логос из сохранения таких [восприятий], у других же нет.
2. Чтó есть узнающий уклад души?
100a3–100a6: Так, из чувственного восприятия возникает память,
как мы говорим, из часто возникающего запоминания того же –
опыт: ибо многие по числу запоминания есть единый опыт.
100a6–100a9: Из опыта, т.е. из всего успокоившегося кафолического в душе, единого помимо многих, которое было бы тем же
во всех этих [запоминаниях], начало искусства и эпистемы; если
бы о возникновении – искусства, если же о сущем – эпистемы.
100a10–100a13: Обособленные уклады внутренне не присущи и
возникают от чувственного восприятия, а не от иных более
познавательных укладов; как в сражении, если [строй] обратился
в бегство, когда один [воин] остановился, другой остановился,
затем третий, пока [строй] не пришел к начальному [состоянию].
100a13–14: Душе же присуща способность как бы претерпевать
это.
3. Как начала становятся известными?
100a14–15: Что же было сказано раньше, но не ясно сказано, мы
бы сказали вновь.
100a15–100b3: Ибо когда остановилось единое из неразличимых,
[остановилось] первое кафолическое в душе (ибо чувственно
воспринимается единичное, чувственное же восприятие есть
[восприятие] кафолического, например, человека, а не Каллия
человека); вновь [уже] для этих останавливается [единое], пока
бы остановились бесчастные и кафолические, например для вот
таких животных, пока [бы остановилось] животное [вообще], и
для него таким же образом.
100b3–5: Ясно же, что нам необходимо первое узнавать индуктивно: ибо чувственное восприятие так во-творяет кафолическое.
4. Ум – начало эпистемы
100b5–14: Так как среди укладов [души], связанных с разумом,
которыми мы истинствуем, одни всегда истинны суть, другие же
20
допускают ложь (например, мнение и расчет), истинны же всегда
эпистема и ум; и ни один иной род не точнее эпистемы, кроме
ума, начала же доказательств более известные, всякая же эпистема – в связи с логосом (meta< lo>gou), – о началах, во-первых,
не было бы эпистемы, а во-вторых, так как ни один [уклад] не
может быть истиннее эпистемы, кроме ума, ум был бы о началах;
из этих [доводов] усматривают, что для начала доказательства
нет доказательства, как нет эпистемы [о началах] эпистемы.
100b14–15: Так что если мы не имеем ни одного иного рода истины помимо эпистемы [и ума], ум был бы началом эпистемы.
100b15–17: И [ум], с одной стороны, был бы началом начала;, с
другой стороны, всякая [эпистема] сходным образом относится
ко всякой вещи.
1.2. Комментарий к An. Post. II 19
1.2.1. Два последних вопроса «Аналитик»
An. Post. II 19 является последней главой «Аналитик».
В 99b15–17 Аристотель одной фразой подытоживает их: «О силлогизме и доказательстве, чтó каждое есть и как возникает –
[стало] очевидно, вместе [с тем] и о доказывающем разумении:
ибо то же есть». И задает два последних вопроса (99b17–19):
«О началах же – [1] как становятся известными? и [2] чтó [есть]
узнающий уклад [души]? – отсюда пусть будет ясным для разобравших сначала затруднения».
Три предварительные апории
Прежде чем сформулировать предварительные затруднения, он напоминает (b20–22): «Что не могут разуметь через
доказательство, не познав первые неопосредованные начала,
говорилось раньше». У.Д. Росс [27, с. 675–676] считает, что
первые неопосредованные начала, «которых касается эта глава, суть посылки, с которых начинается наука или доказательство»; об этих началах Аристотель пишет в An. Post. I 2,
72a14–24: это аксиомы, или общие начала (koinai< ajrcai>);
тезисы (qe>seiv), или свои начала (ijdi>ai ajrcai>), которые в
свою очередь подразделяются на определения (oJrismoi>), т.е.
«номинальные определения всех терминов, используемых в
данной науке», и гипотезы (uJpoqe>seiv), т.е. «принятия (assumptions) существования вещей, соответствующих первым
терминам данной науки». С тем, что об этом «говорилось
21
раньше» в An. Post. I 2, согласны также Б.А. Фохт, Дж. Барнс,
З.Н. Микеладзе6.
Однако, как мы показали в [168, c. 290–299], Аристотель
рассматривает неопосредованные начала доказательства не
только в An. Post. I 2, но и в An. Post. I 3, а также в An. Post. I
7–10. Там же в [168, c. 299] мы привели сводный перечень аристотелевских неопосредованных начал доказательства. О каких из этих начал идет речь в An. Post. II 19? Ответом на этот
вопрос послужит истолкование всей главы в целом, но уже
сейчас, забегая вперед, скажем, что, с нашей точки зрения, в
An. Post. II 19 речь идет прежде всего об опыте как «узнавании
терминов»; в этой же главе кратко говорится об уме как умопостижении соответствующей сути бытия. Таким образом,
речь в An. Post. II 19 идет прежде всего о началах, о которых
«говорилось раньше» не во второй, а в третьей главе An. Post. I.
Отметим, что Дж. Барнс при комментировании An. Post. II 19
упоминает соответствующий фрагмент An. Post. I 3 [17, с. 259,
265].
Далее Аристотель формулирует три диалектические
проблемы (99b22–26):
[Что] же [касается] познания неопосредованных [начал],
[1] что из двух: то же есть или не то же? затруднился бы ктото, и
[2] что из двух: эпистема для каждого из двух или нет? или в
одном случае эпистема, в другом – какой-то [иной] род [познания]? и
[3] что из двух: не сущие в[нутри] уклады происходят в [душе]
или [же], сущие в[нутри], остаются скрытыми [для нас]? 7
Мы считаем, что это формулировка тех самых затруднений-апорий, которые Аристотель только что имел в виду
(99b17–19), сказав «пусть будет ясным для разобравших сначала затруднения», т.е. для тех, кто сначала разберет эти три
затруднения, будут ясными ответы на два главных вопроса
6
См. [17, с. 260], а также прим. 1 к An. Post. II 19 в [80] и [89].
Приводим для сведения читателя греческий оригинал публикуемого
фрагмента: tw~n d∆ ajme>swn thteron hJ aujth> ejstin h} oujc hJ
aujth>|, diaporh>seien a]n tiv, kai< po>teron ejpisth>mh ejkate>rou [h} ou]], h} tou~ memhtou~ d∆ e[tero>n ti ge>nov, kai< po>teron oujk ejnou~sai aiJ e[xeiv ejggi>nontai h} ejnou~sai lelh>qasin.
7
22
главы: (1) как начала становятся известными? и (2) чтó есть
узнающий уклад души?
У.Д. Росс [27, с. 674], истолковывая этот фрагмент (99b22–
26), формулирует только два вопроса, соответствующие 2-й и
3-й апориям, и рассматривает их как основные для всей главы.
При этом два главных вопроса, заданных в (99b17–19), остаются как бы в тени. Дж. Барнс сходным образом [17, с. 260]
рассматривает эти три проблемы как разработку-пояснение
двух главных вопросов: 3-я предварительная апория оказывается новой редакцией первого главного вопроса, а 1-я и 2-я
предварительные апории – второго главного вопроса. Наиболее подробно этот подход разработан (с некоторыми уточнениями) у Т. Энгберг-Педерсена [39, с. 314–317].
Вопрос о соотношении двух главных вопросов и трех
предварительных апорий – непростой, ибо отчетливо отделить
в тексте главы решения предварительных апорий и ответы на
главные вопросы действительно непросто. И тем не менее
позиция уважаемых комментаторов нам представляется спорной. При чтении An. Post. II 19 мы будем исходить из того, что
предварительные апории не тождественны главным вопросам
и имеют относительно самостоятельное значение.
Первую из сформулированных проблем Б.А. Фохт и
З.Н. Микеладзе, судя по их переводам [80; 89], истолковывают
так: познание неопосредованных и опосредованных начал
тождественно или нет? (судя по всему, так же ее истолковывают англо-американские переводчики и комментаторы). Такое истолкование порождает сомнение. Что значит «опосредованное начало»? Ведь начало неопосредованно по определению (см. An. Post. I 2, 72a7–8). Мы склонны считать, что смысл
первой из предварительных апорий такой: познание разных
неопосредованных начал одно и то же или разное? А смысл
второй, соответственно, получится такой: «эпистема для
каждого из двух [видов неопосредованных начал] или нет? ...».
Вероятно, именно этот получающийся смысл второй апории и
смущает переводчиков. Ибо они связывают формулировки
двух первых апорий с определенным истолкованием An. Post.
II 19, 100b5–17. Этот фрагмент будет прокомментирован позднее. Причина спорного прочтения состоит в том, что переводчики и комментаторы исходят из того, что неопосредованные начала суть неопосредованные посылки, хотя многое
23
говорит за то, что для Аристотеля последние – не единственный вариант неопосредованных начал.
Сразу после формулировки трех предварительных затруднений Аристотель обсуждает третье из них (99b26–32),
при этом оба положения, содержащиеся в сформулированной
проблеме, оказываются для Аристотеля неприемлемыми.
Опровергает он их с помощью двух доводов: (1) неуместно,
чтобы имеющиеся познания точнее доказательства остались
незамеченными нами; (2) для узнавания и учебы (и доказательства) необходимо предпознание8. Обратим внимание, одно из
отвергаемых положений: «[уклады], сущие в[нутри души],
остаются скрытыми [для нас]», – соответствует платоновской
точке зрения, хотя речь ведется не об эйдосах, а об укладах
души9.
Далее идет фрагмент, который можно рассматривать как
аристотелевское решение этой апории (99b32–100a3):
Необходимо иметь какую-то способность, [однако] не такую
иметь, которая будет достойнее их [т.е. познаний] по точности.
Кажется же, что это присуще всем животным. Ибо [животные]
имеют врожденную критическую способность (du>namin …
kritikh>n), которую называют чувственным восприятием; при
сущем в[нутри] чувственном восприятии, у одних животных
происходит сохранение восприятия, у других не происходит. У
8
Ср. Met. I 9, 992b24–993a2. Первый из двух доводов (вместе с
опровергаемым положением) формулируется в Met. I 9, 993a1–2 так: «если бы
случилось, что [предпознание] врожденно (su>mfutov ou+sa), удивительно, как
остается незамеченной нами имеющаяся наилучшая из эпистем». Обратим
внимание, здесь он говорит о «врожденном», а не о «сущем в[нутри]», как в An.
Post. II 19. В [167, прим. 25] мы критически отнеслись к тому, что Б.А. Фохт
переводит в An. Post. II 19, 99b25 oujk ejnou~sai (не сущие в[нутри]) как «не будучи врожденными». Сейчас мы хотели бы смягчить свое отношение к этому
переводу: ибо хотя он не совсем точен, концептуальных искажений он не вносит.
9
Дж. Барнс [17, с. 261], Д. Хамлин и, по его свидетельству, К. Поппер
[47, с. 173] указывают на то, что третья из предварительных апорий в An. Post.
II 19 имеет отношение к платоновскому «Менону». Наши отечественные
комментаторы не отмечают этот факт применительно к соответствующему
доводу в An. Post. II 19, а вот применительно к сходному доводу в Met. I 9 (см.
прим. 8) А.В. Кубицкий указывает, что это «сказано по адресу платоновского
учения о припоминании в “Меноне” и “Федоне” », – см. прим. 55 к Met. I 9 в
[76]; то же примечание делают Г.Г. Апостол и А.В. Сагадеев, уточняя, что речь
идет о «Меноне», 81 и «Федоне», 72, – см. прим. 66 в [25] и прим. 43 в [83] к
Met. I 9. То, что в 99b25–26 речь идет о платоновской точке зрения, отмечалось
в [167, прим. 25].
24
скольких не происходит (mh< ejggi>netai), или вообще, или для
чего-то не происходит, нет у них познания вне чувственного
восприятия [единичного]; у других же чувственно воспринимающих [познание] может иметься еще [и] в душе. При многих же
таких возникающих (ginome>nwn) [сохранениях] различие какоето возникает (gi>netai); таким образом, у одних возникает логос10
из сохранения таких [восприятий], у других же нет.
Аристотель формулирует проблему так:
что из двух: не сущие в[нутри (oujk ejnou~sai)] уклады происходят в [душе] (ejggi>nontai) или [же], сущие в[нутри (ejnou~sai)]
остаются скрытыми [для нас]?.
А в фрагменте (99b36–37) читаем:
при сущем в[нутри] (ejnou~shv) чувственном восприятии, у одних
животных происходит (ejggi>gnetai) сохранение восприятия, у
других не происходит (oujk ejggi>gnetai).
Налицо лексические соответствия, которые указывают
на то, что это и есть решение. Т. Энгберг-Педерсен [39, с. 314–
315] также считает, что здесь мы находим аристотелевское
решение третьей предварительной апории. Правда, он почемуто акцентирует внимание на предшествующих строках (99b34–
35). Однако в формулировке проблемы речь шла об укладах, в
решении же (если это решение) речь идет о «чувственном
восприятии» и «сохранении восприятий», т.е. запоминании
(памяти). Выступают ли последние в качестве познавательных
укладов души, – вопрос спорный.
Таким образом, если в рассматриваемом фрагменте мы
находим аристотелевское решение третьей из предварительных апорий, то два положения, содержащиеся в ней, оказываются для Аристотеля неприемлемыми только отчасти. После
внесения в них корректив (в результате которых они перестают противоречить друг другу, а приведенные доводы перестают опровергать их) он принимает оба положения. «Сущим
внутри [души]» оказывается чувственное восприятие (т.е.
нечто менее точное, чем доказательство), а не эйдосы (более
точные, чем доказательство), как считал Платон. «Происходят
же в душе» сохранения чувственных восприятий, т.е. чув-
10
Б.А. Фохт и З.Н.Микеладзе переводят lo>gov как «понимание». Мы
оставляем lo>gov в данном случае без перевода, передавая его как логос. Далее
мы еще вернемся к истолкованию этого термина. См. также [168, c. 32–35].
25
ственные восприятия запоминаются11. Получается, что на данном уровне в качестве «предпознания», необходимого для
узнавания и учебы, выступает чувственное восприятие.
Комментаторы, в том числе Дж. Барнс [17, с. 261–262],
применительно к контексту An. Post. II 19 находят неудовлетворительным аристотелевский довод – «для узнавания и учебы
(и доказательства) необходимо предпознание». Мы уже привели наши возражения такой позиции в книге [168] в главе «О
русских переводах гносеологической терминологии Аристотеля» (см. c. 42 и далее).
Разрешив (в первом приближении) третье из предварительных затруднений (и не вспоминая о двух первых),
Аристотель приступает к ответам на вопросы «о началах»,
заданные в начале главы: «[1] как становятся известными? и
[2] чтó [есть] узнающий уклад [души]?».
1.2.2. Чтó есть узнающий уклад души?
В 100a3–100a14 Аристотель пишет:
Так, из чувственного восприятия возникает память, как мы говорим, из часто возникающего запоминания того же – опыт: ибо
многие по числу запоминания есть единый опыт12. Из опыта, т.е.
из всего успокоившегося кафолического в душе, единого помимо
многих, которое было бы тем же во всех этих [запоминаниях],
начало искусства и эпистемы13; если бы о возникновении –
искусства, если же о сущем – эпистемы. Обособленные уклады
внутренне не присущи и возникают от чувственного восприятия,
а не от иных более познавательных укладов; как в сражении, если
[строй] обратился в бегство, когда один [воин] остановился,
другой остановился, затем третий, пока [строй] не пришел к
начальному [состоянию]. Душе же присуща способность как бы
претерпевать это.
11
Во фрагменте со сходным содержанием в Met. I 1, 980a27–29
Аристотель пишет не о «сохранении», а именно о «запоминании»: «Животные
становятся (gi>gnetai) имеющими чувственное восприятие от природы, из него
же у одних из них не происходит в [душе] (oujk ejggi>gnetai) запоминание, у
других же происходит (ejggi>gnetai)».
12
Ср. Met. I 1, 980b28–981a1: «Опыт же возникает у людей из памяти:
ибо многие запоминания той же вещи способны закончиться единым опытом».
13
Ср. Met. I 1, 981a1–5: «И мнится, что опыт очень сходен с эпистемой и
искусством; эпистема же и искусство исходят у людей из опыта: ибо опыт
сотворил искусство, как говорит Пол, – и правильно говорит, – а неопытность –
случай».
26
Далее мы прокомментируем следующие выражения из
данного фрагмента:
1) «Из опыта, т.е. из всего успокоившегося кафолического в
душе...» (100a6–7);
2) «...единого помимо многих...» (100a7);
3) «Обособленные уклады внутренне не присущи и возникают от
чувственного восприятия, а не от иных более познавательных
укладов...» (100a10–11).
100a6–7: «Из опыта, т.е. из всего успокоившегося
кафолического в душе...»
Опыт как нечто универсальное (кафолическое) возникает
в душе (ejn th~| yuch~|). Мы уже рассмотрели в [168, с. 281–286]
вопрос, касающийся «состояний в душе». Там речь шла о единичных «отпечатках» в душе, здесь же речь идет о «кафолическом» опыте, который также можно рассматривать в качестве «состояния души». То обстоятельство, что универсальное
оказывается чем-то субъективным, а лучше сказать – субъектным (т.е. чем-то в душе), «смущает» многих комментаторов,
причем по нескольким основаниям. Комментаторы ставят
вопросы: универсальное у Аристотеля объективно или субъективно? универсальное у Аристотеля чувственно воспринимаемо или познается как-то иначе? – и, как правило, отвечают:
универсальное у Аристотеля объективно и чувственно не воспринимаемо.
Однако следует признать, что вообще Аристотель имеет
в виду универсальное как вне души, так и в душе. В данной
главе речь идет о последнем. Отношения между тем, что вне
души, и в душе, на разных стадиях познания разные. Мы лишь
конспективно назовем некоторые из этих стадий. Во-первых,
применительно и к чувственно воспринимаемому, и к чувственно воспринимающему (т.е. познавательной способности)
Аристотель различает энергийное состояние и динамическое
(т.е. действительность и возможность) (De An. III 2, 425b26–
426a26). При этом динамически чувственно воспринимаемое и
чувственная восприимчивость суть разное, а энергийно – одно
и то же, т.е. энергия чувственного восприятия и чувственно
воспринимаемого – едина. И именно эта единая энергия «спасается» (sw>zesqai), т.е. сохраняется, в душе при запоминании,
становясь основой для последующего возникновения
соответствующего опыта, т.е. уклада души. В § 8.1 мы рас-
27
смотрим более подробно соответствующий фрагмент De An. II 5,
а пока лишь кратко отметим, что в этой главе применительно к
укладам души (главным образом к эпистеме) Аристотель
вновь различает их динамические и энергийные состояния.
Речь в этом случае идет об имеющихся в душе познаниях,
которые или не используются в данный момент (динамическое
состояние уклада), или используются (энергийное состояние
уклада). При использовании уже имеющихся познаний (энергийное состояние соответствующего уклада) в определенном
смысле вновь происходит отождествление того, что в душе, с
тем, что вне души.
В An. Post. II 19 Аристотель рассматривает возникновение опыта, которое начинается с перевода во внутренний план
(т.е. в душу) чувственного восприятия, т.е. единой энергии
чувственно воспринимаемого и чувственной восприимчивости. Роль опыта в возникновении эпистемы как познавательного уклада души в этой главе в полном объеме не рассматривается. А энергийное применение уже имеющейся
эпистемы к частным случаям в этой главе вообще не рассматривается.
100a7: «...единого помимо многих...»
Это выражение употребляется в данном фрагменте в связи с «кафолическим в душе», т.е. с некой универсалией.
С.С. Неретина и А.П. Огурцов отмечают, что латинские «реалисты» XIII в. основывали свое истолкование «универсалий»
именно на данном аристотелевском фрагменте [164, с. 268].
«Проблемность» в истолковании этого фрагмента сохраняется
до сих пор. Выражение «единое помимо многих», судя по всему, представляется некоторым современным комментаторам
слишком платоновским, поэтому они всячески пытаются «нейтрализовать» его. Так, У.Д. Росс [27, с. 677] замечает, что речь
в данном случае идет не о «существовании помимо (apart from)
многих», а об «отличии от (distinct from) многих», ибо тут же
Аристотель пишет, что единое – «во всех этих». Вообще среди
англо-американских переводчиков и комментаторов распространилась практика переводить «to< e[n para< polla> (единое
помимо многих)» или как the one apart from the many (в случае,
если имеется в виду платоновская позиция), или как the one
beside the many (в случае, если имеется в виду аристотелевская
позиция). Так же поступает и З.Н. Микеладзе [89]: в An. Post. I 11,
28
77a5 (платоновская позиция) он дает перевод «единое помимо
многого», а в An. Post. II 19, 100a7 (аристотелевская позиция) –
«единого, отличного от множества». Хотя некоторые переводчики сохраняют единый перевод в обоих случях: Б.А. Фохт и
Дж. Барнс в An. Post. I 11, 77a5 и An. Post. II 19, 100a7 дают
следующие переводы: «единое помимо множества» (77a5:
платоновская позиция) и «... помимо многого» (100a7: аристотелевская позиция); «...one...apart from themany» (77a5) и
«the one apart from the many» (100a7).
Как уже отмечалось выше, у Аристотеля следует различать универсальное вне души и универсальное в душе. Применительно к универсальному вне души собственно аристотелевская позиция выражается как «единое на основании
многих» (to< e[n kata< pollw~n; в этом случае «единое помимо
многих» будет платоновской позицией); применительно же к
универсальному в душе «единое помимо многих» выражает
собственно аристотелевскую позицию14. Ибо когда Аристотель говорит, что опыт есть универсальное в душе, единое
помимо многих, он имеет в виду, что опыт есть нечто универсальное и единое в душе помимо многих единичных отпечатков-икон, которые суть то же в душе, т.е. и универсальное (опыт), и единичное (отпечаток-икона) равно существуют как расположения души (ни о каком онтологически
отдельном существовании универсального здесь речь не идет).
При этом опыт содержит в себе нечто тождественное для всех
этих отпечатков.
Чтобы уяснить себе данный вариант «универсалии»,
надо рассмотреть этот фрагмент вместе с теми фрагментами, в
которых речь идет о соответствующих универсалиях вне
души. Частично мы затронем этот вопрос в этой же главе при
комментировании «первого универсального в душе», о котором говорится в 100a16. Однако более основательно мы продолжим обсуждение универсального вне души в § 7.2.
100a10–11: «Обособленные уклады [души]
внутренне не присущи (ou]te … ejnupa>rcousin)
и возникают (gi>nontai) от чувственного восприятия,
а не от иных более познавательных укладов...»
14
О выражениях «единое для многих», «единое помимо многих»,
«единое на основании многих» см. [167, прим. 56].
29
Дж. Барнс считает [17, с. 265], что именно в этом
фрагменте Аристотель дает решение 3-й из предварительных
апорий (поскольку он считает, что 3-я апория выступает в
качестве пояснения первого главного вопроса, для него это
ответ на первый главный вопрос «как становятся известными
начала»). Лексически данные положения отличаются от
положений, сформулированных в апории. Но здесь, как и в
самой апории, в явном виде речь идет об укладах, чего не
было в вышерассмотренных строках (99b36–38). Т. ЭнгбергПедерсен считает [39, с. 316], что это просто второй вариант
ответа на тот же вопрос. Возникают вопросы: в каких строках
Аристотель дает свое решение третьей предварительной
апории – в (99b32–100a3) или (100a10–11)? или это просто две
редакции одного решения? или эти решения дополняют друг
друга?
Комментаторы давно обратили внимание на то, что в
(99b32–100a3) Аристотель ведет речь о трех ступенях познания: врожденной способности к чувственному восприятию;
сохранении чувственных восприятий; различии и логосе, – а в
(100a3–100a14) – о четырех: чувственном восприятии; памяти;
опыте; искусстве и эпистеме. Дж. Барнс считает [17, с. 262],
что фрагмент (100a3–100a14) исправляет и расширяет фрагмент (99b32–100a3).
Дж. Барнс также считает [17, с. 264], что об опыте Аристотель говорит только в одном из этих фрагментов, а именно в
(100a3–100a14). В то же время, с его точки зрения [17, с. 265],
«логос», который упоминается в 100a2, есть не что иное, как
то, из чего «начало эпистемы» (100a8), а ведь «начало эпистемы», согласно Аристотелю (100a6–8), из опыта (хотя в
100b15 Аристотель говорит, что «ум был бы началом эпистемы», на что и намекает Дж. Барнс при истолковании «логоса» в 100a2, привлекая при этом An. Post. I 3, 72b24, что спорно). Д. Хамлин, в свою очередь, заявляет [47, с. 176–177], что
логос, упоминаемый в 100a2, и есть опыт: мол, в (99b32–
100a3) Аристотель говорит о «сохранении восприятия», а в
(100a3–100a14) он называет это «памятью»; в первом из указанных фрагментов Аристотель говорит, что из «сохранения
восприятий» возникает различие и логос; во втором из указанных фрагментов он говорит, что из памяти возникает опыт.
30
Если в 100a2, упоминая «логос», Аристотель имеет в виду только опыт, то получилось бы, что речь идет исключительно о единичных высказываниях. Ибо, будь логос универсальным высказыванием, речь уже шла бы об искусстве или
эпистеме. А если учесть, что непосредственно перед упоминанием «логоса» Аристотель говорит о «различии», – есть по
крайней мере формальный повод полагать, что логос есть
логос сути, т.е. определение. Поскольку «логос» упоминается
без каких-либо пояснений, чтό имеется в виду, мы считаем,
что следует исходить из того, что этот логос может быть и
логосом сути (т.е. определением), и единичным высказыванием (т.е. опытом), и универсальным (т.е. искусством или эпистемой).
В [168, с. 54–140] мы много писали о том, что Аристотель учитывает две части души, одна из которых связана с
логосом, а другая – без-логосная. Мы думаем, что именно в
этом смысле Аристотель упоминает логос в 100a2. То есть он
говорит о том, что на основе «сохранения восприятий» в душе
может возникнуть «логос» (не детализируя опосредующие
звенья), а следовательно и все уклады души, связанные с
логосом (мета-логосные): искусство, эпистема, рассудительность, софия и т.д. О том, что, по крайней мере применительно к
искусству (а в рассмотренном фрагменте 100a3–100a14 Аристотель
пишет об опыте как начале не только эпистемы, но и искусства),
он различал опыт и логос, свидетельствует Met. I 1, 981a12–28:
Относительно практического дела опыт, мнится, ничем [не]
отличается от искусства, однако мы видим, [что] более
преуспевают [имеющие] опыт, [чем те, кто] имеют логос без
опыта...
Таким образом, логос в 100a2 может означать и опыт
(как единичное допущение), и искусство, и эпистему. В то же
время в (100a3–100a14) речь идет об опыте как «узнавании
термина» (а не единичном допущении), а в (99b32–100a3)
опыт в явном виде вообще не упоминается. Это обстоятельство нам представляется важным.
У.Д. Росс усматривает [27, с. 677], что в (100a3–100a14)
присутствует реминисценция платоновского «Федона» (96b):
...Что из них: кровь есть то, чем мы рассуждаем, или воздух, или
огонь? Или ничто из них, а мозг есть то, что вызывает
чувственное восприятие слуха, зрения и обоняния, а из них
возникли бы память и мнение, из принятых памяти и мнения
31
[возникло бы] успокоение, [и] на основании этих возникает
эпистема?
Следует отметить, что Платон в данном случае не упоминает опыт. Сравним этот фрагмент из «Федона» с фрагментом (99b32–100a3), в котором также не упоминается опыт.
Возникает подозрение, что в (99b32–100a3) Аристотель положительно воспроизводит позицию, критически представленную в этом фрагменте платоновского диалога. При этом он
переформулирует эту позицию таким образом, чтобы явно
обозначить решение предварительной апории: первое познание изначально присутствует в душе или происходит в какойто момент? – изначально в душе присутствует способность к
чувственному восприятию, а в какой-то момент происходит
запоминание чувственно воспринятого. Таким образом, прежде всего Аристотель акцентирует внимание на памяти. А в следующем фрагменте, т.е. в (100a3–100a14), он вводит опыт,
причем опыт не как единичное допущение (о чем идет речь в
Met. I 1), а как узнавание термина, т.е. как нечто «кафолическое [т.е. универсальное] в душе» и «единое помимо многих».
Имея в виду опыт, Аристотель и дает второе решение: «...уклады [души] [в том числе опыт, искусство, эпистема. – Е.О.]
внутренне не присущи, и возникают от чувственного восприятия, а не от иных более познавательных укладов...».
Таким образом, можно считать, что в 100a10–11 мы
находим завершение решения 3-й из предварительных апорий,
и в то же время это завершение становится ответом на второй
главный вопрос «чтó есть узнающий уклад души». Мы считаем, что именно опыт, а не ум, выступает у Аристотеля в качестве узнающего уклада души. Следовательно, именно в этом
фрагменте содержится ответ на указанный вопрос. В то же
время не следует проводить прямых параллелей между первой
частью решения 3-й из предварительных апорий, содержащейся в (99b32–100a3), и ответом на вопрос: чтó есть узнающий уклад души? – в 100a3–100a14.
Два варианта опыта у Аристотеля
Остановимся поподробнее на различии двух вариантов
опыта у Аристотеля. Как уже отмечалось, если в An. Post. II 19
речь идет об опыте, возникающем исключительно из чувственного восприятия и запоминаний, то в Met. I 1 речь идет прежде
32
всего об опыте как единичном допущении15. Аристотель пишет
в Met. I 1, 981a5–12:
Возникает же искусство [тогда], когда из многих опытных
постижений (ejnnohma>twn) возникло бы единое кафолическое
допущение о сходных. Ибо иметь допущение, что Каллию,
страдающему вот этой болезнью, вот это [снадобье] помогло, и
Сократу, и также каждому из многих, – [дело] опыта; а [иметь
допущение], что всем таким-то, определенным по виду,
страдающим вот этой болезнью, помогло, например,
флегматичным, или желчным, или горящим в лихорадке, – [дело]
искусства.
Опытом в этом фрагменте Аристотель называет единичное допущение: Каллию, страдающему вот этой болезнью, вот
это снадобье помогло. Универсальное (кафолическое) допущение: всем людям, страдающим такой-то болезнью, помогает
такое-то снадобье, – Аристотель относит уже к искусству.
Единым в данном случае выступает универсальное допущение
(т.е. искусство), а многими – единичные допущения (т.е. опыты). Когда же идет речь об опыте как «кафолическом в душе»,
многими выступают запоминания, а единым – опыт.
Мы не видим оснований считать, что Аристотель не различал два варианта опыта или не видел между ними существенной разницы. В An. Post. II 19 речь идет об опыте как
«первом кафолическом в душе», т.е. об «узнавании терминов»,
а не об эмпирических допущениях.
1.2.3. Как начала становятся известными?
В 100a14–100b5 Аристотель пишет:
Что же было сказано раньше, но не ясно сказано, мы бы сказали
вновь. Ибо когда остановилось единое из неразличимых, [остановилось] первое кафолическое в душе (ибо чувственно воспринимается единичное, чувственное же восприятие есть [восприятие] кафолического, например, человека, а не Каллия человека);
вновь [уже] для этих останавливается [единое], пока бы остановились бесчастные и кафолические, например для вот таких животных, пока [бы остановилось] животное [вообще], и для него
таким же образом. Ясно же, что нам необходимо первое узнавать
индуктивно: ибо чувственное восприятие так во-творяет кафолическое.
15
13.
Ряд фрагментов Met. I 1, касающихся опыта, приведен в прим. 11, 12,
33
В этом фрагменте мы прокомментируем следующие выражения:
1) «...единое из неразличимых...» (100a15–16);
2) «...первое кафолическое в душе...» (100a16);
3) «...ибо чувственно воспринимается единичное, чувственное же
восприятие есть [восприятие] кафолического, например,
человека, а не Каллия человека...» (100a16–100b1);
4) «...нам необходимо первое узнавать индуктивно: ибо
чувственное восприятие так во-творяет кафолическое» (100b4–5).
100a15–16: «...единое из неразличимых (tw~n ajdiafo>rwn)...»
Д. Хамлин считает [47, с. 179], что «неразличимыми»
(100a15–16) в данном случае Аристотель называет «...вероятно, вещи, которые неразличимы до акта чувственного восприятия, и они становятся различимыми только останавливаясь (by making a stand)...», и добавляет, что «есть первое универсальное в душе, когда единое из adiaphora остановилось»
(47, с. 181), т.е. первое универсальное в душе уже есть к моменту, когда единое из неразличимого стало. У Д. Хамлина
получается, что многие – неразличимы, а единое, которое остановилось из многих, – различимо, т.е. различие.
Конечно, до акта чувственного восприятия душа человека еще ничего не различает, но не об этой неразличимости
речь. Аристотель, с нашей точки зрения, имеет в виду следующее: способность к чувственным различиям врожденна человеку; человек, чувственно воспринимая, различает еще до становления опыта, правда, различия эти лишь случайны и хаотичны; запоминание чувственных восприятий и их повторяемость в последующих чувственных восприятиях дают возможность человеку сравнивать сохраняемые чувственные восприятия и тем самым отождествлять некоторые из них, т.е.
вырабатывать представления об объемлющем и объемлемом
разрядах; так, собственно, становится опыт; при этом для разряда отдельные его экземпляры безразличны или же неразличимы. Именно об этой неразличимости ведет речь Аристотель
в обсуждаемом фрагменте. Единое или первое универсальное
становится в душе именно тогда, когда душа доходит до неразличимости восприятий, относящихся к одному и тому же
разряду.
Таким образом, первое универсальное в душе не предшествует единому и неразличимому, а является собственно им.
34
Предшествующее этому фрагменту иносказательное сравнение деятельности души с тем, что происходит на поле боя
(сначала воины побежали с поля боя, затем остановился один,
за ним другой и, наконец, все воины вернулись в боевые
порядки), следует понимать так: бегущие с поля боя воины
подобны чувственным восприятиям; остановившийся воин
подобен сохранившемуся в памяти чувственному восприятию;
воины, вернувшиеся в боевые порядки, суть сохранившиеся
чувственные восприятия, распределенные по объемлющим и
объемлемым разрядам.
Вообще мы можем говорить об одном и том же и как
неразличимом, и как различимом. Многие по числу и единые
по виду различимы по числу и неразличимы по виду, многие
по виду и единые по роду различимы по виду и неразличимы
по роду, т.е. в разных контекстах мы можем говорить и о
неразличимости, и о различимости по виду. Первое универсальное в душе рассматривается как единое, относящееся ко
многим запоминаниям, а значит как неразличимое.
Д. Хамлин, допуская, с нашей точки зрения, неточность
при истолковании этого фрагмента, находит при этом его
содержание неудовлетворительным [47, с. 178–180], – и напрасно. Положение (ошибочное), согласно которому первое универсальное в душе предшествует опыту, становится для Д. Хамлина принципиальным.
100a16: «первое универсальное в душе»
У.Д. Росс считает, что в данном случае Аристотель имеет в виду, что так универсальное познается «в первый раз» (the
first grasping of the universal), т.е. «первое» означает «в первый
раз» (так же переводит этот фрагмент и Б.А. Фохт). Дж. Барнс
дает перевод a primitive universal in the soul (первое универсальное в душе), но при этом в комментарии отмечает, что
лучше было бы перевести for the first time there is a universal in
the soul.
Однако, надо иметь в виду, что Аристотель неоднократно употребляет выражение «первое кафолическое» (в русских переводах «первично общее» и «первое общее») за пределами An. Post. II 19, но без добавления «в душе» (см. An.
Post. I 5, 74а 5, 6, 11–12, 13; I 24, 85b23–27; An. Post. II 17, 599a
33–35; II 18, 99b9–10). Поэтому истолкование этого выражения
в 100a16 зависит от того, как, с точки зрения того или иного
35
комментатора, оно относится к другим его употреблениям.
Дж. Барнс считает, что «первое кафолическое» в 100a16 не
имеет никакого отношения к другим аристотелевским использованиям этого выражения, и его истолкование, вслед за
У.Д. Россом, как «в первый раз» и призвано подчеркнуть это
отличие. Проблема «первого кафолического» у Аристотеля –
большая и самостоятельная тема. В данном случае мы лишь
отметим, что, с нашей точки зрения, первым универсальным
Аристотель называет термины, которые могут исполнять роль
меньших крайних терминов в универсальных доказывающих
силлогизмах. В An. Post. II 19 имеются в виду термины, которые могут выполнять ту же роль, только речь идет не столько
о терминах, сколько об опыте, соответствующем этим терминам, т.е. о том, что в душе, а не вне души (что имеется в виду в
остальных случаях использования выражения «первое кафолическое»). Более подробно мы рассмотрим «первые универсалии» в разделе «Аналитика: обретение универсального знания» (5-я, 6-я, 7-я главы).
100a16–00b1: «ибо чувственно воспринимается единичное,
чувственное же восприятие есть [восприятие]
кафолического, например, человека, а не Каллия человека»
Комментируя эти строки, Дж. Барнс [17, с. 266] задается
вопросом: как, согласно Аристотелю, чувственное восприятие
может преодолеть зазор между единичным и универсальным?
В поиске ответа на этот вопрос он обращается к аристотелевским дистинкциям чувственно воспринимаемого самого по
себе и по совпадению, чувственно воспринимаемого своего и
общего для органов чувственного восприятия (см. De An. II 6),
но находит их недостаточными для искомого ответа. В конце
концов Дж. Барнс заключает, что Аристотель ни здесь, ни гделибо в другом месте не поясняет, как «такие концепты, как
человек, образуются из данных чувственного восприятия».
Мы же считаем, что Аристотель дает соответствующее
пояснение именно в рассматриваемом фрагменте (100a14–
100b5). Первое предложение этого фрагмента может неверно
сориентировать читателя. Аристотель, «вновь» высказываясь,
казалось бы, о том же, о чем шла речь в предыдущем фрагменте (100a3–100a14), на самом деле затрагивает теперь другой аспект той же проблемы. В (100a14–100b5) об опыте в
явном виде уже не говорится, зато в явном виде упоминается
36
индукция. Если в предыдущем фрагменте речь шла о «кафолическом в душе», то здесь появляется уточнение – «первое
кафолическое в душе». Если в предыдущем фрагменте «кафолическое в душе» относилось к опыту (который возникает из
чувственного восприятия), то здесь «первое кафолическое в
душе» относится к чувственному восприятию и индукции.
Опыт – уклад души, а индукция – метод познания, присущий
опыту (а не уму, как считает Дж. Барнс).
При этом следует помнить, что Аристотель различает
опыт и абстрагирование. Согласно рассмотренным фрагментам (100a3–100а14) и (100а14–100b5), индукция приводит к
возникновению опыта (т.е. к эмпирическому обобщению).
Однако индукция может иметь и другой результат. В An. Post. I
18, 81b3–4 Аристотель пишет: «отвлеченным [т.е. абстрактным] называемое (ta< ejx ajfaire>sewv lego>mena) будет узнаваться через индукцию», – т.е. индукция может привести и к
абстрагированию. В качестве примера эмпирического обобщения Аристотель называет ряд: «Каллий – человек – животное»
(An. Post. II 19, 100b1–3). В качестве примера абстрагирования
Аристотель называет ряд: «медный равнобедренный треугольник – равнобедренный треугольник – треугольник» (An. Post. I 5,
74a38–74b1). При этом абстрактное, так же как и опыт, он
называет «первым кафолическим». Получается, что с помощью индукции можно узнавать как эмпирические термины,
так и абстрактные16. Таким образом, в этом фрагменте мы находим ответ на другой вопрос, а именно, как начала становятся известными? – Аристотель отвечает: индуктивно.
Чувственное восприятие в узком смысле слова, согласно
Аристотелю, действительно не позволяет чувственно воспринимать такие универсальные предметы, как «человек», в этом
Дж. Барнс прав. Однако, судя по контексту главы, в (100a14–
100b5) Аристотель говорит о чувственном восприятии в широком смысле слова, т.е. в данном случае он включает в него не
только чувственное восприятие единичных предметов, но и
16
О том, что Аристотель различает опыт и абстракцию, свидетельствует,
в частности, EN VI viii, 1142a17–20, который мы уже приводили в [168, с. 303]:
«... Почему же отрок математиком стал бы, а мудрецом или физиком нет? Разве
[не потому], что [начала математики узнаются] посредством отвлечения, а
начала [мудрости и физики] из опыта; и юноши не удостоверяются [в началах
мудрости и физики], а [лишь] говорят [о них], суть же [начал математики]
ясна?».
37
память, и индукцию (а значит, и опыт, и абстрагирование).
Собственно рассмотрение опыта как «первого кафолического
в душе» (в отличие от опыта как единого допущения) и есть
аристотелевский ответ на вопрос – как чувственное восприятие может преодолеть зазор между единичным и универсальным? Оно может это сделать вместе с памятью и индукцией.
100b4–5: «нам необходимо первое узнавать индуктивно:
ибо чувственное восприятие
так во-творяет кафолическое»
У.Д. Росс [27, с. 675–676] и Дж. Барнс [17, с. 267] считают, что «первое» в этих строках означает «аксиомы», т.е. пропозициональные начала, хотя и добавляют, что под «первым»
можно иметь в виду и универсальные концепты (вообще, в
англо-американском аристотелеведении принято отождествлять аксиомы с неопосредованными посылками доказывающих силлогизмов, что, с нашей точки зрения, спорно). Мы
же считаем, что Аристотель ведет в данном случае речь об
узнавании первых универсальных терминов. С нашей точки
зрения, «так» в этих строках означает «индуктивно». Д. Хамлин же полагает, что говоря «так (in this way)», Аристо-тель
имеет в виду не «индуктивно», а генетическое рассмотрение
(genetic account) [47, с. 171–172, 180–181]. Он считает, в
частности, что индукция не может «во-творять универсальное», ибо универсальное в душе уже есть, «когда остановилось
единое из неразличимых» (выше, при комментировании 100a
15–16, у нас уже шла речь об ошибочности этого довода). Эти
строки подтверждают версию о том, что Аристотель в прокомментированных выше строках (100a16–100b1) имеет в виду
чувственное восприятие в широком смысле слова, т.е. чувственное восприятие, включающее в себя память и индукцию.
Фрагменты (100a3–100a14) и (100a14–100b5) связаны
между собой в той же мере, в какой связаны между собой два
главных вопроса главы: как становятся известными начала? и
чтó есть узнающий уклад души? В обоих фрагментах Аристотель ведет речь о возникновении опыта как познавательного
уклада души. Индукцию он рассматривает во втором из этих
фрагментов постольку, поскольку она участвует в возникновении опыта (опыт по сути своей индуктивен), и объясняет,
как происходит эмпирическое узнавание начал.
38
Если ранее у нас речь шла о двух вариантах опыта у
Аристотеля, то сейчас мы хотели бы повторить то, что уже
говорили в [168, с. 50–51], а именно: что и индукция у него
имеет два соответствующих варианта: одно индуктивное обобщение приводит к появлению универсального термина (обобщение на основании чувственного восприятия), другое – универсального суждения (обобщение на основании допущения).
Эту позицию в явном виде проводит Р. Мак-Кирэхэн [58].
Разумеется, приведенная дистинкция индукций не исчерпывает всего многообразия вариантов индукции у Аристотеля.
Сейчас мы бы хотели только подчеркнуть, что индукция,
включенная в «узнавание терминов», – «законный» вид
индукции в эпистемологии Аристотеля.
1.2.4. Ум – начало эпистемы
Ответив на вопросы «о началах»: как они становятся
известными? (индуктивно) и чтó есть узнающий уклад души?
(опыт) – Аристотель в конце главы (100b5–17) заводит речь об
укладах души, «связанных с разумом, которыми мы истинствуем», а именно о мнении, расчете, эпистеме, – и об уме.
Если в предшествующих фрагментах речь шла о предшествующем и более известном относительно нас, то в этом фрагменте говорится о предшествующем и более известном просто.
Так как среди укладов [души], связанных с разумом, которыми
мы истинствуем, одни всегда истинны суть, другие же допускают
ложь (например, мнение и расчет), истинны же всегда эпистема
и ум; и ни один иной род не точнее эпистемы, кроме ума, начала
же доказательств более известные, всякая же эпистема – в связи
с логосом (meta< lo>gou), – о началах, во-первых, не было бы
эпистемы, а во-вторых, так как ни один [уклад] не может быть
истиннее эпистемы, кроме ума, ум был бы о началах; из этих
[доводов] усматривают, что для начала доказательства нет
доказательства, как нет эпистемы [о началах] эпистемы. Так что
если мы не имеем ни одного иного рода истины помимо
эпистемы [и ума], ум был бы началом эпистемы. И [ум], с одной
стороны, был бы началом начала; с другой стороны, всякая
[эпистема] сходным образом относится ко всякой вещи.
Ранее отмечалось, что, согласно An. Post. II 19, 100a6–9
(и Met. I 1, 981a1–5), начало эпистемы из опыта, в данном же
фрагменте говорится, что начало эпистемы – ум. Таким образом, мы выходим на основную проблему, связанную с истол-
39
кованием всей An. Post. II 19. Как соотнести эти положения? В
An. Post. II 19 речь идет об опыте как «узнавании терминов» и
уме, о котором говорится, что он – начало эпистемы. Имеет
ли место некий переход от опыта к уму или нет такого перехода? Каким образом, узнав термины, мы познаем истинные и
необходимые посылки доказывающих силлогизмов? На эти
вопросы явных ответов в этой главе нет. Вообще, фрагмент
An. Post. II 19, 100b5–17 относится к тем фрагментам, которые
не столько объясняют, сколько сами требуют объяснения. И
объяснение это надо искать за пределами An. Post. II 19. Прежде всего надо выяснить, что означает выражение «ум – начало
эпистемы»? Комментаторы, как правило, исходят из того, что
речь в данном случае идет об умопостижении неопосредованных посылок, хотя это не очевидно.
Мы считаем, что при чтении фрагмента An. Post. II 19,
касающегося ума, важно учитывать одну из аристотелевских
дистинкций, а именно дистинкцию недоказываемой эпистемы
и ума. Во 2-й главе книги «Философский язык Аристотеля»
[168, с. 37–38] мы уже ввели в рассмотрение аристотелевскую
дистинкцию «недоказываемой эпистемы» и «эпистемы». Сейчас мы повторим некоторые положения из той главы. Эпистема – доказывающий силлогизм. Недоказываемая эпистема
есть первая неопосредованная посылка доказывающего силлогизма. Об этом Аристотель пишет в An. Post. I 33. А именно,
в этой главе Аристотель, во-первых, различает два варианта
«допущения (hJ uJpo>lhyiv) неопосредованных посылок» – допущение того, что может быть иначе, т.е. не-необходимо (мнение, do>xa – 89a2–4), и допущение то-го, что не может быть
иначе, т.е. необходимо (недоказываемая эпистема, ejpisth>mh
ajnapo>deiktov – 88b30–32, 35–37), – а во-вторых (добавим к
тому, что писалось в вышеуказанной главе), различает недоказываемую эпистему (как допущение необходимой неопосредованной посылки) и ум (как начало эпистемы) (88b35–37).
Аристотель различает неопосредованную посылку и ум
также в An. Post. I 23. В этой главе Аристотель сначала говорит об «элементах» (stoicei~a) показа, а затем о едином (to< e[n)
для силлогизма и эпистемы: «элементами» показа он называет
средние термины (84b21) и неопосредованные посылки (84b22),
а о едином пишет следующее (84b39–85a1): «...так – единое
40
для силлогизма – неопосредованная посылка, для доказательства же, т.е. эпистемы, – ум»17.
Итак, обе упомянутые главы не дают оснований считать,
что выражение «ум – начало эпистемы» относится к неопосредованным посылкам. И в An. Post. I 23, и в An. Post. I 33
Аристотель отличает ум как начало эпистемы от неопосредованных посылок. В An. Post. I 33, как и в An. Post. II 19, Аристотель рассматривает познавательные уклады души и при этом
предлагает читателю обратиться за дальнейшими разъяснениями, в частности, к «Этике».
Мы анализировали соответствующие материалы «Никомаховой этики» в книге «Философский язык Аристотеля»
[168, с. 88–118]. Там мы показали, что Аристотель понимает
софию-мудрость двояко: или как первую философию (софия о
сущности), или как ум и эпистему (софия о сопутствующем)
[168, с. 117]. Во «Второй аналитике» мы имеем дело с софией
о сопутствующем. Там же мы выяснили, что и в EN VI vi, и в
An. Post. II 19 из контекста получается, что то, чтό в связи с
логосом, не может быть началом; оно должно иметь в качестве
начала что-то иное; причем по контексту опять же получается,
что это что-то иное должно быть чем-то не в связи с логосом.
И в ΕΝ VI vi, и в An. Post. II 19 Аристотель заключает, что начала эпистемы познаются умом. Получается, ум – не мета-логосный (а недоказываемые посылки силлогизма суть логосы).
Вообще, если иметь в виду, что Аристотель принимает разделение души на имеющую логос и без-логосную, ум должен бы
относиться к части души, имеющей логос, и в этом смысле
быть в связи с логосом. Однако нам неизвестно, чтобы Аристотель где-либо говорил об уме в связи с логосом. Когда он
имеет в виду часть души, имеющую логос, он говорит о софии
(например, в EN I vi 1103a1–7), включающей в себя ум и эпистему, а вот когда он обсуждает способы истинствования, он
говорит порознь об уме и эпистеме. Получается, что софия – в
связи с логосом, но ум, как начало софии, – не в связи с логосом. В определенном смысле с без-логосностью мы встречаемся дважды: до логоса (питательная часть души) и после логоса (ум). И мудрый, и рассудительный пользуются умом в
17
Выражение З.Н. Микеладзе «ум и есть начало (единица) науки»,
которое упоминалось во вводной части данной главы, соответствует
аристотелевским словам «единое для ... доказательства же, т.е. эпистемы, – ум».
41
связке с каким-либо мета-логосным укладом (укладом в связи
с логосом); при этом ум, будучи не мета-логосным, оказывается началом того или иного мета-логосного уклада [168,
с. 101].
В An. Post. II 19 речь о посылках вообще не идет (а уклады души, связанные с разумом, упоминаются только для того,
чтобы отличить их от опыта и ума). В этой главе говорится об
эмпирическом (а значит, индуктивном) «узнавании терминов»
(100a3–100b5) и об умопостижении соответствующей сути бытия (100b5–17) (но не значения термина). Проблема соотношения опыта (эмпирического вéдения, есть ли подлежащее, которым может быть и сущность) и ума (умопостижения сущности как сути бытия, причины бытия, эйдоса, «эйдетического
слоя имени») – проблема первой философии и ставится Аристотелем в Met. VII 17 [167, с. 83–87]. А «классическая дистинкция между “интуитивным” и “демонстративным”», – о чем
шла речь во вводной части главы, – «произошла из An. Post. II 19»
по ошибке, ибо в этой главе речь о «демонстрации» не идет.
1.2.5. О познании каких начал идет речь
в An. Post. II 19?
Итак, начала становятся известными благодаря индукции, и узнающий уклад души есть опыт. Однако остается не до
конца проясненным вопрос: какие же начала познаются опытом индуктивно? Мы имеем в виду ту проблему общего характера для An. Post. II 19, о которой говорилось во вводной части
этой главы: ведет ли Аристотель речь о приобретении терминов или посылок? Англо-американские комментаторы ставят
вопрос несколько иначе: ведет ли Аристотель речь о формообразовании концептов или о знании как все более и более общих (general) пропозициях? Дж. Барнс считает [17, с. 271], что
текст Аристотеля равно хорошо прочитывается и при концептуальном, и при пропозициональном истолковании начал; при
этом, считает он, Аристотель не отдает себе отчета в том, что
он ведет речь о двух разных составляющих познания.
Д. Хамлин также считает, что между тем и другим подходами в аристотелевской эпистемологии принципиальной
разницы нет. Полагая, что в рассмотренных выше фрагментах
(100a3–100a14) и (100a14–100b5) Аристотель говорит об универсальном в смысле его приложения к частным случаям,
42
Д. Хамлин пишет: «Иметь концепт Х, значит, среди прочего,
знать, какого сорта (sort) вещь Х и a fortiori знать, какой тип
вещей может быть назван “Х”; и это знание – явно, и в очень
хорошем смысле, пропозициональное» [47, с. 178].
У Д. Хамлина получается, что, с точки зрения обсуждаемой проблематики, для Аристотеля нет принципиальной разницы между высказываниями типа: (1) «Каллий – человек»,
(2) «Каллию, страдающему вот этой болезнью, вот это снадобье помогло», (3) «всем людям, страдающим вот этой болезнью, помогает вот это снадобье». Хотя рассмотренные аристотелевские материалы свидетельствуют о наличии гносеологической разницы: высказывание (1), будучи опытным, познается через чувственное восприятие и индукцию (узнавание); высказывание (2), будучи опытным, допускается (единичное допущение); высказывание (3), будучи искусством или
эпистемой, допускается (индуктивное обобщение единичных
допущений). Обратим внимание на отношение индукции и
допущения: в случае (1) опыт индуктивен, в случае (2) опыт
есть допущение, в случае (3) индукция есть допущение, но в
последнем случае речь идет уже не об опыте.
Есть между этими высказываниями и логическая разница. У Д. Хамлина получается, что все универсальные термины
могут быть логическими сказуемыми, и нет разницы между
терминами, выступающими в качестве логических подлежащих и логических сказуемых. А ведь посылки эпистемических
силлогизмов, согласно Аристотелю, должны быть необходимыми, т.е. универсальными. Универсальность посылки определяется тем, как нечто присуще, и чему оно присуще (присуще универсально – значит присуще на основании всех, само по
себе и поскольку само; см. An. Post. I 4 и [168, с. 199–211]).
Именно подлежащее универсальной присущности Аристотель
называет первым универсальным. Таким образом, следует различать универсальность подлежащего (первое универсальное)
и универсальность высказывания (универсальное).
Мы считаем, что в An. Post. II 19, 100a3–100b5 Аристотель ведет речь именно о первом универсальном, которое может выступать в универсальных посылках подлежащим.
А теперь обратимся к суждениям по этому вопросу Ч. Кана [54]. В [168, с. 297] мы уже выяснили, что, согласно Аристотелю, неопосредованные начала доказательства включают в
43
себя: (1) допущение первых неопосредованных посылок доказывающих силлогизмов, (2) аксиомы, (3-1) «узнавание терминов»: определения значений терминов, (3-2) «узнавание терминов»: принятие бытия рода, подлежащего доказательству
(или бытия начал этого рода). Ч. Кан считает, что опыт,
который дает нам термины, дает нам при этом значения
терминов и бытие начала рода; т.е. в An. Post. II 19 речь идет о
познании значений терминов и о бытии того, что обозначается
этими терминами; а это, с его точки зрения, и есть формообразование концептов. Поскольку пояснение значения и
утверждение бытия имеют форму суждений, считает он, существенной разницы между приобретением концептов и пропозиций не имеется.
С нашей точки зрения, неопосредованные индуктивно
познаваемые начала, о которых Аристотель ведет речь в An.
Post. II 19, надо сравнивать прежде всего с направлениями
эпистемического поиска, а не с началами эпистемического
доказательства. Повторим некоторые положения 8-й главы из
книги «Философский язык Аристотеля» [168]. Применительно
к построению доказательства в качестве предпознания нам
надо понять и принять определения значения терминов,
которые должны войти в доказывающий силлогизм. Опыт, как
уже было сказано, нам не даст этих определений. Более того,
индуктивное узнавание, что есть, еще не есть то бытие,
которое требуется для доказательства. Бытие рода (или начала
рода), подлежащего доказательству, согласно An. Post. I 10,
76a32–36 (ср. 76b3–11), мы также принимаем. При этом мы
можем использовать материалы эмпирического происхождения, но сами по себе они недостаточны. Таким образом, опыт,
о котором Аристотель говорит в An. Post. II 19, следует отличать от определений значений терминов (номинальных определений); не следует его однозначно отождествлять с принятием бытия рода, подлежащего доказательству; т.е. следует
различать опыт и предпознание, необходимое для доказательства. Вообще у Аристотеля следует различать (1) опыт, который может символизироваться термином, (2) значение термина и (3) логос сути бытия (о последнем речь у нас пойдет позднее).
Итак, о познании каких начал идет речь в (100a3–100b5):
об узнавании терминов или посылок? Мы считаем, что в этом
44
фрагменте говорится о возникновении опыта как первого универсального в душе, т.е. об «узнавании терминов», о котором
Аристотель пишет в An. Post. I 3 (а не о тех началах, о которых
он ведет речь в An. Post. I 2). Мы уже обращались к подробному рассмотрению «узнавания терминов» в книге «Философский язык Аристотеля» [168, с. 291–294]. В An. Post. I 3, 72b 24–
25 Аристотель говорит именно об узнавании терминов, а не
определений. Здесь речьидет об «узнавании терминов» в контексте критики доказательства по кругу: это доказательство
невозможно, в частности, потому, что доказательство должно
исходить из «предшествующего» и «более известного», а при
доказательстве по кругу одно и то же должно выступать то
предшествующим, то нет (то же касается и большей известности). Но если мы различим «предшествующее и более известное» относительно нас (или для нас) и просто (или по природе), то «круга» не будет. И здесь Аристотель заговаривает
об узнавании через индукцию как другом способе, который, в
отличие от доказательства, начинает не с предшествующего и
более известного по природе, а с предшествующего и более
известного для нас.
Содержательная структура An. Post.II 19
Итак, прежде чем ответить на два главных вопроса главы, Аристотель формулирует три предварительных затруднения:
1. Познание всех неопосредованных начал то же или не то же?
Решение: в качестве неопосредованных начал доказывающих
силлогизмов выступают как посылки, так и термины; способы
познания тех и других не тождественны; более того, не тождественно также познание термина как предшествующего для нас и
предшествующего по природе.
2. Эпистема для каждого из неопосредованных начал или нет?
или в одном случае эпистема, в другом – какой-то иной род познания? Решение: не эпистема, а недоказываемая эпистема есть
только для неопосредованных посылок, для терминов же – другой род познания (а именно, опыт и ум).
3. Познавательные уклады происходят в душе, не будучи в ней
ранее, или же они присутствуют в душе изначально, но остаются
скрытыми для нас? Решение: готовых познавательных укладов в
душе нет; в ней, в качестве «предпознания», есть способность к
чувственному восприятию; далее в душе происходит сохранение
чувственных восприятий (но это еще не познавательный уклад, а
лишь условие его возникновения).
45
После разбора предварительных затруднений становятся
ясными ответы Аристотеля на два главных вопроса главы:
1. Как становятся известными неопосредованные начала (а именно термины)? Ответ: индуктивно.
2. Чтó есть узнающий уклад души? Ответ: опыт (возникающий на
основе сохранения в душе чувственных восприятий).
В действительности, как мы видели, Аристотель рассматривает эти вопросы и затруднения в ином порядке. Сначала он в два этапа разрешает 3-е из предварительных затруднений, затем отвечает на второй главный вопрос (этот ответ
содержит вторую часть разрешения 3-го предварительного
затруднения) и затем на первый главный вопрос, после чего
разрешает 2-е из предварительных затруднений (во фрагменте
100b5–17). Разрешение 1-го предварительного затруднения в
явном виде вообще не дается, оно вытекает из содержательной
структуры самой главы. Ибо во фрагменте 100b5–17 Аристотель противопоставляет ум и эпистему (а именно недоказываемую эпистему), т.е. умопостижение термина, обозначающего
сущность, и допущение неопосредованной посылки, как два
рода познания неопосредованных начал, а во фрагментах
100a3–100b5 и опять же 100b5–17 противопоставляет эмпирическое «узнавание термина» как предшествующего для нас и
умопостижение термина, обозначающего сущность, как предшествующего по природе.
Спорным прежде всего является ответ на вопрос, что
есть узнающий уклад души? только ли опыт? или же и ум? Мы
склоняемся к тому, что Аристотель посвящает An. Post. II 19
главным образом опыту. Ум в этой главе лишь упоминается.
Таким образом, во фрагменте 100b5–17 мы имеем дело не с
ответом на второй главный вопрос, а с разрешением 2-го
предварительного затруднения. В крайнем случае, в качестве
компромисса, можно было бы рассмотреть вариант, что, мол,
на вопрос «чтó есть узнающий уклад души?» у Аристотеля
есть два ответа: и опыт, и ум (хотя такой компромисс «размывал» бы суть узнающего уклада).
Предложенное истолкование содержательной структуры
An. Post. II 19 существенно отличается от того, что предлагают
У.Д. Росс, Дж. Барнс и Т. Энгберг-Педерсен. Поскольку их подходы продолжают и развивают друг друга, а в наиболее
подробном и развитом виде их версия представлена у послед-
46
него, далее мы будем иметь в виду только ее. Т. Энгберг-Педерсен отмечает, что структура этой главы «хорошо известна»
и далее пишет следующее [39, с. 314]:
В 99b17–18 Аристотель ставит два вопроса: (А) как становятся
известными начала? и (В) чтó есть узнающий уклад души (т.е.
каково его имя)? В следующем «апорийном» фрагменте (99b20–
34) он сначала (b22–23 и 23–25) поднимает два подвопроса,
имеющих отношение ко второму (В) из двух ведущих вопросов,
ответ на которые, вместе с ответом на соответствующий ведущий
вопрос, дается в конце главы (100b5–17). Затем он вводит (b25–
26) и обсуждает (b26–32) третий подвопрос, который зависит от
первого (А) из двух ведущих вопросов, и дает ответ [и на вопрос
(А), и на третий подвопрос. – Е.О.] в 99b34–100b5.
Мы же считаем, что к аристотелевскому ответу на
первый (А) из главных вопросов относятся только строки
100a14–100b5 (а не 99b34–100b5, как полагает Т. Энгберг-Педерсен); ответ на второй (В) из главных вопросов содержится в
строках 100a3–100a14 (а не 100b5–17, как получается у Т. Энгберг-Педерсена). При этом мы считаем, что все три
предварительные апории (или же подвопроса) равно относятся
к обоим главным вопросам (а не так, как у Т. ЭнгбергПедерсена, что две первые из них относятся ко второму главному вопросу, а третья – к первому,). Решение 1-й из предварительных апорий отдельно Аристотелем не дается и содержится в самой содержательной структуре главы, решение 2-й
из предварительных апорий содержится в 100b5–17, 3-й – в
99b32–100a3 и 100a10–11.
В то же время следует отметить, что предложенное истолкование содержательной структуры An. Post. II 19 имеет
целый ряд «точек пересечения» с истолкованием Т. ЭнгбергПедерсена. С точки зрения предложенного истолкования ответ
на 3-й подвопрос дается в 99b32–100a3 и 100a10–11, а ответ на
первый главный вопрос – в 100a14–100b5. С точки зрения Т. Энгберг-Педерсена и ответ на 3-й подвопрос, и ответ на первый
главный вопрос даются в 99b34–100b5. С точки зрения предложенного истолкования ответ на 2-й подвопрос содержится в
100b5–17. Согласно Т. Энгберг-Педерсену в этом фрагменте
имеются ответы на 1-й и 2-й подвопросы и второй главный
вопрос. Таким образом, главное расхождение между истолкованиями сводится к истолкованию фрагмента 100a3–100a14.
Мы считаем, что в этом фрагменте речь идет о возникновении
опыта как узнающего уклада души; Т. Энгберг-Педерсен
47
считает, что здесь идет речь о том, как становятся известными
начала.
Вопрос о разнице между обсуждаемыми истолкованиями
осложняется различным истолкованием более мелких фрагментов, входящих в рассмотренные до сих пор укрупненные
фрагменты. Как уже отмечалось, Т. Энгберг-Педерсен считает,
что ответы на 3-й подвопрос и первый главный вопрос содержатся в 99b34–100b5. При этом он делит данный укрупненный
фрагмент следующим образом [39, с. 314–317]: (99b34–35 и
100a10–11) – ответ на 3-й подвопрос, (99b36–100a9 и 100a12–
100b3) – ответ (в четырех вариантах) на первый главный вопрос, – мы же считаем, что решение 3-й из предварительных
апорий занимает строки 99b32–100a3 и 100a10–11, а ответ на
первый из главных вопросов – строки 100a14–100b5. Четыре
варианта ответа на первый главный вопрос Т. Энгберг-Педерсен усматривает в следующих фрагментах: первый вариант
ответа в 99b36–100a3 (мы считаем, что в этих строках продолжается решение 3-й из предварительных апорий), второй вариант ответа – в 100a3–9, третий – в 100a12–13 и обобщение третьего в 100a13–14 (мы полагаем, что в этих строках содержится
ответ на второй из главных вопросов), четвертый вариант
ответа в 100a15–100b3 (именно здесь, с нашей точки зрения,
содержится единственный вариант ответа на первый из главных вопросов). Таким образом, наиболее спорный фрагмент
100a3–100a14, содержащий, с нашей точки зрения, ответ на
второй из главных вопросов главы (и завершение решения 3-й
предварительной апории), с точки зрения Т. Энгберг-Педерсена содержит второй вариант ответа на первый из главных
вопросов (100a3–9), вторую часть решения 3-й из предварительных апорий (100a10–11) (с чем мы согласны), третий вариант ответа на первый из главных вопросов главы (100a12–13) и
его обобщение (100a13–14).
Соответственно у Т. Энгберг-Педерсена получается, что
узнающий уклад души есть ум; у нас же получается, что узнающий уклад души есть опыт.
* *
*
В заключение подытожим предложенные решения трех
трудностей общего характера, связанных с An. Post. II 19, о
которых говорилось во вводной части главы. В этой главе речь
48
идет о познании предшествующего для нас и предшествующего по природе, об эмпирическом познании, что есть, и
умопостижении соответствующей сути бытия, т.е. об эстетике
(как учении о чувственно воспринимаемом и чувственном
восприятии в широком смысле слова, включающем память и
индукцию) и ноэтике (как учении об умопостигаемом и
умопостижении)18. Использующиеся при обсуждении этой главы противопоставления «эмпиризм и рационализм», «интуиции и демонстрации», с нашей точки зрения, не совсем корректны. Главы An. Post. II 1–18 посвящены главным образом
методологической проблематике «поиска» начал и причин. An.
Post. II 19 дополняет их проблематикой генетической эпистемологии, занимая относительно самостоятельное положение.
Речь в An. Post. II 19 последовательно идет о приобретении
терминов, а не посылок.
18
Об эстетике и ноэтике у Аристотеля см. в [167].
49
ЭССЕНЦИАЛИЗМ
Если в первой главе мы знакомились в основном с опытным познанием, то теперь мы приступаем к проблематике
определения (началом которого выступает ум).
Суть «эссенциализма», как он представлен в современной философской литературе, сводится к той или иной форме
признания наличия в объекте как существенных (т.е. необходимых), так и несущественных (т.е. случайных) признаков
(или свойств). Для Аристотеля различение существенных и
случайных признаков (а на языке Аристотеля следовало бы
говорить о различии «присущего самого по себе» и «присущего по совпадению», ибо Аристотель придает именам «признак» и «свойство» более узкое значение по сравнению с современными [168, с. 150–154, 260–271]) восходит к различению «сущего самого по себе» и «сущего по совпадению». Последняя онтологическая дистинкция, в свою очередь, лежит в
основании выделения предмета собственно философского и в
целом научного знания (коим выступает «сущее само по себе»). Аристотель считает, что о «сущем по совпадению» достоверного знания нет. В Новое и Новейшее время правомерность этого различения была подвергнута сомнению Дж. Локком, Д. Юмом, В. Куайном и др. И только в последние десятилетия в связи с возросшим интересом к модальной логике (и
смежными с ней проблемами) некоторые современные философы вновь обратились к «доброму старомодному эссенциализму».
На сегодняшний день существует целый ряд различных
концепций эссенциализма. С кратким обзором некоторых из
них можно познакомиться по книге В.В. Целищева «Понятие
объекта в модальной логике» [196, с. 68–73]. В.В. Целищев
отмечает, что приписывание Аристотелю той формы эссенциализма, которую критикует, в частности В. Куайн, весьма
спорно. Подробный анализ отношения современного эссенциализма к аристотелевскому можно найти в книге Д. Чарлса
50
«Аристотель о значении и сути» [34]. В качестве центральной
Д. Чарлс рассматривает «программу современного эссенциализма» Х. Патнэма, обращая внимание также на концепции
С. Крипке и других современных эссенциалистов. В этой книге показывается отличие аристотелевского эссенциализма от
современных его версий, а также предпринимается попытка
показать, что аристотелевский эссенциализм «обладает иммунитетом по отношению к критике, развитой (например) Декартом, Локком или Куайном», и имеет некоторые преимущества
перед современными альтернативами [34, с. 3].
Среди отличий аристотелевского эссенциализма от современных альтернатив одним из первых Д. Чарлс называет
следующее: для современного эссенциалиста «эссенциализм»
сводится к признанию того, что некоторыми свойствами объект обладает необходимо, или, как теперь говорят, «во всех
возможных мирах»; Аристотель же среди необходимого различает эссенциально необходимые и необходимые, но не эссенциальные, особенности объекта. На аристотелевском языке
эту дистинкцию следовало бы обозначить так: «присущее в
сути» (эссенциально необходимое) и «само по себе сопутствующее» (необходимое, но не эссенциальное). Напомним,
что, согласно An. Post. I 4, 73a35–37, «присущее в сути» (o[sa
uJpa>rcei ejn tw~| ti> ejstin) есть то, что составляет сущность и
входит в определение; а «само по себе сопутствующее» (ta<
kaq∆ auJta< sumbebhko>ta), согласно Met. V 30, 1025a30–32
(sumbebhko>v … o[sa uJpa>rcei … kaq∆ auJto) и сущее по совпадению (kata< sumbebhko>v); сущее само по себе он делит на сущность (hJ oujsi>a) и само по себе присущее сущности (ta< kaq∆
auJta< uJparco>nta); само по себе присущее – на присущее в сути (ta< uJparco>nta ejn tw~| ti> ejsti) и само по себе сопутствующее (ta< kaq∆ auJta< sumbebhko>ta).
В английском языке, как философском вообще, так и
аристотелеведческом в частности, широко используется слово
«атрибут» (attribute). Это слово употребляется для перевода и
обсуждения и «присущего самого по себе», и «присущего в сути», и «сопутствующего самого по себе»; тем самым затушевывается наличие в том или ином тексте Аристотеля интересующей нас дистинкции «присущего в сути» и «самого по себе
сопутствующего». Иногда, когда эту дистинкцию совершенно
невозможно не заметить, используют выражения «эссенциальный атрибут» (присущее в сути) и «акцидентальный атрибут»
(сопутствующее само по себе; сопутствующее по совпадению
в этом случае обозначают просто как «акциденцию»). В то же
время «эссенциальным атрибутом» иногда обозначают и «сопутствующее само по себе» в отличие от «сопутствующего по
совпадению». Так что, когда мы встречаемся с упоминанием
«эссенциального атрибута» в связи с философией Аристотеля,
остается непонятным, чтó имеется в виду – «присущее в сути»
или «само по себе сопутствующее». Судя по всему, авторы,
использующие эти выражения латинского происхождения, не
учитывают данную дистинкцию или не признают ее значимость.
На эту дистинкцию обратил должное внимание А.В. Родин в книге «Математика Евклида в свете философии Платона
и Аристотеля» [181, с. 99–107]. В связи с этим отметим следующее: во-первых, А.В. Родин считает, что эту дистинкцию не
знал Платон, а во-вторых, он отмечает, что ее «трудно передать в русских переводах» [181, с. 100–101]. Сам исследова-
53
тель предпочитает обозначать эту дистинкцию как дистинкцию «присущего» (ujpa>rconta – имеется в виду «присущее в
сути») и «присоединенного» (sumbebhko>ta – имеется в виду
«сопутствующее»). Такое предпочтение представляется спорным. Перевод sumbebhko>ta как «присоединенное» возражений не вызывает. Переводить ли это греческое слово как «сопутствующее», или «присоединенное», или как-то иначе – дело стилистических предпочтений19. А вот противопоставление
«присущего» и «присоединенного» возражение вызывает, ибо
Аристотель называет «присущим» и «присущее в сути», и «сопутствующее» (или «присоединенное»). Истолковывать «присущее» исключительно как «присущее в сути», что делает
А.В. Родин, с нашей точки зрения, не следует [181, с. 101–
102]. В одних контекстах Аристотель противопоставляет
«присущее в сути» и «сопутствующее само по себе», в других – обсуждает их совместно. И тогда он обсуждает «присущее само по себе». Словоупотребление, предлагаемое А.В. Родиным, затрудняет различение аристотелевских текстов, в которых учитывается эта дистинкция, и текстов, в которых она
не учитывается. А.В. Родин предпочитает переводить to< ti>
ejsti как «чтойность», а не «суть», поэтому на его языке интересующую нас дистинкцию следовало бы обозначить как
дистинкцию «присущего в чтойности» и «присоединенного
самого по себе» [181, с. 93, прим. 14]. Отметим, что переводы,
аналогичные переводу «присущее в сути» («присущее в чтойности»), встречаются и в английском языке, например ta<
ejn tw~| ti> ejsti kathgorou>mena (96a22–23: категориально высказываемое в сути) переводится как «the things that are predicated
in the what it is» [34, с. 222].
Обратим также внимание на следующее суждение А.В. Родина: после доказательства «само по себе сопутствующее (присоединенное)» становится «присущим в сути (чтойности)»
[181, с. 103–104] Такое утверждение нам представляется спорным. После доказательства само по себе сопутствующее попрежнему сопутствует меньшему крайнему термину, а вот
средний термин оказывается присущим сопутствующему (выступающему в роли большего крайнего термина) в сути.
19
170].
Обоснование перевода «сопутствующее» см. в [168, с. 154–159, 169–
54
Далее мы рассмотрим аристотелевский подход к «присущему в сути», собственно его эссенциализм. Речь пойдет о
разделении родов на виды на основании различий, а также об
определениях родов и видов посредством различий, т.е. о проблематике, которая сегодня в значительной степени относится
к проблематике классификации. Вторая глава «Аристотель об
основаниях классификации» представит собой своего рода
введение в эту проблематику. В этой главе мы сравним аристотелевский подход с современными подходами к классификации и определению естественных видов. В третьей главе
«Элементы систематизации в “Истории животных” Аристотеля» мы рассмотрим реальную аристотелевскую практику классифицирования животных. Эта практика явилась результатом
вполне определенных метафизических исканий, поэтому в 4-й
главе «Аристотелевская критика дихотомии» мы пронализируем, как Аристотель пришел к этому результату.
55
2. АРИСТОТЕЛЬ ОБ ОСНОВАНИЯХ
КЛАССИФИКАЦИИ
Сразу отметим, что у Аристотеля нет слов ни «классификация», ни «основание» классификации. Он ведет речь об
«определениях» видов, а также о «различиях», по которым роды разделяются на виды. Однако, как справедливо отмечает
Дж.С. Милль: «…Процесс определения тесно связан с
классификацией» [159, с. 118]. Проблематика, которую Аристотель имеет в виду в связи с определениями, современными
специалистами в значительной мере изучается в связи с классификациями.
С.С. Розова в книге «Классификационная проблема в современной науке» пишет об основаниях классификации и
множестве значений этого основания, а также об обособляющих признаках, образуемых основанием классификации вместе с его значениями (обособляющий признак она называет
также существенным признаком, помещаемым в основание
классификации) [183, с. 18–19, 21]. На языке Аристотеля и основание классификации, и значения этого основания, и
обособляющий признак, и существенный признак, полагаемый
в основание классификации, называются «различием рода».
«Различие» (греч. to< dia>foron, лат. differentia) у Аристотеля может быть разной степени универсальности – от наиболее универсального (основание) через различия различий
вплоть до далее неразличимых различий (значения основания).
Однако, чтобы корректно соотнести аристотелевские «различия» с «признаками» современных классификаторов, которые
они полагают в основании классификации, надо учитывать
еще одну дистинкцию. С.С. Розова в названной книге цитирует В.И. Василевича, согласно которому «можно различать две
категории признаков: 1) признаки, по которым мы производим
деление на классы, 2) признаки, которыми отличаются выделенные единицы…» [122, с. 178]. О чем идет речь? Когда
Д.И. Меделеев создавал свою знаменитую таблицу, химичес-
56
кие вещества уже были разделены на элементы. И когда
В.В. Докучаев искал основания для различных видов почв, сами почвы уже были разделены на виды. Получается, сначала
человек делит какую-либо предметную область на виды («признаки, по которым мы производим деление на классы»), а уже
потом ищет основания для этого разделения («признаки, которыми отличаются выделенные единицы»). Цель данной главы – выяснить аристотелевское отношение именно к этой
дистинкции.
2.1. Три примера
исторических классификаций
С.С. Розова, комментируя эту дистинкцию (признаки, по
которым мы производим деление на классы, и признаки, которыми отличаются выделенные единицы), рассматривает в качестве примера три исторические классификации черноземов
и почв. Нам тоже будет полезно для дальнейшего обсуждения
познакомиться с этими классификациями.
В 1771 г. М.И. Афонин предложил следующую классификацию черноземов: «1) глинистый чернозем, 2) каменистый
или песчаный или с хрящем смешанный, 3) лесной на смолу
похожий чернозем, который также легкою землею слывет и
кой всегда масляным кажется, а при том рыхл, почему и растения на нем скоро всходят…» и т. д. (всего 8 классов) [124,
с. 38–39]. В 1809 г. А.Д. Тэер предложил классификацию почв,
выделив 20 классов. В качестве основания разделения почв на
классы он принял процентное содержание в каждом из них
глины, песка, гумуса и извести. При этом каждому классу он
дал систематическое название: глинистая почва, содержащая
большое количество чернозема; песчано-черноземная почва;
песчано-глинистая или супесть, и т.д., – сопоставив его с обиходными названиями: «весьма способная для пшеницы», «луговая почва», «способная для ячменя» и т.д. Наконец, каждому
классу была дана оценка относительно достоинства [132, с.
29–32]. В 1879 г. В.В. Докучаев, выдвинув идею о почве как
естественно-историческом теле, показал, что «всякая почва
есть продукт совокупной деятельности [1] материнских горных пород, [2] климата, [3] растительности и [4] рельефа местности» [132, с. 18] Однако, только ли данные факторы, задается вопросом С.С. Розова, стали основанием классификации
57
почв В.В. Докучаева? И отвечает: «В ней есть еще один элемент, который также может быть рассмотрен в качестве ее основания. Это совокупность диагностических признаков каждого типа почв, не совпадающая с обусловливающими их особенности факторами, которые не могут выполнять диагностические функции в силу сложности процедуры их установления» [183, с. 24–25]. Имеется в виду, что
реальные почвы диагностируются как светло-серые северные, серые переходные, черноземные не на основании их генезиса,
который не может быть установлен эмпирически, а на основании
их структурных, морфологических, физических характеристик,
наблюдаемых в почвенных разрезах [183, с. 25].
На какие трудности принятия основания в трех данных
классификациях обращает внимание С.С. Розова? В классификации М.И. Афонина она не находит основания для разделения черноземов на выделенные восемь классов. В классификации А.Д. Тэера она усматривает два основания классификации: 1) процентное содержание четырех указанных составных
частей и 2) продуктивность почв, выражаемая в их относительном достоинстве. В связи с этим ею ставится вопрос о допустимости разделения при классификациях не по одному, а
по двум основаниям. Более того, имея в виду разделение почв
по процентному содержанию четырех составных частей, она
ставит и такие вопросы:
На каком основании Тэер в каждом отдельном случае сгруппировал определенным образом значение процентного содержания
глины, песка, извести, гумуса? Что заставило его основанием
почв первого класса сделать именно данное (74, 10, 4,5, 11,5) значение этих факторов? Почему второй класс задается значениями
81, 6, 4, 8,5, а следующий за ним, третий – 79, 10, 4, 6,5? Каков закон изменения процентного состава этих факторов? Не исходил
ли при этом Тэер из установленного процентного состава глины,
песка, извести, гумуса для уже выделенных в практике землепользования классов почв? [183, с. 24].
В связи с классификацией почв В.В. Докучаева С.С. Розова пишет о «некоторой двусмысленности самого понятия “основание классификации”, возникающей в случаях опосредованного деления, когда мы непосредственно делим объекты по
одним признакам, а классы, к которым их относим, характеризуем другими признаками…» [183, с. 23–25].
В заключение этого фрагмента С.С. Розова формулирует
и обсуждает, как сказал бы Аристотель, апорию – чтό из двух:
58
…Признать основанием классификации закон почвообразования
или диагностические признаки каждого типа? Из принятия
первой возможности следует признание факта существования
классификаций, не имеющих основания (классификация М.И. Афонина. – Е.О.), и признание возможности расхождения основания
и диагноза (в классификации В.В. Докучаева. – Е.О.). Если принять вторую точку зрения , то из основания исчезнет самая
важная часть ее содержания . Кроме того, безотносительно к
тому, какую из двух возможностей мы выберем, мы вынуждены
будем либо изменять понятие основания классификации, либо
признавать в одной классификации два основания [183, с. 25–26].
Итак, при рассмотрении трех исторических классификаций черноземов и почв С.С. Розова, во-первых, различает деление множества исследуемых объектов на классы и принятие
различий для этих классов; во-вторых, ставит вопрос: чтό собственно является основанием классификации – диагностические признаки, по которым мы делим исследуемое множество
на классы или принятые различия этих классов?
2.2. Онтологический и гносеологический
подходы Аристотеля к определению видов
Аристотель отвечает на вышепоставленные вопросы в
рамках логики, гносеологии и онтологии. Прежде всего мы
рассмотрим его онтологический подход. Судя по всему, отчетливое различение «видов рода» и «различий рода» стало новацией Аристотеля. По крайней мере у Платона в диалогах «Софист» и «Политик», т.е. в диалогах, в которых Платон в явном
виде занимается разделением родов на виды, отчетливого различения двух аспектов разделения родов нет. Более того, у
Платона нет «различия» даже на категориальном (или же метакатегориальном) уровне [168, с. 197–199]. Мы рассмотрели
аристотелевские метакатегории: то же и иное, то же и другое,
различие, противность, то же и другое по виду – в [168, с. 175–
179, 192–193] и сравнили их с платоновскими величайшими
родами: само сущее, покой и движение, то же и другое, – в
[168, с. 193–199].
Наряду с «различием» Аристотель учитывает «сходства
и несходства». «Сходным» Аристотель называет «то же по виду», но «другое по числу», а также то, у чего «одно и то же по
виду состояние» (Met. X 3, 1054b3–13). Аристотелевские
«сходства и несходства» в какой-то степени похожи на совре-
59
менные «диагностические признаки», «по которым, – как считают некоторые, – мы производим деление на классы» [122,
с. 178]. А «различия рода» у Аристотеля соответствуют только
тем «признакам» современных специалистов по классификационной проблеме, «которыми отличаются выделенные единицы», а не «диагностическим признакам».
У современных специалистов по классификационной
проблеме есть подход к пониманию разницы между признаками, «по которым мы производим деление на классы», и признаками, «которыми отличаются выделенные единицы», сходный с аристотелевским. Имеется в виду подход, при котором
«выделяют экстенсиональный (связанный с изучением денотата знака в конкретной знаковой ситуации) и интенсиональный
(связанный с изучением концепта этого знака – информации,
которую знак несет относительно своего денотата) аспекты
классификации» [183, с. 30]. Ю.А. Шрейдер и Н.С. Панова пишут:
С экстенсиональной точки зрения классификация описывает
(обозначает) некоторую структуру членения классифицируемых
объектов на таксономические единицы (таксоны)… С интенсиональной точки зрения классификация несет в себе признаки, содержащие информацию об основаниях группировки классифицируемых объектов на таксоны [169].
С тем, что у Аристотеля мы имеем дело с интенсиональным контекстом, согласен А.А. Поздняков [176]. Однако при
сравнении этого подхода с аристотелевским надо помнить метакатегориальную особенность последнего, а именно то обстоятельство, что Аристотель разводит «другое по виду» и «различие рода». Обратим внимание на следующие слова С.С. Розовой:
Наряду с даваемой в логике характеристикой вертикальных связей классификационной системы как связей рода и вида и горизонтальных связей как связей видов одного рода, в литературе
можно встретить описание этих связей с более широкой позиции
философских категорий: вертикальные связи определяют через
отношение общего и особенного, а горизонтальные – через отношение тождества и различия. Нам представляется, что эти
пары категорий фиксируют интенсиональный и экстенсиональный аспекты классификационных связей [183, c. 29].
То, что здесь называется «вертикальными» связями, Аристотель также рассматривает через «призму» общего и своего, и
именно в этой связи он говорит о «различиях рода» (мы будем
60
подробно говорить об этом в § 4.3 и § 4.4). А то, что здесь
называется «горизонтальными» связями, он рассматривает через «призму» того же (или же тождества) и другого по виду,
а не тождества и различия. Поэтому у Аристотеля «различие
рода», говоря словами С.С. Розовой, фиксирует интенсиональный аспект классификационной проблемы, а не экстенсиональный, как получается у нее. Экстенсиональный же аспект
проблемы у Аристотеля фиксирует «другое по виду».
В качестве гносеологического подхода Аристотеля к определению видов можно рассматривать его различение поиска
бытия и сути (или же причины), т.е. поиска ответов на вопросы: есть ли нечто (или же что есть) и что есть (или же почему есть). Имеется в виду дистинкция: eij e]sti (или же to< o[ti,
«то хóти») – to< ti> ejsti (или же to< dio>ti, «то диóти»). Мы подробно рассмотрели эту дистинкцию в 8-й главе книги «Философский язык Аристотеля» [168]. Сейчас у нас речь пойдет о
направлениях поиска, которые в [168, табл. 8.3] мы обозначили как 1-е и 4'-е. Индукция, как мы показали в 8-й главе [168],
а следовательно и опыт, согласно Аристотелю, дают нам ответ
на вопрос «есть ли» нечто, но не «почему есть» (об этой стадии познания речь также шла в 1-й главе настоящей книги).
Ответ на последний вопрос предполагает усмотрение сути, а
это, согласно Аристотелю, уже прерогатива ума (умопостижение сути). Такой подход находит понимание и в современной
неклассической философии науки. Так, А. Эйнштейн, имея в
виду «основанную на проникновении в суть опыта интуицию»,
считает «в известном смысле оправданной “веру древних в то,
что чистое мышление в состоянии постигнуть реальность”»
[186].
Согласно приведенной дистинкции, можно сказать, что
на первый вопрос М.И. Афонин отвечает, что есть чернозем
глинистый, каменистый, лесной и т.д. На второй вопрос он
ничего не отвечает. А.Д. Тэер на первый вопрос отвечает, что
есть почва глинистая, песчано-черноземная, песчано-глинистая и т.д. На второй вопрос он отвечает: глинистая почва есть
такое-то соотношение глины, песка, гумуса и извести; песчано-черноземная почва есть такое-то соотношение этих частей
и т.д.
А как бы Аристотель отнесся к условиям генезиса почв,
которые лежат в основании классификации В.В. Докучаева?
61
Аристотель, во-первых, различает бытие и возникновение, а
во-вторых, – необходимость простую и гипотетическую.
Простая необходимость относится к бытию, а гипотетическая – к возникновению. Простая необходимость состоит в
том, что нечто не может быть иначе. Гипотетическая необходимость состоит в том, что для возникновения чего-либо нечто
необходимо, но само по себе недостаточно (возникновение,
согласно Аристотелю, вообще не необходимо) [36]. Судя по
всему, условия генезиса почв, установленные В.В. Докучаевым, Аристотель отнес бы именно к гипотетической необходимости. Согласно Аристотелю, мы имели бы следующее: если некая почва есть, то условия ее возникновения есть (или
были) с необходимостью; но если условия для возникновения
той или иной почвы есть, возникновение этой почвы не необходимо.
Далее, Аристотель различает науки (эпистемы) о бытии
и возникновении (Part. An. 1, 636b30–640a9). Если в качестве
примера взять его работы о животных, то работы «История
животных» и «О частях животных» следовало бы отнести к
эпистемам о бытии (первая работа рассматривает предмет в
основном на ступени «то хóти», вторая – «то диóти»), а работу
«О возникновении животных» – к эпистемам о возникновении. Напомним, что «история» на языке древних греков означает, как пишет Г.Г. Майоров, «не только историческое знание, но, прежде всего “осведомленность” в широком смысле,
знание фактов, добытых путем не учительской, а собственной
активности» [155, с. 12]. Если бы Аристотель занимался почвами, вероятно, он написал бы тоже три книги, которые могли
бы иметь, например, такие названия: «История почв» («то
хóти»), «О почвах» («то диóти») и «О возникновении почв».
Следует учитывать еще и то, что для Аристотеля поиск сути
естественных видов, т.е. своего рода классификация (недоказываемая эпистема о сущности), и поиск причин присущности
видам того или другого (доказывающая эпистема о самом по
себе сопутствующем) – предметы разных эпистем. Хотя «История животных» посвящена в основном поиску и описанию
предмета на ступени «то хóти», именно в ней Аристотель дает
образцы своего разделения животных по различиям («то
диóти»), т.е. образцы своих классификаций животных, а в работе «О частях животных» речь идет уже о частях животных
62
(анатомии) и о том, почему им присуще то или другое. Возможно, и разделение почв на основании различий он представил бы в работе «История почв».
В.В. Докучаев говорит о генетической классификации
уже в своих первых публикациях по проблеме классификации
почв. Однако реально он представил чисто генетическую классификацию только в конце своей научной карьеры [134]. До
этого он классифицировал почвы фактически на основании
физико-химического состава. Именно этим классификациям,
судя по всему, Аристотель отдал бы предпочтение с точки
зрения установления видов почв. А содержание последней,
чисто генетической, классификации В.В. Докучаева он изложил бы в книге «О возникновении почв»; при этом разделение
почв по различиям рассматривалось бы уже как известное.
Таким образом, гносеологический аспект классификационной проблемы для Аристотеля ограничивается дистинкцией
«есть ли – почему есть». Третий вопрос: как возникает? – в
связи с определением видов он не рассматривает.
В философском языке Аристотеля есть два глагола,
обозначающих действие различения, а именно: kri>nw и diafe>rw. «Различие» (to< dia>foron) с грамматической точки зрения образуется от глагола diafe>rw, а эпистемологически связано с умственными различениями. Другой же глагол (kri>nw)
Аристотель использует в связи с чувственным восприятием.
От этого глагола образуется слово hJ kritikh>. В «Философском
языке Аристотеля» (§ 3.1) мы уже писали, что оно известно
нам как слово «критика», однако его древнегреческое употребительное значение отличалось от современного; у Аристотеля оно означает «критическую способность», т.е. способность
к чувственным различиям, способность разбирать что-либо
[168, с. 59–60].
В 1-й главе «Аристотель об опыте и уме во “Второй аналитике” II 19» мы показали, что, согласно Аристотелю, душе
человека (как, впрочем, и животных) от рождения внутренне
присуща критическая способность, т.е. способность к чувственным различиям, – из критической способности (с участием памяти и индукции, которые присущи человеку, но уже не
всем животным) происходит опыт (по-греч. «эмпирия»), а опыт
есть первое универсальное в душе, т.е. универсальные представления о чувственно воспринимаемых предметах (универ-
63
сальные эмпирические представления). «Классифицирование»
на основании «диагностических признаков» Аристотель, судя
по всему, отнес бы именно к эмпирическим обобщениям. К
аристотелевским универсальным эмпирическим представлениям можно отнести «глинистый чернозем», «каменистый или
песчаный или с хрящем смешанный», «лесной на смолу похожий чернозем…» М.И. Афонина. Однако не следует считать,
что, согласно Аристотелю, деление рода на виды производится
эмпирически на основании способности человека к чувственным различиям, а причина, или же «различие рода», присущее
виду, принимается умом. Позиция Аристотеля – более сложная и «тонкая».
Здесь мы встречаемся с очень важной проблемой, а
именно с проблемой осмысления феноменов. Сегодня эту проблему называют по-разному: проблема теоретической нагруженности опытных, чувственно воспринимаемых данных или
же проблема концептуализации феноменов. В Новое время эту
проблему остро поставил И. Кант, различив «явления» и «феномены». Согласно Э.В. Барбашиной, «явления» у Канта –
это то, что предшествует логическому употреблению рассудка,
после которого мы и получаем феномены. Феномены – это
явления, которые не просто обработаны рассудком, а мыслятся
как предметы на основе единства категорий [117, с. 67].
Имя «феномен» (faino>menon) в словаре Аристотеля есть.
Это имя на его языке означает (в одном из двух главных вариантов технического словоупотребления) то, что дает нам опыт
или индукция. Собственно «то хóти» и дано нам как феномен.
Феноменам у Аристотеля посвящена статья Г.И.Л. Оуэна «Tithenai ta phainomena», которая пользуется большой известностью и доверием в англо-американском аристотелеведении [62].
Если феномены чувственно воспринимаемы (с участием
памяти и индукции), то умопостигаемы – эйдосы. Однако
Аристотель в явном виде не противопоставляет «феномены» и
«эйдосы». В «Метафизике», т.е. в учении о сущности, он предпочитает противопоставлять «чувственно воспринимаемое
(эстетическое)» и «умопостигаемое (ноэтическое)», а в «Аналитиках» он упоминает «феномены» в одном ряду с опытом и
индукцией, противопоставляя индукцию силлогизму. Однако,
если мы ограничимся рассмотрением сущностей, т.е. исключим из рассмотрения сопутствующее (что соответствует естественным классификациям), то мы не видим причин, которые
64
препятствовали бы перейти от дистинкции «то хóти – то диóти» к дистинкции «феномен – эйдос». (Эйдосы Аристотель
принимает только для сущностей, а не для всех «смыслов»,
как Платон). При такой замене получится, что «осмысление
феноменов» равносильно «усмотрению эйдосов». Разумеется,
«эйдосы», согласно Аристотелю, существуют «вне души», или
же, как сказали бы сегодня, объективно. Но в данном случае
нас интересует, как они познаются, а не как существуют.
Как мы уже отметили, Аристотель в явном виде не ставит вопрос об «осмыслении феноменов». Однако его философские построения позволяют реконструировать его возможное отношение к вопросу: через «призму» каких «смыслов» и
как мы теоретически рассматриваем феномены? К ответу на
этот вопрос мы можем привлечь не только метакатегории
(постпредикаменты): (1) «само и иное», «то же и другое по
числу», «различие», «сходное и несходное», «неравное и равное», «противоречие», «лишенность», «противность», «род»,
«различия рода», «то же и другое по виду», «то же и не-то же»,
«часть и целое», «движение и остановка» и т. п., – но и (2) категории (предикаменты): «то, что в сути», «какое-то», «сколько-то», «где-то», «когда-то», «действие», «претерпевание»,
«соотнесенность»; (3) предикабилии: «род и его различия»,
«определяющее (oJ o[rov)», «свойство», «сопутствующее»; а
также следующие определенности, которые не имеют ни у
Аристотеля, ни у его комментаторов собственных наименований: (4) «сущее само по себе и по совпадению», «сущность и
присущее сущности», «присущее в сути и сопутствующее
сущности», «сопутствующее само по себе и по совпадению»,
«необходимое и не-необходимое»; (5) «сущее в возможности и
действительности»; (6) «причина», «элемент» и т.п.
Авторы, поминающие Аристотеля в связи с классификационной проблемой, подчас имеют в виду не его метакатегории, а предикабилии (мы рассмотрели предикаблии в [168,
с. 147–162], а постпредикаменты (метакатегории) в [168, с. 171–
199]). Так, Дж.С. Милль в «Системе логики», рассматривая классификацию как часть теории общих имен, отмечает, что эта
часть
служит предметом так называемого «учения о предикабилиях»
(родах сказуемого), представляющих из себя ряд различений, которые ведут свое начало от Аристотеля и его последователя Пор-
65
фирия и из которых многие прочно укоренились в научном, а некоторые даже и в обыденном языке» [159, с. 105].
VII главу первой книги Дж.С. Милль так и называет:
«Природа классификации и пять родов сказуемого (предикабилии)». Однако Аристотель (в отличие от Платона) разделил диалектику и первую философию, так что у Аристотеля
есть два подхода к «определениям»: диалектический (т.е. логический) и онтологический. «Различия рода» он рассматривает при обоих подходах. Дж.С. Милль, ссылаясь на Аристотеля,
имеет в виду первый из них и полностью замалчивает второй.
Мы же рассматриваем прежде всего онтологический подход.
Рассмотрим «применение», или же «распределение», аристотелевских метакатегорий «другое и то же по виду». Начнем
с того, что Аристотель истолковывает соотнесенность «части и
целого» не так, как это делают некоторые современные философы и логики. С.С. Розова в книге «Классификационная проблема в современной науке» пишет:
Обычно различие в отношении рода и вида, с одной стороны, и
целого и части – с другой, рассматривают в более общем плане –
в связи с необходимостью отличить от логического деления понятия сходные с ним логические формы, которые логическим делением не являются. «Разделение целого на части отличается от деления понятия тем, что в нем части не связаны с целым,
как виды и род, они не являются видами рода делимого. Например, деревья мы делим на хвойные, лиственные и т.д. Деревья же
мы делим на ствол, листья, корни и т.д. Эти части не являются
видами деревьев, это части дерева» [183, с. 28-29]20.
Однако это не единственное понимание «части и целого»
современными философами и логиками. Некоторые из них понимают «часть и целое» как «элемент и множество». Проблематичность истолкования противоположности «части и целого» актуализируется сегодня, в частности, полемикой в связи с
парадоксами «абстрактных множеств», а именно, парадоксов
Рассела (Р) и Греллинга-Нельсона. Так, С.К. Черепанов отмечает, что современные белорусские исследователи объявляют,
что
парадокс Р связан с необоснованным отождествлением данного
отношения (речь идет об отношении “часть и целое”. – Е.О.) с
отношением “элемент – множество”, на котором построена канторовская ТМ (теория множеств. – Е.О.). Различие же этих типов
20
В приведенном фрагменте С.С. Розова цитирует [191, с.142].
66
отношений обнаруживается в ходе употребления имен соответствующих объектов. «Часть не носит название целого, тогда как
элемент множества именуется так же, как и само множество.
Например, элементами множества домов являются дома, но частями домов являются двери, окна и т. п.» [198, с. 62-63]21.
У Аристотеля метакатегории «целое» и «часть», как и
все другие метакатегории, – соотносительны. Он принимает
несколько значений метакатегорий «часть» и «целое» (Met. IV
2, 1005a17; V 25-26), среди которых есть не только то значение, согласно которому двери и окна суть части дома, но и то,
согласно которому какой-то дом есть часть дома вообще, или
же хвойное дерево есть часть дерева вообще, т.е., говоря языком современных философских логиков и математиков, «элемент» есть часть «множества». Соотношение этих двух значений «части и целого» у Аристотеля мы истолковали в книге
«Кафолическое в теоретической философии Аристотеля» [167,
с. 133]. Последнее значение «части» (и соответствующее значение «целого») играет первостепенную роль в силлогистике
Аристотеля, где он разделяет универсальные и частные посылки. Слово «универсальное» (kaqo>lou, кафолическое) на
греческом языке является однокоренным со словом «целое»
(o[lon) и используется Аристотелем для наименования одного
из значений «целого» (Met. V 26, 1023b29). При таком понимании «части и целого» всякий вид оказывается частью рода,
но не всякая часть какого-либо целого является видом рода.
Далее, если условно обозначить «часть» в одном значении
(хвойное дерево – часть дерева вообще) как «часть-1», а в другом значении (корни – часть дерева) как «часть-2», то надо
иметь в виду, что, согласно Аристотелю, не всякая «часть-1»
есть вид рода. Ибо Аристотель различает «роды», части которых суть виды, и «первые универсалии», части которых могут
и не быть видами. Различие «родов» и «первых универсалий»
мы рассмотрим в главах, помещенных в разделе «Аналитика:
Обретение универсального знания». Наконец, отметим и следующее обстоятельство. В Met. V 26, 1023b27-34 Аристотель
определяет «целое», соотнесенное с «частью-1» и с «частью-2»,
как два варианта соотношения «объемлющего и объемлемого». Поэтому распределение «другого и того же по виду» возможно и без участия метакатегорий «часть и целое», достаточ21
В приведенном фрагменте С.К. Черепанов цитирует [118].
67
но эмпирических представлений об «объемлющем и объемлемом».
У Аристотеля получается, что опыт дает нам представление о соподчиненности эмпирических представлений (целое
и часть, или же просто объемлющее и объемлемое), но не удостоверяет наличие именно родовидового соподчинения. Чтобы
определиться с тем, является ли данное эмпирическое представление видом какого-либо рода, нам надо иметь в уме метакатегории «то же и другое по виду», «род и вид». В [168,
с. 177–178] мы уже отметили, что «род», согласно Аристотелю, существует как «другое по виду»; «другое по виду» есть
атом, сущий в том же роде и содержащий противность; «противность» есть законченное различие [168, с. 176–179]. Таким
образом, чтобы определиться с родовидовым отношением тех
или иных эмпирических представлений, нам надо «подвести»
их под метакатегорию «другого по виду» (на языке Аристотеля: распределить «другое по виду»), а для этого нам следует
найти и принять «различие», присущее данному предмету, которое было бы противностью. Если соответствующее «различие» найдено и условия применения всех соответствующих
метакатегорий удовлетворены, мы «думаем» (oijo>meq∆), что
имеем дело с родом и его видами. При таком подходе получается, что М.И. Афонин в свое время ограничился делением
черноземов на основании эмпирических представлений, а
А.Д. Тэер, приняв «различие» почв на основании того или
иного соотношения глины, песка, гумуса и извести, тем самым
определился с видами рода почв.
Решающую роль при усмотрении «видов рода» играют
именно «различия рода», которые представляют собой своего
рода «водораздел»: при усмотрении и принятии «различия»
мы переходим от «феномена» к «эйдосу», т.е. переходим от
одной предметности к другой, от феноменальной к эйдетической (или же умопостигаемой, интеллигибельной). Однако из
этого не следует, что мы остаемся (или же задерживаемся) на
эйдетической предметности. «Усмотрев эйдос», мы возвращаемся к феномену, но теперь уже к иному феномену, а именно
феномену «вида рода» [167, с. 151–152]. Номенклатура почв у
М.И. Афонина, А.Д. Тэера и В.В. Докучаева отчасти совпадает, отчасти различается. Конечно, в какой-то степени здесь
может сказываться разница почв в Германии и России. Но
68
главное – каковы «различия», которые принимаются тем или
иным автором классификации. При переходе от эмпирически
выделенных частей той или иной целостности к умопостижению различий рода и тем самым к делению рода на виды ряд
эмпирически выделенных разновидностей может или сохраниться, приобретя «статус» видов рода, или измениться, не
приобретя «статус» видов рода; то и другое может произойти
или в целом, или частично. В любом случае поиск различий
рода предполагает наличие некоего предпознания: предшествующего эмпирического деления неких целостностей или
даже существование предшествующих классификаций на основании тех или иных принятых различий.
«Феномен» у Аристотеля узнается и в первый раз, и при
повторных встречах с ним посредством эмпирического уклада
души, в основе которого лежит чувственная восприимчивость,
с участием памяти и индукции, но без участия ума. Еще раз
напомним, что опыт, а следовательно и узнавание феноменов,
согласно Аристотелю, присущи и некоторым животным. Все
это свидетельствует о том, что «феномен» у Аристотеля возможен и при «нулевом» осмыслении. Но даже «осмысленный
феномен» вновь оказывается у Аристотеля чувственно воспринимаемым, а не мыслимым. Если ограничиться познанием
сути бытия, то собственно «мыслимым» оказывается только
«эйдос», познаваемый как «различие рода», но на котором, как
мы отметили в предыдущем абзаце, познание не задерживается. (В данном случае речь не идет о самих по себе метакатегориях, т.е. еще не распределенных метакатегориях, которые,
конечно же, мыслимы). Обратимся еще раз к вышеприведенным словам Э.В. Барбашиной: «…Феномены [у Канта. – Е.О.] –
это явления, которые не просто обработаны рассудком, а мыслятся как предметы на основе единства категорий». Так вот у
Аристотеля «феномены» «просто обработаны», но не «мыслятся»; причем «обработаны» они не «рассудком» (если сопоставлять «рассудок» в немецкой философской традиции с
dia>noia или ejpisth>mh в древнегреческой), а «разумом», т.е.
«умом» (если сопоставлять «разум» в немецкой традиции с
nou~v’ом-умом в древнегреческой).
Получается, что «феномены» у Аристотеля могут быть
как «неосмысленными», так и «осмысленными», причем «осмысленными» в разной степени. Кантовским же «явлениям» у
69
Аристотеля в какой-то степени можно было бы поставить в
соответствие единичные ощущения и чувственные восприятия, еще не опосредованные памятью, индукцией, опытом как
«первым универсальным в душе», т.е. еще эмпирически не обработанные, и потому еще не ставшие феноменами. С кантовскими «явлениями», судя по всему, можно было бы сопоставить также аристотелевские фантазмы.
У Аристотеля мы имеем дело с эйдетическими «различиями» (принимаемыми умом) и феноменальными «сходствами и несходствами». «Диагностические признаки» современных классификаторов следует сопоставлять с феноменальными «сходствами и несходствами». Вышеприведенный анализ
показывает, что, согласно Аристотелю, мы встречаемся с «диагностическими признаками» дважды: «до того» и «после того», т.е. до распределения соподчиненных эмпирических представлений на роды и виды и после. До этого распределения мы
чувственно отождествляем или различаем наши чувственные
восприятия на основании тех или иных «сходств и несходств»,
производя тем самым «феномены». Но и после распределения
феноменов на роды и виды, т.е. после разделения рода по
«различиям», «сходства и несходства» вновь установленных
видов не теряют своего значения. Ибо при использовании уже
построенной классификации иногда удобней пользоваться
легко узнаваемыми «сходствами и несходствами», а не «различиями» – «в силу сложности процедуры их установления»
(это суждение С.С. Розовой приводилось в § 2.1 данной книги
[c. 57]).
Рассмотрим следующий пример. В.В. Докучаев, предложив определенное подразделение почв, пишет:
Главнейшими основами последнего подразделения служат: цвет
сухопутнорастительных почв, в связи с чем – содержание в них
фосфорной кислоты, – азота…(и т.д. – Е.О.) [132, с. 141].
А теперь вспомним слова С.С. Розовой о генетической
классификации почв В.В. Докучаева, которые мы уже приводили в § 3.1 [с. 57]:
Реальные почвы диагностируются как светло-серые северные, серые переходные, черноземные не на основании их генезиса,
который не может быть установлен эмпирически, а на основании
их структурных, морфологических, физических характеристик,
наблюдаемых в почвенных разрезах.
70
По поводу этого суждения, во-первых, отметим, что нам
не понятно, почему генезис почв «не может быть установлен
эмпирически». Если иметь в виду значения условий генезиса
почв, которые В.В. Докучаев указывает в своей последней,
собственно генетической классификации, то, с нашей точки
зрения, они вполне эмпирически установимы [134]. Во-вторых, отметим, что С.С. Розова в данном случае в качестве «диагностических признаков» рассматривает «структурные, морфологические, физические характеристики» почв, связывая их
с цветом почв, а в качестве «различий» (в аристотелевском
смысле) – условия генезиса почв. Аристотель же, судя по всему, отнесся бы к данной познавательной ситуации иначе: цвет
почв он отнес бы к «диагностическим признакам», физикохимический состав – к «различиям», а условия возникновения,
как уже пояснялось, он в данном случае не рассматривал бы.
С аристотелевской точки зрения цвет сухопутнорастительных
почв, рассматриваемый как «сходства и несходства» почв, мог
бы использоваться для идентификации почв «на глаз», содержание же в почвах фосфорной кислоты, азота и т.д., рассматриваемое как «различие», могло бы использоваться для идентификации почв в ответственных ситуациях. В этом случае
потребовалась бы «сложная процедура», а именно физикохимический анализ. Конечно, Аристотель не занимался физико-химическими анализами в современном смысле, но его
дистинкция «то хóти – то диóти» предполагает, что процедура
установления «различия» может быть сложной. Например, при
определении китообразных он учитывал такие «различия», как
особенности крови, способы дыхания и репродукции. Все эти
«различия» при первом эмпирическом знакомстве с той или
иной особью китообразных неочевидны. Для их установления
требуются длительные наблюдения за жизнью китообразных и
анатомирование их туш.
Идентификация родов и видов, имеющая место при использовании уже построенных классификаций, на языке Аристотеля называется «узнаванием» (gnwri>zein) родов и видов.
Когда речь идет об «узнавании», Аристотель имеет в виду не
какие-либо «признаки», а опыт. То есть человек узнает те или
иные виды рода на основании эмпирического знакомства с
данными видами и родами. Ни о каких вербально закрепленных перечнях феноменальных «сходств и несходств» он, как
71
правило, не говорит и тем более не включает их в определения
(сути) видов [об «узнавании» у Аристотеля см. [168, с. 48–53].
Аристотель как бы следует старому правилу: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». И это не случайное обстоятельство, а осознанная и основательная позиция Аристотеля.
Так, Дж.С. Милль, продолжая в VII главе четвертой книги «Системы логики» разговор о классификации, подробно
излагает точку зрения У. Юэля (Whewell), который, в свою
очередь, обращает внимание на тот факт, что очень часто
классификационные признаки, включенные в определение того или иного вида, на самом деле не присущи многим представителям данного вида.
…Аномалии встречаются столь часто, – цитирует Дж.С. Милль
У. Юэля, – что Линней в своем Introduction to the Natural System
of Botany делает из них особый параграф в каждом семействе
[159, с. 648–649]22.
Отсюда У. Юэль делает вывод, что определения более не
могут быть полезными при естественных классификациях.
…Тем не менее, – продолжает он, – это не делает класс совершенно неопределенным, лишенным всякого мерила, всего определяющего. Класс, хотя и не ограничен точно, установлен твердо;
он дан, хотя и не очерчен; он определяется не извне – линией,
очерчивающей его объем, а изнутри – некоторым внутренним
средоточием, – не тем, что класс строго исключает, а тем, что он
преимущественно обнимает, – не правилом, а примером. Коротко
говоря, классом здесь руководит не определение, а тип. Тип есть
образец того или другого класса (например, того или другого рода или вида), рассматриваемый как преимущественно обладающий отличительными признаками данного класса [159, с. 649].
У. Юэль, будучи представителем британской философской традиции, для которой характерно нигилистическое отношение к «сути бытия», судя по всему, не учитывает разницу
между «различиями» и феноменальными «сходствами и несходствами». Для него все это – что-то однопорядковое, т.е.
то, что пишется «через запятую». При таком подходе в определения видов попадают феноменальные «сходства и несходства», которые не являются ни необходимыми, ни тем более
достаточными для «узнавания» видов, что приводит У. Юэля к
скептическому отношению к определениям видов. Отказыва22
Русская транскрипция фамилии Whewell дается в том виде, как она
представлена в русском переводе «Системы логики» Дж.С. Милля [159].
72
ясь от определений, он останавливается на ступени «то хóти»,
т.е. на той ступени, на которой остановился в свое время и
М.И. Афонин. Согласно же Аристотелю, эмпирически (без
определений) мы лишь «узнаем» вид рода уже построенной
классификации, т.е. ведаем «что он есть» (то хóти) (на языке
Аристотеля это означает, что данный экземпляр есть экземпляр некоего вида); при этом «различие рода» (а следовательно и определение) остается в силе и отвечает на вопрос «почему он есть» (то диóти). Например, для того, чтобы «узнать»
кита, не надо каждый раз длительно наблюдать за ним, а затем
анатомировать его тушу, чтобы установить наличие в данной
особи «различий», входящих в определение кита. Хотя в особых (спорных и ответственных) случаях это делать необходимо.
Итак, «диагностические признаки», о которых говорят
современные специалисты по классификационной проблеме,
остаются у Аристотеля, как правило, невербализованными, а
известными человеку лишь эмпирически, и используются на
начальных этапах построения классификации (до нахождения
«различия»), а также при использовании уже построенных
классификаций для «узнавания» тех или иных представителей
того или иного вида рода.
2.3. Аристотелевский подход
к определению видов рода
и новая теория референции
в аналитической философии
Ситуация с вербализацией и невербализацией «сходств и
несходств» у Аристотеля меняется в двух случаях: при обучении, когда учитель ведет речь о том, что ученики никогда не
видели; и когда от определений и классификаций видов мы
переходим к доказываемому знанию, т.е. к доказывающему
силлогизму, в качестве одного из терминов которого выступает наименование вида рода, «суть» которого мы еще не познали. Однако ведома ли нам «суть» вида или еще не ведома, доказывающий силлогизм требует в качестве предпознания
определения всех входящих в него терминов; главное – чтобы
термины были определены однозначно. В этих случаях вступает в силу аристотелевская дистинкция «значения и сути», о
которой у нас шла речь в 8-й главе книги «Философский язык
Аристотеля» [168]. До сих пор мы говорили об определениях у
73
Аристотеля как определениях «сути». В то же время он учитывает и определения «значения». В определения «значения»
может входить ограниченный перечень «сходств и несходств»,
которые мы используем при узнавании того или иного вида.
Вообще Аристотель, как мы показали в 8-й главе [168],
различает не только «что есть» и «почему есть», но и «что
есть», т.е. не только «бытие» и «суть» (essence), но и «значение» (meaning). Если «бытие» узнается (gnwri>zein), а «суть»
умопостигается (noei~n), то «значение» понимается (xunie>nai) (An. Post. I 1, 71a11–17). «Понимание» значения термина
не влечет с необходимостью возможность «узнавания» предмета, входящего в объем этого термина. Для «узнавания» необходим опыт, «понимание» же значения возможно и без опыта. В связи с этим надо учитывать еще одну дистинкцию Аристотеля: дистинкцию эмпирического обобщения и абстрагирования (т.е. Аристотель разделяет универсальные имена на эмпирические и абстрактные; см. § 1.2.3 [36]). Так что «опыт»
требуется для «узнавания» только эмпирических предметов,
для идентификации абстрактных предметов достаточно «понимания». Люди, не имеющие опыта, могут «говорить» и о тех
эмпирических предметах, с которыми они на личном опыте не
знакомы, и которые они, соответственно, не «узнáют» при эмпирической встрече (см. прим. 16). Более того, согласно
Аристотелю, «понимать» можно и те имена и термины, которые обозначают что-либо несуществующее, т.е. термины, как
сказали бы сегодня, «с нулевым объемом». У Аристотеля такие термины тоже имеют «значение». Аристотелевские «значения» правомерно сопоставлять с «дескрипциями» современных логиков и философов.
В книге «Философский язык Аристотеля» [168, § 8.4] мы
уже писали, что Аристотель различает эпистему и применение
эпистемы к частным случаям. Для него это разные познавательные действия. Эпистема прежде всего есть доказывающий силлогизм, а силлогистика Аристотеля имеет дело прежде
всего с универсальными терминами. Собственно доказывающее умозаключение не предполагает «узнавания». «Узнавание» имеет место, во-первых, на досиллогистических ступенях
познания (в качестве предпознания), а во-вторых, становится
необходимым при применении уже полученного универсального знания к той или иной частной ситуации: АаГ, Гg├ Аg.
74
Вторая посылка в этом силлогизме получается на основании
«узнавания». Таким образом, если иметь в виду только эпистему (доказывающее знание), но не применение эпистемы к
частным случаям, то при доказательствах Аристотель имеет
дело со «значением» и «сутью», но не с «узнаванием».
Проблеме «значения» большое внимание уделяют аналитические философы. Более того, аналитическая проблематика «значения» и «референции» в связи с терминами естественных видов имеет непосредственное отношение к классификационной проблеме. Поэтому в заключение этой главы мы попытаемся сопоставить «в первом приближении» аристотелевский подход к данной проблематике с соответствующими подходами аналитических философов.
Сначала сравним аристотелевские различения «бытия»,
«значения» и «сути» с аналогичными различениями в аналитических теориях значения и референции. При этом «бытие» у
Аристотеля мы заменим на «узнавание» бытия посредством
«опыта», что в большей степени соответствует аналитической
«референции». Данное сравнение осложняется одной из исходных установок современных исследователей. Так, Л.Б. Макеева пишет:
До Дж.С. Милля преобладающим было представление, согласно
которому слова являются знаками идей, т.е. значением слова выступает связанная с этим словом идея. Заслуга Милля состояла в
создании «денотативной семантики», которая трактует языковые
выражения как имена предметов, а не наших представлений о них
[156, прим. к § 2 гл. I].
Конечно, Аристотель считает, что отношение «имени» и
соответствующей ему «вещи вне души» опосредуется неким
состоянием в душе, а современные аналитические философы в
большинстве своем предпочитают не учитывать никаких ментальных репрезентаций. Мы рассмотрели аристотелевскую
позицию по этому вопросу в [168, § 8.2]. Однако разное отношение Аристотеля и его современных коллег к ментальным
репрезентациям не исключает возможности сравнить «в первом приближении» их различения, касающиеся «референции»
и «значения».
При составлении сравнительных таблиц (табл. 2.1–2.4)
мы использовали работы Л.Б. Макеевой [156] и А.В. Хлебалина [195]. В данном случае мы не учитываем разницу в том, какие имена (и дескрипции) относили к именам собственным
75
Дж.С. Милль, Г. Фреге и Б. Рассел. У Дж.С. Милля мы обозначили «денотацию» как «означение», а не «значение», только
потому, что именно так переводит В.Н. Ивановский в «Системе логики» [159]. А вообще-то у Дж.С. Милля речь идет о той
же самой денотации, что и у Г. Фреге и Б. Рассела, так что
можно было бы во всех трех случаях говорить о «значении».
Таблица 2.1
Нарицательные имена: термины естественных видов
Аристотель
узнавание (опыт)
значение
суть (различие
рода)
Дж.С. Милль
означение–
соозначение–коннотация
денотация
Г. Фреге
–
служат для образования смыслов имен собственных
Дж.С. Милль
Г. Фреге
Б. Рассел
Р. Карнап
Собственные имена
означение–
денотация
значение–
денотация
значение–
денотация
знание–
знакомство
Понятия
объем понятия
экстенсионал
Таблица 2.2
–
смысл
–
Таблица 2.3
содержание понятия
интенсионал
Таблица 2.4
Нарицательные имена: термины естественных видов
Х. Патнэм
стереотип
дескрипция
дескрипция
стереотипа
экстенсионала, включающая существенные
свойства
С. Крипке
референция
дескрипция,
значение: дефиксирующая
финиция,
референцию
обеспечивающая индивидуацию
Аристотелевское «узнавание» соответствует «референции» у аналитиков лишь отчасти. Во-первых, референция
76
предполагает наличие «имени», которое на что-то указывает.
Эмпирическое «узнавание» у Аристотеля возможно и без имени, т.е. человек (как и некоторые животные) может узнавать и
то, что не имеет «имени», безымянное (по-греч. «анонимное»).
Во-вторых, мы уже отметили, что Аристотель различает
«узнавание» и «понимание», а для «разговоров» и доказательств, с его точки зрения, «узнавание» не необходимо. Философы-аналитики пытаются создавать единые теории значений и референций как бы сразу и для терминов естественных
видов (для классификаций), и для логики (в том числе модальной), и для употребления естественного языка вообще. Поэтому аналитики усматривают «референцию» и там, где для Аристотеля «узнавания» нет. Например, такие ситуации, судя по
всему, могут возникать при заменах в логических выводах одних терминов на другие. Однако, если мы ограничим наш интерес классификационной проблемой, то возникнет больше
оснований для сопоставления «референции» с «узнаванием».
Из приведенных сравнительных «табл. 2.1–4» видно, что
Г. Фреге и Б. Рассел, отказавшись от дистинкции, аналогичной
дистинкции «значения и сути», существенно отдалились от
различений Аристотеля, а Х. Патнэм и С. Крипке вновь приблизились к ним. Подход, восходящий к Г. Фреге и Б. Расселу,
в философской аналитической литературе принято называть
«традиционной семантической теорией» (или «классической
семантической теорией», или «классической теорией референции»), а подход К. Доннелана, С. Крипке, Х. Патнэма – «новой
теорией референции» (или «теорией терминов естественных
видов как твердых десигнаторов», или теорией «прямой референции»). Примечателен следующий вывод Л.Б. Макеевой:
…Сторонники новой теории референции отказались от понятия
смысла как механизма определения референции и заменили его
каузальным механизмом. Однако каузальные связи могут объяснить референцию имен только тех объектов, с которыми мы знакомы по опыту [156, гл. I. § 3].
Этот вывод подтверждает правомерность нашего сопоставления «референции» у аналитиков (ограниченной проблематикой терминов естественных видов) именно с эмпирическим «узнаванием» у Аристотеля.
А.В. Хлебалин пишет:
Согласно точке зрения традиционной семантической теории, восходящей к Г. Фреге и Б. Расселу, экстенсионал термина опреде-
77
ляется его интенсионалом; иными словами, «имя ничего не значит без поддержки дескрипций». Дескриптивное содержание
имени делает возможной индивидуацию референта [195, с. 24].
Далее, имея в виду доводы новой теории референции,
А.В. Хлебалин продолжает:
Термины естественных видов опровергают классическую теорию
референции. Сколь бы большим ни был перечень дескрипций, ассоциированных с термином естественного вида, содержащаяся в
нем коньюнкция свойств, присущих референту термина, не позволяет однозначно выделить его, всегда существуют контрфактические ситуации, в которых мы не знаем, применим ли данный
термин к определенному объекту [195, с. 24].
От себя добавим, что фактически авторы новой теории
референции констатируют то же обстоятельство, что и У. Юэль,
суждения которого мы приводили в предыдущем подпараграфе.
Классическая семантическая теория Фреге – Рассела, согласно А.В. Хлебалину, не может объяснить функционирование терминов естественных видов из-за объединения индивидуации и референции [195, с. 24]. С. Крипке же разводит индивидуацию на основании дефиниций и референцию, с которой могут быть сопряжены дескрипции. Дистинкция С. Крипке аналогична аристотелевской дистинкции разделения родов
на виды на основании «различий» и «узнавания» отдельных
представителей того или иного вида на основании «сходств и
несходств». И у С. Крипке, и у Аристотеля «референция» и
«узнавание» могут происходить без «дескрипции» и «значения». В то же время, если речь о дескрипциях в каких-то ситуациях все же заходит, то надо учитывать, что у С. Крипке, как
и других авторов новой теории референции, «дескрипции»,
судя по всему, относятся только к существующим объектам, а
у Аристотеля «значения» могут относиться и к несуществующему.
Итак, определения «значения», которые могут содержать
ограниченные перечни феноменальных «сходств и несходств»,
и которые аналогичны «дескрипциям, сопряженным с референцией» у аналитиков и «диагностическим признакам» современных специалистов по классификационной проблеме,
согласно Аристотелю, не необходимы и тем более не достаточны ни для разделения рода на виды по различиям, ни для
использования уже построенных классификаций (т.е. для
«узнавания»).
78
Апорию, сформулированную С.С. Розовой:
…Признать основанием классификации закон почвообразования
или диагностические признаки каждого типа», –
Аристотель разрешил бы в пользу первого положения. В
«классификации» М.И. Афонина отсутствует разделение почв
на виды на основании различий, это просто ряд эмпирически
выделенных разновидностей почв. В строгом смысле слова –
это не классификация. «Различия» видов не тождественны
феноменальным «сходствам и несходствам» тех же видов. Но
из этого еще не следует признание двух оснований классификации. «Основанием классификации» выступают только первые из них. Вообще Аристотель признает определения видов
рода по двум и более различиям (именно «различиям», а не по
«сходствам и несходствам» и «различиям», и не по «сопутствующему» и «различию»), но это уже тема для 4-й главы.
79
3. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМАТИЗАЦИИ
В «ИСТОРИИ ЖИВОТНЫХ» АРИСТОТЕЛЯ
А теперь мы рассмотрим реальную аристотелевскую практику классифицирования животных.
Б.А. Старостин пишет:
Систематизация, элементы которой бесспорно присутствуют в «Истории животных» основана на морфологических,
физиологических (особенности воспроизведения) и экологических (деление животных на водные, сухопутные, «воздушные»)
признаках… [189, с. 38].
Такое истолкование «систематизации» Аристотеля, вероятно, можно рассматривать как общепринятое. Однако, с
нашей точки зрения, оно требует некоторых пояснений, а
можно сказать, и уточнений. Прежде всего возникают вопросы
по поводу третьего из приведенных оснований систематизации – деление животных на водных, сухопутных и «воздушных». Дело в том, что Аристотель в работе «О частях животных» в контексте критики дихотомии полемизирует по поводу
этого деления с «академиками»: Платоном и, возможно, Спевсиппом (Part. An. I 3, 643a35–b3). В «Истории животных» Аристотель действительно рассматривает деление животных на
«сухопутных» и «водных», а «сухопутных» – на «пеших» и
«летающих», так что Hist. An. дает основание говорить и об
аристотелевских разделениях животных на пеших, водных и
летающих. Однако наряду с этими разделениями он рассматривает и многие другие. Возникает вопрос: идет ли речь у
Аристотеля о неком едином разделении (одной «классификации») животных по многим основаниям или же о нескольких
разных разделениях («классификациях»)?
В данной главе мы предложим комментарий к Hist. An., в
котором покажем, что Аристотель «систематизирует» животных посредством системы «классификаций», среди которых
имеется как «естественная (родовидовая) классификация», так
и ряд «искусственных классификаций», определенным обра-
80
зом связанных с «естественной». А родовидовое «классифицирование» он совершает на основании, прежде всего, частей
животных.
Мы прокомментируем разные части Hist. An. с разной
степенью подробности. В § 3.1 мы проанализируем главы
Hist. An. I 1–5. Комментирование Hist. An. I 1 позволяет определенным образом истолковать содержательную структуру
всего сочинения и тем самым выявить собственно родовидовую «классификацию» животных, которую Аристотель предлагает в Hist. An. I 6. А в Hist. An. I 2–5 Аристотель выявляет
части животных, которые он принимает в качестве оснований
этой классификации. В § 3.2 мы прокомментируем Hist. An.I 6
и вместе с тем рассмотрим аристотелевскую родовидовую
«классификацию» животных. В § 3.3 и § 3.4 мы проанализируем остальные главы I книги, а также II–VIII книги «Истории
животных» и вместе с тем выявим искусственные «классификации» животных.
3.1. Комментарий к Hist. An. I 1–5
Комментарий к Hist. An. I 1. В этой главе Аристотель
сначала говорит о частях животных: подобочастных (гомеомериях) и неподобочастных, а также о частях-членах (486a5–14).
Затем он говорит о частях животных в связи с родами и видами животных: части животных или те же (taujta>), или другие
(e[tera) (В.П. Карпов переводит как «одинаковые и различные», а далее – как «сходство и различие», что свидетельствует о том, что он не уделяет должного внимания параллелям с
«Метафизикой» и вообще метакатегориям Аристотеля [100]);
у животных тех же по виду и части те же по виду; у животных тех же по роду части те же, но различаются по «превышению и недостатку»; у некоторых животных тех же по роду
части другие; у некоторых животных других по роду части те
же по аналогии, а не по виду или превышению и недостатку
(486a14–487a1) (о метакатегориях то же и другое, то же и
другое по виду см. [168, с. 175–179]). После этого Аристотель
разделяет гомеомерии влажные и мягкие, с одной стороны, и
сухие и твердые – с другой, перечисляя те и другие. Для последующего анализа важно то, что он называет среди влажных
(и мягких) гомеомерий, а значит, частей животного кровь, а
также мясо и его аналоги (487a1–10).
81
Далее Аристотель пишет следующее (487a11–14):
Различия же животных суть на основании образа жизни (tououv), практических действий (taxeiv), нравов (ta< h]qh) и
частей (ta< mo>ria), о которых мы сначала скажем «в первом приближении» (tu>pw|), а в последующем будем говорить, разумея
каждый род [в отдельности].
Этот фрагмент помогает нам понять содержательную
структуру всего трактата. А именно, далее нам надо выяснить,
где именно Аристотель рассматривает различия животных по
образу жизни, практическим действиям (праксисам), нравам, а
также частям, в «первом приближении», а где – в связи с каждым родом животных. Более того, если он будет рассматривать эти различия в связи с каждым родом, встает вопрос: где
и каким образом он вводит эти роды?
В комментируемом нами фрагменте Hist. An. I 1 речь
идет о том, что сначала мы рассмотрим нечто, касающееся
животных вообще (рассмотрение «в первом приближении»), а
затем мы рассмотрим то же самое, но в связи с определенными
родами и видами животных. Мы подробно рассмотрели аристотелевскую дистинкцию «в первом приближении и более
точно» в [168, с. 144–147].
В «первом приближении» Аристотель говорит о различиях животных по образу жизни, праксисам и нравам в I 1,
487a14–487b32: здесь речь идет о разделении животных на
водных (e]nudra) и сухопутных (cersai~a). Далее в I 1,
487b33–488b11 Аристотель говорит в «первом приближении»
о различиях животных по образу жизни и праксисам, имея в
виду следующие разделения животных: стадные и одиночные;
политические и живущие порознь; политические с гегемоном
и анархические; оседлые и странствующие; плотоядные, плодоядные, всеядные и со своим питанием; охотящиеся и накапливающие пищу; имеющие дом и бездомные; пещерные и
наземные; с норами и без нор; ночные и живущие при свете;
домашние и дикие; способные издавать звуки-шумы, немые и
одаренные голосом; живущие в полях, горах и с человеком;
склонные к любовным наслаждениям и целомудрию; живущие
в открытом море, по берегам, на камнях; склонные к борьбе и
осторожные. О различиях по нравам в «первом приближении»
Аристотель говорит в I 1, 488b12–488b26: одни животные
«кротки, печальны и не склонны к возмущению», другие
«злобны, агрессивны и не поддаются обучению»; одни «благо-
82
разумны и боязливы», другие «низки и коварны»; одни «свободны, храбры и благородны», другие «породисты, дики, коварны»; одни «лукавы и злокозненны», другие «отважны,
дружественны и льстивы», иные «кротки и способны к приручению», иные «стыдливы и осторожны», иные «завистливы и
любят красоваться». После чего Аристотель вновь замечает
(I 1, 488b27–28):
О нравах и образе жизни, касательно каждого рода, впоследствии
будет сказано более точно.
На этом Hist. An. I 1 заканчивается.
Комментарий к Hist. An. I 2–5. В «первом приближении» о частях животных Аристотель говорит в I 2–4, 488b29–
489a34. В этих главах он говорит об общих частях животных,
одни из которых внутренне присущи всем животным, а другие – большинству. Имеются в виду части, связанные с питанием и выделением, размножением и осязанием, а также
влажностью в организме. С точки зрения последующего комментирования важно обратить внимание на два разделения
Аристотеля. Во-первых, в I 3, 489a8–15 он пишет, что у одних
животных есть самки и самцы, а у других нет. Впоследствии
он уточнит это разделение, различив животных, возникающих
от спаривания и возникающих самопроизвольно (по-греч. автоматически). Во-вторых, Аристотель заканчивает этот
фрагмент разделением животных на тех, что с кровью, и бескровных (влажность у одних животных – кровь, у других – ее
аналог). С учетом того, что Аристотель рассматривает кровь
как часть животного (что ранее мы уже отметили), данное разделение производится «на основании частей».
Hist. An. I 5 представляет здесь для нас особый интерес,
ибо именно в этой главе Аристотель ведет речь о различиях по
способу «репродукции» и «локомоции», которые, как принято
считать, используются им в его «классификации» животных. В
I 5, 489a34–b18 Аристотель разделяет животных на живородящих, яйцеродящих и черверодящих. Впоследствии (за пределами I 5) Аристотель пояснит, что это разделение касается
только животных, возникающих от спаривания. А сейчас перед нами встает вопрос: разделение животных на живородящих, яйцеродящих и черверодящих производится им на основании образа жизни, праксисов, нравов или частей? Или как-то
иначе? Очевидного ответа нет. В I 3 Аристотель начал разго-
83
вор («в первом приближении») о частях животных, связанных
с репродуктивной функцией. Однако в этой главе было сказано лишь то, что в организме самок есть матка или ее аналог,
чего недостаточно для разделения животных на живородящих,
яйцеродящих и черверодящих. Мы еще вернемся к этому вопросу, а пока лишь отметим, что Аристотель, заканчивая в I 5,
489b17–18 фрагмент, касающийся разделения животных на
живородящих, яйцеродящих и черверодящих, отсылает читателей за дальнейшими пояснениями к своей работе «О возникновении животных».
Далее в I 5, 489b19–23 Аристотель разделяет животных
вообще на животных с ногами и безногих, а животных с ногами – на двуногих, четвероногих и с большим количеством ног.
В I 5, 489b23–490a5 он разделяет, во-первых, теперь уже только плавающих животных опять же на тех, что с ногами и безногих, а во-вторых, плавающих безногих животных – по наличию и количеству плавников. В I 5, 490a5–25 Аристотель разделяет теперь уже только летающих животных на животных
пернатых, с перепончатыми (ptilwta>) и кожаными крыльями.
Он поясняет, что первое из этих разделений соответствует роду птиц, а о двух других родах говорит, что они анонимны. В
анонимный род животных с перепончатыми крыльями он
включает насекомых, которых в других местах своих сочинений предпочитает называть «цельнокрылыми» (oJ lo>pteron).
Последнее наименование связано с тем, что Аристотель
рассматривает крылышки насекомых по аналогии с перьями у
птиц как единое «перо». Получается, что в крыльях птиц
много перьев (расщепленное оперение), а у насекомых
крылышки состоят только из одного аналога пера
(цельнокрылые). Поэтому за пределами Hist. An. I 5 в большинстве случаев Аристотель различает летающих животных
«цельнокрылых» и «с расщепленным оперением», а не «с
перепончатыми крыльями» и «пернатых». В качестве примера
летающего животного с кожаными крыльями он приводит
обычно летучую мышь. Далее в Hist. An. I 5 Аристотель,
относя летающих животных пернатых и с кожанными
крыльями к животным с кровью, а с перпончатыми крыльями – к бескровным (490a8–9), вновь обращает внимание на
наличие ног, а именно отмечает, что все летающие животные
пернатые и с кожаными крыльями двуногие (490a10–11), за
84
исключением неких эфиопских летающих змей, которые, как
свидетельствуют «очевидцы», безногие (последнее свидетельство, вероятно, из серии «рассказов о диковинах»). В завершение Hist. An. I 5 Аристотель пишет, что все движущиеся
животные движутся посредством четырех или более конечностей: четвероногие животные – посредством четырех ног,
человек – посредством двух ног и двух рук, птицы – посредством двух крыльев и двух ног, рыбы – посредством четырех
плавников или двух плавников и двух изгибов; змеи – посредством четырех изгибов; бескровные животные – посредством
более чем четырех конечностей (490a26–b6).
Содержание самой по себе главы Hist. An. I 5 не дает
оснований для однозначного ответа на вопрос о том, ведет ли
Аристотель здесь речь о родовидовых разделениях животных
или о каких-то иных разделениях. Место и роль этой главы в
составе всего сочинения станет понятнее при чтении последующих глав. А пока лишь отметим, что в указанной главе
речь идет, во-первых, о способах репродукции, и, во-вторых, о
частях-членах животных, посредством которых они осуществляют передвижение: ногах, крыльях, плавниках. В I 4,
489a26–29 Аристотель отмечает:
А способности творить – в неподобочастных [частях], например
способность к обработке пищи во рту, к движению по месту в ногах, крыльях или их аналоге.
Всех животных при разделениях по способу локомоции
касается только различие между животными с ногами и
безногими; остальные различия (по крыльям, количеству
плавников) касаются только или летающих, или плавающих
животных. Если иметь в виду предыдущее заявление
Аристотеля о том, что он разделяет животных по образу
жизни, праксисам, нравам и частям, то разделения животных
по частям-членам, посредством которых они передвигаются,
следует отнести к различиям по частям, рассматриваемым «в
первом приближении»; различие же животных по способу
репродукции в этом смысле остается проблемным. В целом мы
отнесем Hist. An. I 5 к предыдущим главам Hist. An. I 2–4, в
которых рассматриваются «в первом приближении» части
животных.
85
3.2. Комментарий к Hist. An. I 6
Аристотель после рассмотрения в Hist. An. I 1–5 «в первом приближении» различий животных по частям, образу
жизни, праксисам и нравам в Hist. An. I 6, опять же «в первом
приближении», вводит роды и виды животных, чтобы потом
рассмотреть те же различия в связи с каждым родом животных
в отдельности. Для дальнейшего рассмотрения мы разделим
Hist. An. I 6 на три части: 490b7–19; 490b19–491a6; 491a7–26.
Комментарий к Hist. An. I 6, 490b7-19. В первой из выделенных нами частей Hist. An. I 6 Аристотель без каких-либо
предисловий называет следующие роды: среди животных с
кровью – птиц, рыб и китообразных (490b7–9); среди бескровных животных – черепокожих (панцирных), мягкоскорлупных
(ракообразных), мягкотелых (моллюсков) и насекомых (490b9–
15). Обратим внимание на то, что Аристотель сразу исходит из
разделения животных на животных с кровью и бескровных,
которое он ввел в I 4, а затем перечисляет роды тех и других.
По мнению комментаторов, разделение животных на животных с кровью и бескровных по объему выделенных разрядов
соответствует современному разделению животных на позвоночных и беспозвоночных [120, с. 179]. В круглых скобках мы
указали современные наименования соответствующих разрядов животных, которые иногда используются в аристотелеведческой литературе, хотя соответствие объемов современных
наименований с аристотелевскими может быть проблемным.
Первые три рода (относящиеся к животным с кровью)
Аристотель называет в данном случае «величайшими» (490b7:
me>gista). Остальным четырем родам (бескровных животных)
в явном виде он не дает никакого эпитета, но если судить по
последующему контексту, то он относит их к «великим»
(490b16: mega>>la) родам. Для остальных животных, – пишет
Аристотель, – великих родов нет (490b15–19):
… Ибо единый вид не объемлет многие виды, – однако одни виды просты, сами не имея различий, например человек, другие
имеют [различия], но виды анонимные.
Однако в Hist. An. II 15, 505b25–32 Аристотель несколько иначе распределяет эпитет «величайший». Здесь он называет «величайшими» все роды животных с кровью в отличие от
бескровных, а именно: человека и живородящих четвероногих
животных, яйцеродящих четвероногих, птиц, рыб, китообраз-
86
ных, а также такие «простые виды» (т.е. виды, которые не
входят наряду с другими видами в какой-либо «вид видов»),
как змеи икрокодилы. Отметим, что человек, будучи, согласно
Аристотелю, «простым видом», в некоторых контекстах рассматривается им вместе с родом четвероногих живородящих
животных.
Вопрос о «величайших» и «великих» родах нам представляется важным, поскольку он связан с «таксономией»
Аристотеля. Согласно Hist. An. II 15, 505b25–32, все роды животных с кровью, включая простые виды, которые собственно
родами не являются, – «величайшие». Однако, согласно Hist.
An. I 6, 490b15–19, простые виды не являются «великими» родами. Получается, что человек («простой вид») – «величайший
род» (II 15), но не «великий» (I 6). Что это – непоследовательность Аристотеля в словоупотреблении? Или в этой «непоследовательности» есть какой-то смысл? Мы бы предположили,
что Аристотель, называя тот или иной род «величайшим»,
имеет в виду просто размер животных данного рода. Так, в
Hist. An. I 5, 490a21–25 он пишет:
Все бескровные [животные] по величине меньше животных с
кровью, за исключением малочисленных более крупных (mei>zona
[т.е. более великих]) морских бескровных [животных], например
некоторых из мягкотелых. Среди них [т.е. бескровных животных]
величайшими (me>gista) родами становятся те, [которые обитают]
в самых теплых [краях], и скорее в море, чем на земле или пресной воде.
А ведь и в Hist. An. II 15, 505b25–32 Аристотель называет
«величайшими» именно роды животных с кровью в отличие от
бескровных. «Великим» же Аристотель, судя по всему, называет тот или иной род, говоря языком современных логиков, в
силу «объема понятия». В этом случае получилось бы, что
аристотелевское выражение «величайшие роды» означает «роды наиболее крупных животных», а к «таксономии» Аристотеля следовало бы отнести только «великие» роды, которые
включают в себя как роды животных с кровью («величайшие»
роды, т.е. роды наиболее крупных животных), так и роды бескровных животных.
В [168, с. 193–194] мы уже отмечали, что Платон называл «величайшими» родами (me>gista tw~n genw~n) «само сущее», «движение и покой», «другое и то же», а Аристотель называет «величайшими» роды самых крупных животных, а
87
именно животных с кровью. «Сущее» же, а следовательно и
его состояния: «иное и само», «другое и то же по числу», «различие», «несходное и сходное», «неравное и равное», «противность», «различие рода», «другое и то же по виду» (а также
«то же и не-то же»), «движение и остановку» и т.д. – Аристотель называет «самым универсальным» (to< kaqo>lou ma>lista – сáмое кафолическое), но не родом.
Если современные классификации животных предполагают многочисленную таксономию: тип и подтип, класс и
подкласс, отряд и подотряд, семейство и подсемейство и т.д.,
то у Аристотеля только три (или четыре) «таксона»: великие
роды, роды и виды, единичные виды. Метакатегории «роды и
виды», выступающие в данном случае в роли «таксонов», используются Аристотелем в соотносительном смысле, т.е. один
и тот же разряд животных в одном контексте может оказаться
родом, в другом – видом [190, прим. 5 к Hist. An. I 1, с. 415–
416]. В этом смысле он иногда пишет о «видах видов» (имеются в виду соотносительные с данными видами роды). Конечный, далее неделимый вид, соответствующий сущности как
эйдосу, он называет единичным видом (подразумевается единичное по виду, а не по числу). В современных классификациях все многообразие таксономических единиц тоже иногда
сводят к трем группам: надвидовые единицы (род-подрод и
«выше»), основная единица (вид) и внутривидовые единицы
(подвид, разновидность, форма). Разница в том, что Аристотель останавливается на основной единице (виде).
Комментарий к Hist. An. I 6, 490b19–491a6. Аристотелевский ответ на вопрос: почему кроме семи выделенных родов для остальных животных великих родов нет, – мы привели
еще при комментировании первой части I 6: чтобы быть «великим», некий род должен включать в себя не только единичные виды, но и какие-нибудь виды, объемлющие единичные
виды, т.е. «виды видов»; причем эти «виды видов» должны
быть поименованными (а не «анонимными»). Во второй части
Hist. An. I 6 Аристотель показывает, что роды «четвероногих
живо- и яйцеродящих животных» этим требованиям не отвечают.
Приступая к «классифицированию», Аристотель неоднократно заговаривает об «анонимности» некоторых родов и видов. Дело в том, что некоторые разграничиваемые им объеди-
88
нения животных в его время не имели наименования, т.е. были
«анонимными». Так, при разделении бескровных животных он
называет «черепокожих», поясняя, что их называют «раковинами», а далее он называет «мягкоскорлупных», замечая, что
для них нет единого имени, а включает этот род в себя лангустов, крабов и раков (I 6, 490b9–14). Судя по всему, наименования «черепокожие», «мягкоскорлупные» даны самим Аристотелем (или кем-то из его современников) и соответствуют
тому, что сегодня называют систематическими наименованиями, а наименование «раковины» соответствует тому, что сегодня называют обиходными наименованиями. В таком случае
получится, что великий род «мягкоскорлупных» для Аристотеля и его читателей анонимен в том смысле, что у него не было общепринятого (или же обиходного) названия. Для Аристотеля важно различать наименования родов и видов и наименования различий: первое именует то, что подлежит разделению
или определению, второе – то, на основании чего происходит
это разделение или определение. В нашей предыдущей главе
«Аристотель об основаниях классификации» мы показали, что
к философским построениям Аристотеля приложима современная дистинкция «экстенсионала и интенсионала». В этом
смысле Аристотель всегда учитывает дистинкцию: имя вида
или рода (экстенсиональный аспект) и различие рода, присущее виду (интенсиональный аспект). И виды, и роды, согласно
Аристотелю, могут быть как поименованными, так и анонимными. Однако различия рода, присущие виду, вообще в качестве имен видов не рассматриваются. Аристотель говорит об
анонимности видов и родов в двух случаях: когда виды поименованы, а их род анонимен (I 6, 490b9–14), и когда анонимны сами виды (I 6, 490b15–19).
Об «остальных животных» (т.е. животных, для которых
нет великих родов) он пишет следующее: они все «с кровью»,
«четвероногие» и «бесперые», одни из них «живородящие», а
другие «яйцеродящие»; вместо перьев у них волосы или щитки (щитки сходны с чешуей); все животные с волосами – живородящие, но не все живородящие – с волосами; род змей
включает в себя животных «с кровью» «безногих» и со «щитками», гадюка – живородящая, остальные змеи – яйцеродящие;
иголки ежей и дикобразов надо полагать неким видом волос
(I 6, 490b19–30). Далее Аристотель пишет о «роде четвероно-
89
гих живородящих». Он указывает, что в этом роде много видов, но они анонимны; в то же время он пишет, что в этот род
входят львы, олени, лошади, собаки и т.п. (I 6, 490b31–34). Последних следовало бы рассматривать как «единичные виды».
Получается, что Аристотель в данном случае говорит о том,
что поименованные единичные виды объединяются во многие
анонимные «виды видов». Тут же он описывает один такой
«вид единичных видов», который с таким же успехом можно
назвать и «родом» (но не «великим»), что Аристотель и делает
(выше мы уже отметили соотносительный характер «родовидовых» отношений) (I 6, 490b34–491a3):
…Есть некий единый род только для так называемых «гривастых», например [для] лошади, осла, мула, гинна и так называемых «мулов» в Сирии…
Таким образом, согласно Аристотелю, род четвероногих
живородящих, как и род четвероногих яйцеродящих, не является «великим», потому что он объемлет анонимные «виды
видов» (кроме одного поименованного рода «гривастых»).
Если же «виды видов» поименованы, то сами великие
роды могут быть и анонимными. Так, Аристотель признает
великим родом мягкоскорлупных животных, хотя он и анонимен, но включает в себя поименованные роды, или же «виды
видов». Однако на деле все оказывается не столь однозначным. Согласно Hist. An. IV 2, 525a30–b11, великий род мягкоскорлупных животных включает в себя лангустов, раков, креветок, крабов и еще некий анонимный род «[мягкоскорлупных], малых как крабы, по виду же сходных с раками (525b9–
11)». При этом Аристотель называет следующие единичные
виды креветок: кифы, крагоны, микрокреветки – и единичные
виды крабов: майи, пагуры, гераклиотские крабы, речные крабы и иные анонимные виды крабов, а также крабы, называемые «конями». В то же время никаких видов лангустов и раков
он не называет. Получается, что лангусты и раки суть «простые виды», т.е. роды, состоящие из одного вида. Род же мягкоскорлупных признается великим, хотя он объемлет наряду с
поименованными «видами видов» (в данном случае двух) и
«простые виды», и один анонимный «вид видов». (А ведь род
четвероногих живородящих тоже включает в себя по крайней
мере один поименованный «вид видов» – «гривастых», но одного «вида видов», вероятно, недостаточно?)
90
Вообще, как мы уже отметили, Аристотель имеет в виду
три «таксона»: «великие» роды, роды как «виды видов» и единичные виды. Роды «четвероногих живо- и яйцеродящих» не
соответствуют ни одному из них. Что же это за «роды»? Пока
ограничимся следующим. В завершение второй части Hist. An.
I 6 Аристотель пишет, что в случае «четвероногих живо- и яйцеродящих» надо теоретически рассматривать (т.е. определять) сразу единичные виды (491a4–6). Получается, что в случае птиц, рыб и китообразных мы можем определять сами
«великие роды».
«Различия», которые называются Аристотелем в связи с
«четвероногими», позволяют нам свести в таблицу аристотелевские разделения животных с кровью. Отметим также следующее. С.С. Розова, имея в виду современную классификационную проблему, во-первых, пишет о «классификационном
дереве», прилагая к нему таблицу признаков, а во-вторых, различает классификацию как текст и классификацию как таблицу [183, с. 26–39]. У Аристотеля мы имеем дело с классификацией «как текстом», но мы представим ее «как таблицу» (см.
табл. 3.1).
Таблица 3.1
Различия:
четвероногие
двуногие
безногие
Животные с кровью
живородящие
яйцеродящие
львы, олени, лошади, ящерицы, крокодилы
собаки и т.п.
и т.п.
человек
птицы
китообразные
рыбы
Для бескровных животных в Hist. An. I 6 Аристотель не
называет «различий», которые входили бы в определения их
родов. Однажды он замечает, что бескровные животные или
безногие, или многоногие, а некоторые насекомые – летающие
(490b14–15). Однако этих «различий» недостаточно для определения «великих» родов бескровных животных. В предыдущей главе I 5 Аристотель разделил всех (спаривающихся) животных на живо-, яйце- и черверодящих. Черверодящие являются бескровными. Но и этого «различия» недостаточно для
определения «великих» родов бескровных животных. Это станет очевидным, если попытаться построить соответствующую
таблицу (см. табл. 3.2).
Из таблицы 3.2 видно, что различия – «яйце- и черверодящие», «многоногие и безногие» – не разделяют «великие»
91
роды мягкотелых и мягкоскорлупных, а единый «великий» род
насекомых, наоборот, разделяют на несколько разрядов.
Таблица 3.2
Различия:
многоногие
безногие
Бескровные животные
возникающие от спаривания
яйцеродящие
черверодящие
мягкотелые, мягнасекомые
коскорлупные
–
насекомые
возникающие
автоматически
Насекомые
Черепокожие
Различия, на основании которых Аристотель разделяет
бескровных животных, обнаруживаются в Hist. An. IV 1. Представим их также в виде таблицы (табл. 3.3).
Таблица 3.3
мягкие
снаружи,
твердые
внутри
мягкотелые
Бескровные животные
твердые снаружи, мягкие внутри
твердость,
твердость,
которая
которая
раздавливается,
ломается,
но не ломается
но не
раздавливается
мягкоскорлупные
черепокожие
твердые
снаружи и
внутри
насекомые
В § 3.1 при комментировании Hist. An. I 1 мы уже отметили, что Аристотель различает среди подобочастных частей
(гомеомерий) мягкие и твердые. Именно это различие
Аристотель и принимает для разделения бескровных животных. При этом он отмечает, что «различие» «мягкие снаружи,
твердые внутри» присуще и животным с кровью (Hist. An. IV
1, 523b1–5). Получается, что «различия», которые Аристотель
принимает для животных с кровью, отчасти распространяются
и на бескровных животных; «различия» же, которые он принимает для бескровных животных, отчасти распространяются
и на животных с кровью. Однако первые из этих «различий»
определяют «великие» роды животных с кровью, но не определяют роды бескровных, а вторые – наоборот. Если ранее мы
отметили, что роды «четвероногих живо- и яйцеродящих» не
соответствуют ни одному из трех «таксонов» Аристотеля
(«великие» роды, роды и виды, единичные виды), то сейчас то
же самое надо отметить и в связи с родами животных «с кровью» и животных «бескровных». Ведь эти «роды» должны были бы быть «более великими», чем «великие» роды. В то же
время, если род «четвероногих живородящих» не есть «великий» род, потому что объемлет анонимные «виды видов» (что
92
мы уже выяснили), то роды животных «с кровью» и животных
«бескровных» объемлют поименованные «великие» роды. Сами же роды животных «с кровью» и «бескровные» Аристотель
называет анонимными (Part. An. I 3, 642b15–16), т.е. наименования «с кровью» и «бескровные» суть наименования «различий», но не разрядов животных, получающихся на основании
этих «различий». Вновь возникает вопрос: что же это за разряды?
Комментарий к Hist. An. I 6, 491a7–26. Эта часть главы
начинается следующим фрагментом (491a7–14):
Таким образом, ныне [все] это сказано «в первом приближении»
(wJv ejn tu>pw|) ради предвосхищения того, каких и сколько [родов
и видов] надо теоретически рассмотреть; в последующем мы
скажем [все это] точно (di∆ ajkribei>av), когда прежде примем
присущие [родам и видам] различия и сопутствующее всем [родам и видам]. После же этого надо попытаться найти его [т.е. этого сопутствующего] причины. Ибо так естественно творится метод [т.е. путь познания], если присуща [т.е. есть] история, касающаяся каждого, из нее становится очевидным, о которых и из
которых должно быть доказательство.
В этом фрагменте мы вновь встречаемся с дистинкцией
«в первом приближении – точно», о которой у нас уже шла
речь при комментировании Hist. An. I 1. В проанализированной нами ранее главе Hist. An. I 1 говорилось о том, что сначала надо рассмотреть нечто, касающееся животных вообще
(рассмотрение «в первом приближении»), а затем рассмотреть
то же самое, но в связи с определенными родами и видами животных. Здесь же речь идет о том, что после выделения «в первом приближении» «великих» родов далее надо более внимательно посмотреть на то, что присуще этим родам и видам, а
именно отчетливо разграничить, что из присущего выступает в
качестве «различий», а что в качестве «сопутствующего».
«Различия» рода, согласно Аристотелю, присущи в сути.
Дистинкцию «присущего в сути и сопутствующего» мы рассмотрели во вступлении к разделу «Эссенциализм». Поэтому
сейчас лишь напомним, что «присущее в сути» (в том числе
«различия») есть то, что составляет сущность и входит в определение; а «само по себе сопутствующее» есть то, что присуще
необходимо, но не содержится в сущности и не входит в ее
определение. Применительно к «сопутствующему» правомерно задать вопрос: почему оно сопутствует? Именно об этом и
пишет Аристотель в комментируемом нами фрагменте: после
93
разграничения «различий» и «сопутствующего» «надо попытаться найти… причины [сопутствующего]». «История, касающаяся каждого [рода и вида]», о которой пишет Аристотель в
последнем предложении фрагмента, как мы уже отмечали в
предыдущей главе, означает «знание фактов, добытых путем
не учительской, а собственной активности» (с. 61). Далее в
этом же предложении «о которых» означает «о которых родах
и видах», а «из которых» означает «положения, которые войдут в доказывающий силлогизм в качестве посылок». Причинное объяснение, согласно Аристотелю, имеет форму доказывающего силлогизма, средний термин которого оказывается
причиной присущности одного крайнего термина силлогизма
другому.
При комментировании Hist. An. I 2–5 мы задали оставшийся тогда без ответа вопрос: разделение животных на живо-,
яйце- и черверодящих производится Аристотелем на основании образа жизни, праксисов, нравов или частей либо как-то
иначе? Там же мы отметили, что сам Аристотель отсылает читателя за дальнейшими пояснения по данному вопросу к
Gen. An. Последовав его совету, мы увидим, как происходит
«уточнение» родовидовых разделений после того, как эти разделения были проделаны в Hist. An. I 6 «в первом приближении». Аристотель «уточняет» эти разделения в Gen. An. II 1,
732b25–733b23. Но прежде чем показать, как он это делает,
полезно напомнить читателям некоторые положения биологии
Аристотеля, касающиеся «дыхания» и «легкого», так как
именно эти положения будут привлекаться Аристотелем для
решения интересующей нас проблемы.
Вообще Аристотель исходил из того, что с материальной
точки зрения все образуется из четырех «простых тел»: земли,
воды, воздуха и огня. В качестве начал этих «простых тел»
Аристотель принимал некую протоматерию (точнее «ощущаемую материю в возможности») и противности «теплого и холодного» и «влажного и сухого» (см. De Gen. et Corr. II 1–8).
Те же противности Аристотель рассматривает и в связи с биологическим миром, а именно, он понимает жизнь как преобладание «теплого и влажного», а смерть как преобладание «холодного и сухого». «Теплота», согласно Аристотелю, выступает в качестве «движущей силы» живого существа (Gen. An. II
1, 732a18–20). Поскольку живые организмы связаны с некой
94
«теплотой», возникает проблема «тепловой регуляции», в том
числе проблема «охлаждения» живых организмов.
Об этом Аристотель пишет, в частности, в работе «О дыхании» (Juv. 7–22). Он считал, что «охлаждение» у животных
бывает воздушным и водяным, при этом и то, и другое может
быть внутренним (вбирание воздуха или воды внутрь организма) и внешним (охлаждение организма посредством внешних воздуха или воды без вбирания их внутрь организма).
Наиболее «теплые» животные охлаждаются воздухом, посредством дыхания, а органом охлаждения выступает легкое. Менее «теплые» животные охлаждаются водой посредством вбирания ее внутрь, а органом этого вбирания выступают жабры
(животные с жабрами, согласно Аристотелю, не дышат).
Наименее «теплые» животные не имеют ни легкого, ни жабр и
не вбирают в себя ни воздуха, ни воды, а охлаждаются внешней средой, будь то воздушная или водная. Легкие, по
Аристотелю, бывают двух видов: или полнокровные и мягкие,
или малокровные (либо даже бескровные) и твердые. Часто
Аристотель различает их как легкое «с кровью» и «губчатое»
(хотя следовало бы отметить, что, согласно ему же, всякое
легкое «губчатое»). Отметим также, что, согласно Аристотелю, при воздушном охлаждении животные вдыхают в себя не
воздух, а пневму. Но мы не будем в данном случае поднимать
вопрос о различии воздуха (ajh>r) и пневмы (pneu~ma).
А теперь обратимся к комментированию Gen. An. II 1,
732b25–733b23, где Аристотель ищет причины живо-, яйце- и
черверождения. В связи с живорождением он рассуждает в
этом фрагменте следующим образом: совершенное возникает
от совершенного; животное совершенно, яйцо и червь несовершенны; причина живорождения – более совершенная природа и причастность более чистому началу (более совершенна
та природа, которая теплее, влажнее и менее землиста; более
чистое начало – пневма). Отметим, что Аристотель в данном
случае продолжает говорить о дополнительныхе разделениях
животных, которые ранее мы не учитывали. Во-первых, наряду с живо- и яйцеродящими он рассматривает теперь животных, которые в себе вынашивают яйца, а наружу производят
уже живых детенышей. К таковым он относит гадюку и род
селахий. О гадюке, которую имеет в виду Аристотель,
В.П. Карпов пишет следующее:
95
В Греции водится гадюка песчаная (Vipera ammodytes), которая
прямо рождает живых детенышей; гадюка обыкновенная (V.
berus) откладывает яйца, из которых сейчас же выходят развитые
змейки [77, с. 203, прим. 120].
«Селахиями» на греческом языке, и соответственно у
Аристотеля, называются животные с жабрами, безногие, но
живородящие (Hist. An. III 1, 511a5–6). Имеется в виду вынашивание яиц внутри организма и порождение наружу уже живых детенышей. Согласно современной номенклатуре, речь
идет о «хрящевых» рыбах в отличие от «костистых». Первые
отличаются от вторых, в частности, тем, что у них нет чешуи,
поэтому Аристотель часто называет «костистых» рыб «чешуйчатыми», чтобы различать их с «селахиями». Во-вторых,
Аристотель, хотя и считает яйцо несовершенным по сравнению с живым детенышем, среди самих яиц различает совершенные и несовершенные: совершенные яйца после их порождения наружу больше не растут, а несовершенные продолжают расти после порождения наружу.
Итак, содержание фрагмента Gen. An. II 1, 732b25–733b23
позволяет подытожить аристотелевское разделение животных
по способу репродукции, построив соответствующую таблицу
(табл. 3.4).
Здесь надо отметить, что сам Аристотель делит в данном
случае животных, возникающих от спаривания, на животных с
кровью и бескровных. Разделение животных на животных с
мясными или мясоподобными «тканями» и без мясоподобных
«тканей» мы добавили сами. Дело в том, что по непонятным
для нас причинам Аристотель в данном случае относит к
бескровным животным только насекомых, а мягкоскорлупные
и мягкотелые животные оказываются среди животных с
кровью, хотя он везде рассматривает мягкотелых и мягкоскорлупных животных в качестве бескровных. Введение различия между животными с мясными и мясоподобными «тканями» (т.е. гомеомериями) и животными без них позволяет
снять это «недоразумение».
Аристотель рассматривает здесь способы репродукции
не как «различия», присущие животным в сути, а как «сопутствующее» им, и ищет и находит причины для живо- и яйцерождения. Разряды животных, образовавшиеся в связи с рассмотрением сопутствующих им способов репродукции, не со-
96
ответствуют естественным родам. Так, в одном разряде оказались человек и китообразные, птицы и змеи.
Таблица 3.4
влажнее
суше
Животные, возникающие от спаривания
животные с кровью
бескровные
(или же животные с мясными
животные
или мясоподобными «тканями»)
(или же животные без
мясоподобных
«тканей»)
самые
теплее
холоднее
холодные
I. живородят:
II. вынашивают яйца V. черверодят:
львы, лошади и
в себе и живородят
насекомые
т. п.;
наружу:
человек;
селахии;
китообразные
гадюка
III. порождают
IV. порождают
совершенные
несовершенные
яйца:
яйца:
ящерицы и т.п.; чешуйчатые рыбы;
птицы;
мягкоскорлупные;
змеи (кроме
мягкотелые
гадюки)
Но если разделение животных по способу репродукции
не выступает в качестве родовидового, то имеет ли оно какоелибо отношение к «уточнению» родовидового разделения?
Ключ к выявлению дальнейшей направленности мысли Аристотеля дают нам следующие его слова в том же фрагменте
Gen. An. II 1, 732b25–733b23, а именно в строках 732b32–733a1:
…Межой же для естественной теплоты [оказывается] легкое, [а
именно то], которое с кровью; ибо вообще [животные], имеющие
легкое, теплее не имеющих [его], а из них [т.е. из имеющих, теплее те, у которых легкое] с кровью и мягкое, а не губчатое, твердое и малокровное.
Получается, что при «уточнении» родовидовых разделений животных Аристотель принимает в качестве «различия»
именно органы «охлаждения» (вместо способов репродукции,
которые он рассматривал как «различия» при разделениях животных «в первом приближении», и которые признал в конечном итоге «сопутствующим», а не «различием»). О том, что
именно «легкое» входит в сущность животных, Аристотель в
явном виде пишет в Juv. 19 (12), 477a23–25 и Part. An. III 6,
97
669b11–13. Так, в первом из этих фрагментов читаем (477a23–
25):
Так что само [легкое] надо полагать причиной сущности и этого
[т.е. человека], и иных [животных], как [и] кое-какие иные части.
Обратим внимание: Аристотель говорит здесь о «причине сущности», а не причине «сопутствующего», т.е. он говорит о «присущем в сути». «Кое-какие иные части», упомянутые в данном фрагменте, – это те части, которые Аристотель
наряду с легким принимает в качестве «причины сущности»,
т.е. «кровь» и «ноги». Итак, получаем «уточненное» разделение животных, представленное в табл. 3.5 (при составлении
этой таблицы мы ограничились только животными с кровью).
Таблица 3.5
Различия:
четвероногие
двуногие
безногие
Животные с кровью
легкое с кровью
губчатое
легкое
львы, олени,
ящерицы,
лошади и т. п. лягушки и т.п.
человек
птицы
китообразные
змеи
(в том числе
гадюка)
жабры
тритон
–
чешуйчатые
рыбы,
селахии
Если мы сравним табл. 3.5 с табл. 3.1, то увидим, в чем
заключается «уточнение», произведенное Аристотелем. Если
бы мы попытались внести в табл. 3.1 гадюку и селахий, то нам
пришлось бы поместить их как «живородящих безногих» в
один разряд с китообразными. В табл. 3.5 селахии, как и подобает, оказываются в одном разряде с чешуйчатыми рыбами,
т.е. в «великом» роде рыб; змеи же образуют отдельный разряд, и вместе с ними оказывается гадюка (опять же, как и подобает). Согласно табл. 3.5 отдельным «простым видом» (т.е.
видом, не входящим в какой-либо «великий» род) оказываются тритоны, которые имеют жабры, но делают «вылазки
за добычей» на сушу, в связи с чем имеют ноги.
Итак, в конечном итоге все родовидовые разделения животных производятся Аристотелем на основании частей: наличия крови, органа «охлаждения» и ног (как органов перемещения). А теперь давайте вернемся к комментированию Hist.
An. I 6, 491a7–26. В последующем за только что прокомментированным нами фрагменте Hist. An. I 6 Аристотель пишет
именно то, к чему мы только что пришли (491a14–19):
98
Сначала надо принять части животных, из которых они образуются. Ибо целые [животные] больше всего и прежде всего различаются на основании их: или благодаря их обладанию и не обладанию, или благодаря их положению и порядку, или на основании прежде названных различий (по виду, превышению, аналогии, противности состояний).
О том, что животные разделяются на виды именно по
своим частям, Аристотель говорит также в «Политике» IV,
1290b25–38. Таким образом, в основании аристотелевского родовидового «классифицирования» животных оказывается сравнительная анатомия. Однако метод аристотелевской сравнительной анатомии отличается от метода современной сравнительной анатомии, поэтому прямых параллелей между ними
проводить не следует [139, с. 27–28].
Итоговый комментарий к Hist. An. I 6. У нас остался
без ответа вопрос, сформулированный при комментировании
Hist. An. I 6, 490b19–491a6: если Аристотель имеет в виду три
«таксона» («великие» роды, роды как «виды видов» и единичные виды), а роды «четвероногих живо- и яйцеродящих» не
соответствуют ни одному из них, то что это за «роды»? Ответ
на этот вопрос мы дадим вместе с решением апории, которую
применительно к современной классификационной проблеме
С.С. Розова формулирует следующим образом:
Что это [имеется в виду «основание классификации». – Е.О.]: основание объективной дифференциации природных явлений, или
основание человеческой классообразующей деятельности, или то
и другое одновременно? –
т.е. является ли разделение рода по различиям открытием объективного положения дел или лишь логической операцией
(призванной «“порождать” классы объектов создаваемой классификации»)? [183, с. 22].
Протагор в свое время полагал, что человек – мера всех
вещей. Его мнение можно было бы истолковать в свете проблемы, сформулированной С.С. Розовой, как довод в пользу
второго варианта решения этой проблемы: основание классификации есть «основание человеческой классообразующей
деятельности». Мы рассмотрели аристотелевское рассуждение
по поводу тезиса Протагора в § 8.2 «Философского языка
Аристотеля» [168, с. 288]. Поэтому сейчас лишь напомним,
что, согласно Аристотелю, эпистема и чувственное восприя-
99
тие человека скорее измеряются внешне заданной мерой, чем
измеряют ее.
В главе «Аристотель об основаниях классификации» мы
уже анализировали вопрос о том, какие, согласно Аристотелю,
эмпирические деления и каким образом предшествуют в познании (классифицировании) разделению родов на виды по
различиям, а также проблему «осмысления феноменов» и тем
самым вопрос о месте и роли феноменов и эйдосов в определении видов. Рассмотренные нами главы Hist. An. I 1–6 позволяют нам вернуться к этому вопросу еще раз с учетом реального аристотелевского познания в области зоологии.
Аристотель исходит из того, что виды животных, эйдосы
которых надлежит постичь, заданы нашему уму извне. Проблема состоит в том, как нам эти эйдосы постичь. В Hist. An. I
1–6, приступая к «классифицированию» животных, Аристотель прежде всего «в первом приближении» рассматривает
самые разные «различия», а также «виды рода», которым эти
«различия» могли бы быть присущи в сути. Некоторые виды
животных, считает Аристотель, входят в «великие роды», некоторые не входят (оставаясь «простыми видами»). При этом
одни роды Аристотель принимает как эмпирически выделенные, признает их «великими» и не подвергает сомнению их
существование. Другие роды, которые в контексте нашего обсуждения можно было бы назвать «классами», он фактически
«порождает» посредством «различий», говоря при этом, что
таких «великих родов» нет. Именно к таким «логически порожденным классам» животных мы и отнесли бы как живо- и
яйцеродящих четвероногих животных, так и животных с кровью
и бескровных.
В главе «Аристотель об основаниях классификации»
(§ 2.2) мы показали, что в качестве гносеологического подхода
Аристотеля к определению видов можно рассматривать его
различение поиска бытия и сути (или же причины), т.е. поиска ответов на вопросы «есть ли нечто (или же что есть)» и
«что есть (или же почему есть)». Речь шла о дистинкции: eij
e]sti (или же to< o[ti, «то хóти») – to< ti> ejsti (или же to< dio>ti,
«то диóти»). Для Аристотеля признать существование «великого рода» – значит утвердительно ответить на вопрос, есть
ли этот род, а чтобы дать утвердительный ответ, требуется соответствующее эмпирически полученное обобщение, имя ко-
100
торого указывало бы на «экстенсионал». Это эмпирическое
обобщение может быть и анонимным. Один же «интенсионал»
без «экстенсионала» в качестве рода Аристотель не признает.
«Животное живородящее четвероногое» остается лишь «интенсионалом». То есть, согласно Аристотелю, мы, не зная
«есть ли», можем знать лишь «что», но не «что есть». Для
того чтобы различие рода стало определением вида (или же
«вида видов», или рода), требуется эмпирически обнаруженный вид (или род). В случае наличия «великих родов» мы можем принимать определения самих «великих родов»; в случае
отсутствия «великого рода» для того или иного вида нам
надлежит принять определение сразу для этого вида. В определение вида входят род и его различия. Если «великого рода»
для вида нет, то в качестве рода в его определение входит
«животное вообще», а в качестве различий наряду собственно
с видовыми различиями войдут и те, которыми мы «породили
класс».
Если мы приняли исчерпывающий ряд «великих родов»
и «логически порожденных классов» животных, а также присущие им «различия», следует ли из этого, что мы познали эйдосы? При ответе на данный вопрос надо помнить об аристотелевской дистинкции рассмотрения видов и родов «в первом
приближении» и «более точно». Какие бы «различия рода» и
соответствующие им «виды рода» мы ни приняли, гарантии,
что мы тем самым «точно» познали эйдосы, нет. Ибо всегда
возможно (а иногда просто необходимо) дальнейшее «уточнение». «Уточнения» же могут не только «уточнять» логос видов, но и изменять само разделение животных на роды и виды.
Теперь мы можем определиться с аристотелевским решением проблемы, сформулированной С.С. Розовой. Основания классификации (т.е. различия рода), согласно Аристотелю,
призваны не столько «“порождать” классы объектов создаваемой классификации», сколько открывать объективное положение дел. Разделение родов на виды на основании различий выходит у Аристотеля за рамки собственно логики (логического
деления понятия). У Аристотеля это скорее эмпирический поиск с участием «ума», который «осмысляет феномены» посредством метакатегорий и усматривает «различия». Установленные родовидовые отношения оказываются в таком случае
продуктом взаимодействия «опыта» и «ума». Если иметь в ви-
101
ду две альтернативы, присутствующие в проблеме С.С. Розовой, то кратко ее решение могло бы быть следующим: согласно Аристотелю, основание классификации есть «то и другое
одновременно».
В аналитической философии отчасти сходный с аристотелевским подход предложили сторонники «новой теории референции» (которую также называют «теорией твердых десигнаторов»). Так, А.В. Хлебалин пишет:
…Согласно концепции терминов естественных видов как твердых десигнаторов, сущность объектов, составляющих экстенсионал терминов естественных видов, открывается наукой, а не выводится аналитическим способом из дефиниции термина и выражается при помощи необходимо истинных синтетических утверждений [195, с. 26].
Согласно этому подходу, утверждение, «что золото –
вещество с атомным номером 79, является эмпирическим открытием» [195, с. 25].
3.3. Аристотелевские разделения животных
на «водных, сухопутных и “воздушных”»
А теперь давайте обратимся к разделению животных «на
водных, сухопутных и “воздушных”». Аристотель прежде всего разделяет животных на водных и сухопутных: «в первом
приближении» в Hist. An. I 1, 487a14–487b32, а «более точно» –
в VIII 2, 589a10–590a18.
«В первом приближении» Аристотель рассуждает так:
водными мы называем тех животных, которые питаются в воде и вбирают в себя воду, и тех, которые питаются в воде, но
вбирают в себя воздух (т.е. дышат). Позднее при «более точном» рассмотрении он установит, что животные «вбирают в
себя воду» по двум причинам: или с помощью жабр для охлаждения, или для питания (когда корм принимается вместе с
водой). Но пока это различие им не учитывается. Выделяет
Аристотель и еще одну группу животных: тех, которые не
вбирают в себя ни воздух, ни воду. Среди таковых он называет
и водных (акалефа, устрица), и сухопутных (насекомые) животных. Некоторые животные, отмечает Аристотель, на разных стадиях онтогенеза, бывают то водными, то сухопутными.
Результат аристотелевского разделения «в первом приближении» водных и сухопутных животных можно свести в табли-
102
цу – это табл. 3.6. Чтобы не усложнять ее, мы не учитываем в
ней разряды животных, которые не вбирают в себя ни воздуха,
ни воды и которые бывают то водными, то сухопутными на
разных стадиях онтогенеза.
Таблица 3.6
сухопутные
амфибии: и сухопутные, и
(cersai~a),
водные
водные
или же пешие
(peza>)
питаются
питаются в воде
на суше
вбирают воздух
вбирают воду
пелетапешие
летабезно- ходяплавающие
шие
ющие
ющие
гие
чие
чело- птицы
бобр,
айтюйя,
уж
крарыбы, мягвек
кроко- поганбы
котелые,
дил
ка
мягкоскорлупные
Как видно из табл. 3.6, разделение животных на водных
и сухопутных меняется в зависимости от того, какое значение
мы придаем соответствующим терминам. Если к водным животным относить тех, которые не только вбирают в себя воду,
но и питаются в воде, то в разряд водных попадут и амфибии,
а если относить к ним только вбирающих в себя воду, то амфибии окажутся среди сухопутных животных. Отметим, что
при разделении животных на водных и сухопутных «в первом
приближении» Аристотель не ставит вопрос о месте в этом
разделении китообразных.
При «более точном» разделении Аристотель также исходит из двойственности различия животных на водных и пеших: по способу охлаждения (водяное или воздушное) и по
месту питания (в воде или на суше). При этом он вновь сталкивается с проблемой амфибий. Разница с предыдущим разделением состоит только в том, что здесь уже учитывается способ «охлаждения» животных. Для дальнейшего «уточнения»
Аристотель ставит вопрос о дельфинах и прочих китообразных. Дело в том, что эти животные вбирают в себя и воду, и
воздух. Аристотель устанавливает, что воздухом они дышат, а
воду вбирают ради питания, т.е. принимают в себя корм вместе с водой (которую затем выпускают через специальную
трубку). Вводит он и третий вариант разделения животных на
водные и сухопутные – в зависимости от «смешения тела
103
(kra~siv) и образа жизни», как выражается сам Аристотель (в
589b22–23, а также в 590a13–18). Ибо, по его мнению, место
обитания животного зависит от его питания, а питание – от
материи, которая входит в состав того или иного вида животного еще в эмбриональный период (590a8–12). Третий вариант
разделения вводится ради одного тритона, который живет в
воде и охлаждается водой, но пищу добывает на суше. Об этом
у нас уже шла речь при рассмотрении аристотелевского «уточнения» родовидового разделения животных (см. табл. 3.5). Результат «уточненного» разделения животных на водных и сухопутных можно представить в виде табл. 3.7 (в данном случае мы учитываем только животных с кровью).
Таблица 3.7
сухопутные,
ибо питаются на суше
водные, ибо
питаются в
воде
Животные с кровью
сухопутные, ибо
водные, ибо вбирают воду
вбирают воздух
для питания
для охлаждения
человек,
четвероногие жи–
тритон
вородящие,
четвероногие яйцеродящие,
птицы
четвероногие живородящие,
китообразные
рыбы
четвероногие яйцеродящие,
птицы,
китообразные
В конечном итоге Аристотель относит животных к водным по трем основаниям: 1) вбирающие в себя воду (будь то
для «охлаждения» или питания); 2) из-за «смешения тела и образа жизни» (касается только тритона); 3) питающиеся в воде
(590a13–18). В предложенной таблице учитываются только
первое и третье основания, второе – для тритона – мы опустили. Получается, что к водным животным он относит рыб, китообразных, часть четвероногих живо- и яйцеродящих, а также
часть птиц. В § 3.2 мы рассмотрели аристотелевское родовидовое разделение животных с кровью «в первом приближении» (см. табл. 3.1) и «более точное» (см. табл. 3.5). Разделение животных, представленное в табл. 3.7, корректнее сравнивать с табл. 3.1, а не табл. 3.5. Ибо табл. 3.5 построена на мате-
104
риалах трактата «О возникновении животных», а не на материалах «Истории животных». Таблица же 3.7, как и табл. 3.1,
построена на материалах «Истории животных». Хотя сравнение ее с табл. 3.5 тоже допустимо. Если мы сравним табл. 3.7 с
табл. 3.1 (или табл. 3.5), то разница между родовидовым разделением животных и их разделением на водные и сухопутные
станет очевидной. Это разные разделения.
Разница заключается в том, что родовидовое разделение
животных и их разделение на водных и сухопутных (и далее
сухопутных на пеших и летающих) по-разному группируют
животных. Разделение животных на водные и сухопутные не
соответствует их разделению на «великие роды» и соответствующие по уровню «классы» (имеются в виду «классы» четвероногих живо- и яйцеродящих). Только человек и рыбы целиком входят в то или иное разделение. Остальные «великие
роды» и «классы» частично попадают в одно разделение, частично – в другое. Можно с уверенностью сказать, что
Аристотель при родовидовых разделениях животных не учитывает разделение животных на водных, сухопутных и «воздушных». Прежде чем определиться с тем, что же это за разделение, полезно хотя бы кратко остановиться на остальных
разделениях животных, которые Аристотель рассматривает в
Hist. An.
3.4. Как соотносятся разделения животных
по частям, образу жизни,
праксисам и нравам
с родовидовым разделением
Разделения животных по частям, образу жизни,
праксисам и нравам в связи с каждым родом и видом.
Б.А. Старостин предложил следующее тематическое разделение «Истории животных» Аристотеля:
Трактат может быть условно разбит на три части, в каждой из которых его предмет рассматривается под особым углом зрения. К первой части следует отнести анатомо-физиологические
книги первую–четвертую, где рассматривается деление организма на ткани и органы; ко второй – книги пятую–седьмую, посвященные эмбриологии и онтогенезу. Третья часть – книги восьмая–девятая (десятая стоит особняком …) – этология и экология
[189, с. 36].
105
С точки зрения современного читателя такой подход, вероятно, имеет право на существование. Однако, как мы выяснили при комментировании Hist. An. I 1, Аристотель, согласно
первоначальному замыслу, собирался рассмотреть различия
животных по частям, образу жизни, праксисам и нравам сначала «в первом приближении», а затем «более точно» в связи с
каждым родом и видом. Если исходить из этого замысла, то в
предложенное тематическое разделение можно было бы внести некоторые уточнения.
Так, Дж.Э.Р. Ллойд предлагает следующую разбивку Hist. An.
на тематические разделы: I 1–6 – предварительный общий очерк
(the preliminary sketch), I 7 – IV 7 – различия животных по частям, V–VIII – различия животных по образу жизни и праксисам, IX – различия животных по нравам. X книгу Дж.Э.Р. Ллойд
в этом ряду не учитывает, считая, как и Б.А. Старостин, что
она стоит в трактате особняком. Он также отмечает, что «в
каждой из этих главных секций есть отступления, не согласующиеся с этой упрощенной схемой» [56, с. 155]. От себя добавим, что в «предварительном общем очерке» речь идет о рассмотрении различий животных и введении их родов «в первом
приближении», а в последующих секциях – о «более точном»
рассмотрении различий животных в связи с каждым родом и
видом. Далее мы дадим краткий комментарий к каждому из
выделенных разделов.
В Hist. An. I 7 – IV 7 Аристотель «более точно» рассматривает различия по частям в связи с каждым родом и видом. В
этих главах, судя по всему, предлагается «классификация» уже
не животных («целых животных», как выражается сам Аристотель), а именно их частей. В «Метафизике» Аристотель называет части животных среди «очевиднейших» и «общепринятых» сущностей (животные, растения, небо и их части)23. У
читателя может возникнуть вопрос: так что же, собственно,
является сущностью – целое животное или его части? Аристотель, полагая, что «невозможно сущности быть из внутренне присущих действительных (энтелехиальных) сущностей»
(Met. VII 13,1039a3–4), уточняет, что части животных суть
сущности лишь в возможности (Met. VII 16, 1040b5–10). Однако это не мешает ему рассматривать в биологических сочинениях части животных как сущности. В Met. подход, при кото23
Met.VII 2, 1028b8–13; VIII 1, 1042a6–12.
106
ром рассматриваются «очевиднейшие» и «общепринятые»
сущности, представлен в главах VII 17 и VIII 1–6.
Прежде чем обратиться к последующим книгам «Истории животных», полезно определиться с тем, как соотносятся
между собой аристотелевские «различия» животных по образу
жизни, праксисам и нравам. Полезную информацию по этому
вопросу мы можем найти в главах Hist. An. I 1 и VIII 1.
В Hist. An. I 1, как мы уж отмечали, Аристотель сначала
пишет о различиях по образу жизни, праксисам и нравам вместе, и в этом случае он имеет в виду разделение животных на
сухопутных и водных. Затем он говорит о различиях по образу
жизни и праксисам, и наконец – о различиях по нравам.
В VIII 1 Аристотель отмечает, что «праксисы и образы
жизни различаются в связи с (kata>) нравами и пищей»
(588a17–18; заметим, что греческий текст позволяет сделать и
такой перевод: «праксисы, т.е. образы жизни…»), после чего
использует выражение «праксисы образа жизни» (taou pra>xeiv) (588b23–24). Сначала он называет «творение
другого», т.е. репродукцию, и для растений, и для животных,
«делом» (e]rgon) (588b24–27), а затем «праксисом» (588b27–
28). Далее Аристотель пишет, что образы жизни животных
«различаются и касательно совокупления и касательно
порождения и выкармливания потомства» (588b28–30). Наконец он заключает (589a2–5):
Одну часть жизни (zwh~v) [составляют] их праксисы, касающиеся
деторождения, другую – касающиеся пищи.
В качестве «общего знаменателя» для всех этих суждений и замечаний можно принять следующее: в центре внимания Аристотеля – образ жизни животных (oJ bi>ov); по его мнению, образ жизни животного слагается из совокупности свойственных ему праксисов («праксисы образа жизни»).
В.П. Зубов перевел в 588b28–30 oiJ bi>oi (образы жизни)
как «жизненная деятельность» [137, с. 42]. Б.А. Старостин по
этому поводу замечает, что В.П. Зубов перевел «несколько
вольно, но быть может правильно» [190, с. 486]. Аристотель
использует связку «образ жизни и праксисы» для обозначения
именно жизнедеятельности животных, которая, в свою очередь, связана с питанием и размножением и зависит от нравов
животных. Поэтому в конечном итоге в Hist. An. V–IX Аристотель ведет речь о различиях животных по образу жизни и
107
праксисам, связанным, во-первых, с репродукцией, во-вторых,
с питанием и, в-третьих, с нравами.
Дж.Э.Р. Ллойд справедливо указывает, что различия животных по нравам Аристотель рассматривает в Hist. An. IX, и
мы не будем далее комментировать эту книгу. А вот комментарий к V–VIII книгам желателен, поскольку Дж.Э.Р. Ллойд
лишь указывает, что в них рассматриваются различия животных по образу жизни и праксисам. Согласно уже сделанному
нами уточнению, речь в этих книгах должна идти о различиях
жизнедеятельности животных, связанных с репродукцией и
питанием.
Аристотель «более точно» рассматривает различия животных по образу жизни и праксисам, связанным с питанием, в
Hist. An. VIII. Однако содержание VIII книги имеет некоторые
«осложнения». Глава VIII 1 служит своего рода введением для
книг Hist. An. VIII–IX. В первой части главы VIII 2, а именно
во фрагменте 589a10–590a18, Аристотель проводит «более
точное» разделение животных на водных и сухопутных, которое мы уже рассмотрели в § 3.3. И только начиная со строки
VIII 2, 590a18 рассматриваются различия, связанные с питанием. В явном виде это изложение продолжается до VIII 11,
596b18, а в оставшихся главах книги Аристотель анализирует
влияние на жизнедеятельность животных мест обитания и сезонных климатических изменений. Рассматриваются также
заболевания животных как в связи с сезонными климатическими изменениями, так и безотносительно к ним.
В Hist. An. V–VII, согласно самому Аристотелю, речь
идет о «возникновении животных» (peri< de< tw~n gene>sewn
aujtw~n) (V 1, 538b28–539a2). Однако о чем реально говорится в
Hist. V–VII? Если для начала ограничиться книгами V–VI, то
можно с уверенностью сказать, что речь в этих книгах идет
главным образом о времени и способах спаривания животных,
об особенностях поведения животных в период вынашивания
потомства и заботы о нем в первое время, а также о некоторых
смежных вопросах. За пределами V–VII книг, а именно в VIII
книге, как мы выше отметили, Аристотель называет праксисы
животных, касающиеся «совокупления… порождения и выкармливания потомства». Главное содержание V–VI книг дает
основание отнести их к рассмотрению именно таких праксисов.
108
Некоторые вопросы возникают по поводу VII книги.
Б.А. Старостин пишет [189, с. 12]:
В книге седьмой речь идет о размножении человека, в этом смысле она вполне уместна после пятой и шестой, но выпадает из контекста в связи с чисто медицинским подходом в изложении материала.
В связи с этим комментарием Б.А. Старостина хотелось
бы отметить следующее. Вообще, с нашей точки зрения, «медицинский подход» не чужд «Истории животных». Ибо весь
трактат так или иначе пронизан интересом рыболова и рыбовода, охотника и животновода, ветеринара и врача (не в последнюю очередь – акушера и гинеколога). Более того, даже
рассмотрение частей животных, которому посвящена изрядная
часть сочинения, имеет вполне определенное отношение к медицине. Аристотель, рассмотрев внешние части человека
(Hist. An. I 7–15) и приступая к изучению внутренних, пишет,
что внешние части человека нам наиболее известны, а внутренние
среди [частей] человека наиболее нам не ведомы, так что их надо
рассматривать, сводя к частям иных животных, которые имеют
одинаковую природу (I 16, 494b19–24).
Аристотель не практиковал вскрытие человеческих тел
(судя по всему, в его время это было или запрещено, или еще
не принято), а поэтому он и предлагает исследовать анатомию
и физиологию человека по аналогии с анатомией и физиологией животных. За интересом к анатомии и физиологии человека
стоит интерес врача.
Чем отличается VII книга от V и VI? Тем, что Аристотель, обращаясь к рассмотрению «возникновения человека»,
не рассматривает способы совокупления мужчин и женщин и
особенности отношений мужа и жены во время беременности
жены, т.е. не рассматривает те праксисы, которые он рассматривал применительно к животным (и которые могли бы представить интерес для охотника и животновода). В связи с «возникновением человека» Аристотель уделяет внимание другим
вопросам: признакам половой зрелости юношей и девушек,
признакам зачатия, протеканию беременности, родам и т.д. В
то же время, если все содержание трактата «История животных» сводить к рассмотрению заявленных Аристотелем различий, то можно сказать, что в VII книге он делает некое «от-
109
ступление». И это не единственное «отступление», к таковому
можно отнести и главы IV 8–11.
С нашей точки зрения, различия животных по частям и
тем более по образу жизни, праксисам и нравам, т.е. элементы
систематизации, присутствующие в Hist. An., являются для
Аристотеля не самоцелью, а средством и условием рассмотрения интересующих его вопросов из жизни животных и человека, средством систематизации этого рассмотрения.
Как соотносятся разделения животных по частям,
образу жизни, праксисам и нравам с родовидовым разделением. Современные специалисты по классификационной
проблеме различают классификации естественные и искусственные. Согласно «Логическому словарю» Н.И. Кондакова:
Естественная классификация – классификация, в основе которой
находится существенный признак, определяемый природой изучаемых предметов и явлений, их «естеством», в отличие от искусственной классификации , в основе которой лежит признак, имеющий значение с практической точки зрения для целей
производимого исследования [141, с. 151].
Далее в этой же словарной статье читаем:
Это разграничение (между естественными и искусственными
классификациями. – Е.О.) часто очень трудно провести. Известно, что вещи проявляют свои свойства в отношениях с другими
вещами. То, что было существенно для данных предметов в одних отношениях и в отношениях с одними вещами, то окажется
несущественным в других условиях и в отношениях с другими
вещами [141, с. 151].
С.С. Розова, в свою очередь, отмечает:
Проблема естественной классификации имеет целый ряд аспектов… Один из них – проблема существования объективной таксономической расчлененности природы и возможности ее познания… Второй состоит в признании за естественной
классификацией особых функций. Эмпирически выявлено, что
одни классификации в отличие от других ложатся в основу многосторонних исследований изучаемых объектов, не претерпевая
при этом каких-либо существенных перестроек при переходе от
исследования одной стороны к исследованию другой… Мы можем признать «естественными» те классификации, которые обладают двумя отмеченными особенностями: устойчивостью и информативностью [183, с. 202–203].
Мы считаем, что есть основания рассматривать аристотелевское родовидовое разделение животных на основании
различий по частям, представленное в Hist. An. I 6 и IV 1, как
110
«естественную классификацию» животных, а разделения животных по различиям их жизнедеятельности, описанные в
Hist. An. V–IX, как «искусственные классификации». Ибо в
основе первого разделения лежат различия, присущие в сути
(«существенный признак»), а в основе вторых, говоря словами
Н.И. Кондакова, «лежит признак, имеющий значение с практической точки зрения для целей производимого исследования», а именно, с «практической точки зрения» рыболова и
рыбовода, охотника и животновода, ветеринара и врача.
Разницу между естественными и искусственными классификациями при истолковании аристотелевских «классификаций» животных учитывал Ю.Б. Мейер (1855) [59]. Д. Болм
пишет, что согласно Ю.Б. Мейеру, Аристотель выступил против «искусственной» классификации и вместо нее стремился
построить «естественную»; при этом Ю.Б. Мейер считал, что
Аристотель связывал «искусственную» классификацию с разделениями по различиям, а естественную – с индуктивными
группировками [28, с. 80]. Получается, что Аристотель отказался от «классификаций» посредством разделения родов по
различиям и перешел к индуктивным группировкам. Такое истолкование представляется нам спорным. Во-первых, мы считаем, что Аристотель, различая два способа «классифицирования», не отказался ни от одного из них. Во-вторых, как мы показали в главе «Аристотель об основаниях классификации»,
процесс построения «естественной классификации» у него
включает в себя и «индуктивные группировки», и разделения
родов по различиям.
Как относится родовидовое разделение животных («естественная классификация») к их разделениям по различиям
жизнедеятельности («искусственным классификациям»)? Родовидовое разделение животных позволяет Аристотелю при
рассмотрении жизнедеятельности животных в каждом случае
проделывать в определенном смысле «полную индукцию».
Обратимся еще раз к аристотелевским разделениям животных
на водных и сухопутных. При таком разделении «в первом
приближении» Аристотель ограничивается только отдельными
примерами каждого разряда, причем в качестве примеров приводит случайные единичные виды: бобра, поганку, ужа, крабов (хотя в одном ряду с единичными видами «некритически»
оказываются и некоторые великие роды: птицы, мягкотелые,
111
мягкоскорлупные) (см. табл. 3.6). При «более точном» разделении Аристотель, уже имея исчерпывающий ряд «великих
родов» (и соответствующих им по уровню «классов»), «видов
видов» и «простых видов», рассматривает интересующие его
различия в связи с каждым «великим родом» (см. табл. 3.7).
Поскольку разряды, возникающие при «искусственных» разделениях, не совпадают по логическому объему с естественными родами, он имеет возможность ввести в рассмотрение
«виды видов», «единичные виды», при необходимости и «простые виды», а некоторые различия признать внутривидовыми.
При этом родовидовое разделение животных ложится, говоря
словами С.С. Розовой, «в основу многосторонних исследований изучаемых объектов, не претерпевая при этом каких-либо
существенных перестроек при переходе от исследования одной стороны к исследованию другой».
Особый вопрос возникает в связи с аристотелевской
«классификацией» частей животных (Hist. An. I 7 – IV 7). Является ли эта «классификация» естественной или искусственной? Поскольку части животных – тоже сущности, это «классификация» сущностей, следовательно, «естественная». Поскольку эта «классификация», как и «искусственные классификации», в качестве своей основы имеет родовидовое разделение животных, она в определенном смысле «вторична».
Следует ли из этого, что и она «искусственная»? Этот вопрос
мы оставим открытым.
* *
*
Итак, положение, согласно которому систематизация в
«Истории животных» «основана на морфологических, физиологических (особенности воспроизведения) и экологических
(деление животных на водные, сухопутные, “воздушные”)
признаках…», можно было бы уточнить следующим образом.
Аристотель «систематизирует» животных в этом сочинении
посредством системы «классификаций», среди которых имеется как «естественная (родовидовая) классификация», так и ряд
«искусственных классификаций», построенных на основании
«естественной». Если дополнить материалы «Истории животных» материалами трактата «О возникновении животных», то
можно определенно утверждать, что родовидовое «классифицирование» он совершает на основании частей животных (см.
112
табл. 3.3 и табл. 3.5), а разделение животных по особенностям
воспроизведения (см. табл. 3.4) и разделение животных на
водных и сухопутных (см. табл. 3.7) и далее на пеших и летающих следует отнести к искусственным классификациям. Если ограничиться только материалами «Истории животных», то
надо иметь в виду, что родовидовая «классификация» представлена в этом трактате только «в первом приближении». На
этом этапе «классифицирования» Аристотель наряду с «различиями» по частям (наличие крови и ног) «некритически»
включает в определение великих родов и соответствующих их
уровню «классов» «сопутствующее» (особенности воспроизводства) (см. табл. 3.1). Эта «неточность» снимается в трактате
«О возникновении животных». А разделение животных на
водные, сухопутные и «воздушные» не входит в родовидовую
«классификацию» уже в «Истории животных».
113
4. АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ
КРИТИКА ДИХОТОМИИ:
комментарии
к An. Post. II 13, Met. VII 12 и Part. An. I 2–3
В двух предыдущих главах мы рассмотрели, как Аристотель разделяет роды на виды на основании различий. Это разделение представляет собой в определенном смысле результат
аристотелевских поисков в данном направлении. А как он
пришел к этому результату? В предлаемой главе мы рассмотрим движение Аристотеля к этому результату.
По-гречески разделение называют hJ diai>resiv. Платоновский метод разделения родов во вторичной литературе так
и называют – диайресис (или диэреза). Образцы таких разделений мы можем найти в его диалогах «Софист» и «Политик».
Так, сам Платон, устами Чужеземца (героя обоих диалогов),
описывает процедуру таких определений следующим образом
(Soph. 264d10–265a2):
Попробуем-ка, снова разделяя надвое (sci>zontev dich~|) находящийся перед нами род, каждый раз держаться в пути правой части, имея в виду то, что относится к софисту, пока мы, пройдя
мимо всего общего [между ним и другими видами] и оставив ему
его собственную природу, не выставим ее напоказ прежде всего
нам самим, а потом и тем, кто от природы близок такому методу
исследования (пер. С.А. Ананьина) [175].
Поскольку платоновский диайресис предполагает последовательное разделение на два, его называют также дихотомией. Главный вопрос, стоящий перед нами: как Аристотель
относится к платоновскому диайресису, или же дихотомии?
Ю.А. Шичалин пишет [199, с. LXIII]:
Метод диэрезы [т.е. диайресиса. – Е.О.], развитый в «Софисте» и
«Политике», показывает, насколько Платон озабочен поиском
верифицируемого метода. Но Аристотель в «Аналитике I» (I 31,
46a–46b) мимоходом разделывается с методом диэрезы: «…деление есть как бы бессильный силлогизм, ибо то, что должно
быть доказано, оно постулирует, и при этом всегда выводится
114
что-то более общее [чем то, что должно быть доказано]. Но как
раз это и было прежде всего упущено из виду теми, кто пользуется делением, и они пытались убеждать, будто делением можно
давать доказательство о сущности и сути вещи…» (цит. Аристотеля в пер. Б.А. Фохта [80]).
Действительно, Аристотель в An. Pr. I 31 приводит аргументацию в пользу того, что определения через диайресис не
являются ни доказывающими силлогизмами, ни силлогизмами
вообще. Однако из этого не следует, что он «мимоходом разделывается с методом диэрезы». Из этого лишь видно, что
диайресис – не силлогизм, т.е. посредством диайресиса нельзя
умозаключать ни к сопутствующему, ни к своему, будь то
определяющему или свойству. Но проблема определения остается, и диайресис как метод недоказывающего определения
остается. В An. Post. II 3–10 Аристотель показывает, что суть
бытия (т.е. определение) вообще никак нельзя доказать; определения принимаются без доказательства. И далее, в An. Post.
II 13, он в положительном ключе подает диайресис платоновского типа как метод определения. Напомним, что присущее в
сути принимается, согласно Аристотелю, как необходимое
(An. Post. I 4, 73a34–73b24 – мы прокомментировали этот фрагмент в [168, с. 203–211]). Но необходимость эта не выводная
(силлогистическая), а лишь принятая нами (мы показали разницу между двумя вариантами необходимости у Аристотеля в
[168, с. 237–241]).
А далее начинается самое интересное. Если в An. Post.
II 13 Аристотель подает диайресис платоновского типа в положительном ключе, то в Met. VII 12 он подвергает его критике, но лишь частичной критике, т.е. вносит в него уточнение.
А вот в Part. An. I 2–3 он подвергает дихотомию, или же диайресис платоновского типа, радикальной критике. Но даже эта
радикальная критика не означает полного отвержения диайресиса как метода. Она означает, что Аристотель показывает
ограниченность этого метода и наряду с ним предлагает иной
метод разделения родов на виды на основании различий, тот
самый метод, который мы находим в Hist. An. Такой метод на
языке современной науки можно было бы с некоторой степенью условности назвать «классификацией по нескольким основаниям» (например см. табл. 3.5).
Для нас представлет наибольший интерес аристотелевская критика дихотомии в Part. An. I 2–3. Однако для «полно-
115
ты картины» мы подробно рассмотрим все упомянутые главы – An. Post. II 13, Met. VII 12 и, наконец, Part. An. I 2–3, чтобы было ясно и понятно, что, где и почему говорит Аристотель.
4.1. Аристотель и диайресис:
Об определениях. An. Post. II 13
Сначала мы приведем текст перевода An. Post. II 13 целиком, а затем последовательно прокомментируем все его части. Мы сразу разбили текст главы на подразделы и дали им
свои названия. Эта глава содержательно распадается на три
самостоятелные части:
I. О неком способе определения на примере определения
«тройки».
II. Об определении посредством разделений на основании
различий.
III. О сократовской индукции при определениях.
Положительное изложение диайресиса платоновского
типа содержится во II части, а в I части подается метод
определений на основании той самой «классификации по
нескольким основаниям», который Аристотель представляет в
Part. An. I 2–3 и применяет в Hist. An.
4.1.1. Перевод An. Post. II 13
96a20–23: Итак, прежде было сказано, как суть дана в терминах
[силлогизма], и каким способом есть или нет ее доказательство
или определение; ныне же давайте скажем, как нам надо изловить
(qhreu>ein) категориально высказываемое в сути.
I. О неком способе определения
на примере определения «тройки»
О том, что присуще более многочисленному, но не вне рода
96a24–25: Среди всегда присущего каждому что-то распространяется на более многочисленное, однако не [распространяется]
вне рода.
96a25–27: Я называю «присущим более многочисленному» то,
что, будучи кафолически присущим каждому, [присуще] и иному.
96a27–32: Например, есть что-то, что присуще всякой тройке, но
и не тройке, как [например] «сущее» присуще тройке, но и не
числу; а «нечетность» присуща всякой тройке и присуща более
многочисленному (ибо присуща и пятерке), но не [распространяется] вне рода; ибо пятерка – число, а вне числа ничто не нечетно.
116
0пределение «сущности»
96a32–35: Такое [т.е. распространяющееся на более многочисленное, но не вне рода] надо принимать до тех пор, пока не приняли
бы в первый раз столько, что каждое из них будет присуще более
многочисленному, а все [вместе] – не более многочисленному;
ибо это с необходимостью – сущность вещи.
Пример – определение «сущности» тройки
96a35–37: Например, каждой тройке присуще «число», «нечетное» и «первое», [причем последнее] двояко: и в том [смысле, что
она] не измеряется числом, и в том [смысле, что она] не слагается
из чисел.
96a37–38: Итак, это уже есть тройка: число нечетное первое, причем таким [т.е. указанным в последнем случае] образом первое.
Обоснование (или построение) определения «тройки»
96a38–96b1: Ибо каждое из них [присуще более многочисленному, но не вне рода]: одни присущи всему нечетному [т.е. «число»
и «нечетное»], конечное же [из включенного в определение, т.е.
«первое», присуще] и двойке, но все [вместе] ничему [другому,
кроме тройки].
96b1–5: Так как выше мы пояснили, что категориально высказываемое в сути необходимо (кафолическое же необходимо), а то,
чтó принимается для тройки и для иного таким [же способом],
принимается в сути, то тройка с необходимостью была бы этими
[т.е. различиями, включенными в определение «тройки»].
96b6: А что это сущность, ясно вот из чего.
96b6–8: Ибо если суть бытия тройкой не это, то необходимо, чтобы это было бы неким родом, поименованным или анонимным.
96b8: Поэтому [оно] будет [простираться] на большее и не [будет] присущим [только] тройке.
96b8–10: Ибо пусть будет предположено, что род есть [нечто] такое, что в возможности присуще более многочисленному.
96b10–14: Поэтому, если это не присуще ничему иному, кроме
атомарных троек, то это было бы бытием тройкой (ибо пусть будет предположено и то, что сущность, будучи сущностью каждого, есть [именно] такое крайнее категориальное высказывание об
атомарных); так что сходно и любое иное из так показанных
будет бытием самим [собой].
Надо сначала поделить род на виды,
а уже затем определять виды
96b15–21: Надо же, когда кто-то занимается чем-то целым, поделить род на первое атомарное по виду, например число на тройку
и двойку; а затем пытаться принять их определения, например
прямой линии и круга, прямого угла; после этого, приняв какой-
117
нибудь род (например что из двух: [род] количеств или качеств),
теоретически рассмотреть свои состояния, исходя из общих первых [состояний].
96b21–25: Ибо сопутствующее синтезированным из атомарных
прояснится из определений, потому что определение есть начало
всего и простое, а сопутствующее само по себе присуще только
простому, иным же на основании оного [т.е. простого].
II. Об определении посредством разделений
на основании различий
О пользе разделений по различиям (диайресиса)
96b25–27: А для [тех, кто] так поступает, полезны разделения на
основании различий; как при этом они показывают, было сказано
раньше.
96b27–28: Так что полезны были бы только для умозаключения
сути.
96b28–30: Хотя могло бы [сложиться] мнение, [что от разделений
нет] никакой [пользы], а [надо] сразу принять все, как если бы
кто-то изначально принял [все] без разделения.
Первая польза:
96b30–32: Однако, есть разница, чтó в категориально высказываемом высказать первым, а чтό последующим, например, сказать
[ли] животное домашнее двуногое или двуногое животное домашнее.
96b32–35: Ибо если всякое [определение] из двух есть, и «домашнее животное» – что-то единое, и при этом «человек» или
что-либо единое возникает из этого [т.е. домашнего животного] и
«различия», то [определения] необходимо постулировать посредством разделения.
Вторая польза:
96b35–36: Далее, только так можно ничего не пропустить [из
присущего] в сути.
96b36–97a1: Ибо когда бы был принят первый род, и принималось бы какое-нибудь из нижестоящих разделений, то не все попадает под него [т.е. под принятое нижестоящее разделение],
например, не всякое животное или цельнокрылое, или с расщепленным оперением, а [только] всякое летающее животное; ибо
это различие [касается только] их.
97a1–2: Первое же различие животного есть то, под которое попадает всякое животное.
97a2–4: Сходно же и для каждого из иных, [будь оно] вне родов
или подчинено им, например, [первое различие] птиц – то, под
которое попадает всякая птица, и рыб – то, под которое попадает
всякая рыба.
118
97a4–6: Итак, идти таким образом – [значит] ведать, что ничто не
пропущено; иначе же с необходимостью [что-то] пропускаем, не
ведая [этого].
Третья польза (полемика со Спевсиппом):
97a6–7: Никто, определяя и разделяя, не должен ведать все сущие
[вещи].
97a7–11: Хотя некоторые говорят, что невозможно ведать различия, относящиеся к каждому, не ведая каждое; а без различий
каждого нет вéдения каждого, ибо с чем [что-то] не различается –
то же с тем, с чем же различается – другое для того.
Первый довод против Спевсиппа:
97a11–14: Во-первых, это ложно, ибо другое [по виду имеется] на
основании не всякого различия; ибо многие различия присущи
тому же по виду, но ни на основании сущности, ни сами по себе.
Второй довод против Спевсиппа:
97a14–18: Во-вторых, если бы кто-то принял противоположное
(tajntikei>mena), т.е. различие, и что все попадает сюда или сюда,
и принял бы, что искомое – в одном из них, и это [искомое] познал бы, – тогда нет разницы – ведать или не ведать о скольких
иных категориально высказываются эти различия.
97a18–19: Ибо очевидно, что если кто-то, идя таким образом,
пришел бы к тому, для чего уже нет различий, то имел бы логос
сущности.
97a19–22: То, что все попадает под это разделение, если бы было
противоположное, для которого нет промежуточного, не постулат; ибо необходимо всему быть в одной из двух [частей этого
разделения], если есть различие оного [рода].
Три правила разделения (диайресиса)
97a23–26: Для построения определения через разделения надо
иметь в виду три [правила]:
[1] приняты категориально высказываемые в сути;
[2] [среди них] упорядочено первое и второе, и
[3] что они все.
Пояснение к первому правилу:
97a26–28: Первое из них [выполнимо] благодаря возможности
построить [определение] через род, как для сопутствующего умозаключить, что присуще.
Пояснение ко второму правилу:
97a28–29: Порядок будет как надо, если бы первое было принято
[как надо].
97a29–30: А это будет, если принять то, что всему следует, ему
же все не [следует], ибо необходимо быть чему-то такому.
119
97a31–34: Приняв же это, тем же способом сразу [двигаться]
вниз, ибо второе будет первым среди остального, а третье – [первым] среди смежного; ибо если отнять [ajfaireqe>ntov] выше
[стоящее], то смежное [с ним] будет первым среди остального.
97a34: Сходно же и для иных.
Пояснение к третьему правилу:
97a35–39: А «что они все», очевидно из того, что принимается
первое по разделению, что всякое животное или вот это, или вот
то, присуще же вот это; опять же [принимается] различие этого
целого, а для конечного нет уже различия; т.е. сразу после этого
конечного различия соцелое (tou~ suno>lou) не различается по
виду далее этого.
97b1–3: Ибо ясно, что ни более многочисленное не прибавляется
(ибо все это принято в сути), ни ничто не упускается, ибо [упущенными] были бы или род, или различие.
97b3–6: В самом деле, первое – род, и он принимается вместе с
различиями, различия же все имеются, ибо далее последующих
нет; ибо [иначе] конечное различалось бы по виду, а было сказано, что оно не различается.
III. О сократовской индукции при определениях
Способ выделения определяемого
97b7–10: Искать же надо, обращая внимание на сходные и безразличные [вещи], прежде всего на что-то то же, имеющееся у
всех [их]; затем, в свою очередь, [обращая внимание] на другие
[вещи], которые в том же роде с оными [т.е. первыми]; они те
же по виду, но для оных [т.е. первых] – другие [по виду].
97b10–13: Когда же и для них было бы принято что-то то же для
всех, и для иных сходно, для принятых [т.е. для первых, других и
иных] опять же [надо] смотреть, [есть] ли [для них] то же, пока
бы не пришел к единому логосу; ибо он-то и будет определением
вещи.
97b13–15: Если же дошел бы не до единого [логоса], а до двух
или более, то ясно, что искомое было бы чем-то не единым, а более многочисленным.
Пример – определение «великодушия»
97b15–25: Например, если бы мы искали, что есть «великодушие», надо посмотреть, а у великодушных людей, которые нам
вéдомы, чтó имеется единое у них у всех, поскольку они таковы
[т.е. великодушны]. Например, если великодушен Алкивиад или
Ахиллес и Аякс, что у них у всех едино? Они не переносят
оскорблений: ибо один начал [из-за этого] войну, другой разгневался, третий убил себя. Опять же, у других, например, Лисандра
или Сократа. Если же они безразличны к удаче и неудаче, то
приняв оба [логоса], я обращаю внимание на то, что они имеют ту
120
же апатию к Случаям [т. е. к удаче] и нетерпимость к бесчестию.
Если же [они] ничего [того же не имели бы], то было бы два вида
великодушия.
Всякое определение кафолично
97b25–31: Всякое определение всегда кафолично, ибо врач говорит о здоровье не какого-либо глаза, а [о здоровье] или всякого
[глаза], или определенного по виду.
О ясности определений
97b28–37: Но легче определяется единичное, чем кафолическое,
поэтому надо переходить от единичного к кафолическому; ибо
омонимы скорее останутся незамеченными в связи с кафолическим, чем единичным. Как доказательствам должно быть присуще силлогизирование [т. е. «умозаключение», или же вывод. –
Е.О.], так определениям [должна быть присуща] ясность. А будет
она [т.е. ясность], если бы каждое принятое в каждом роде определялось отдельно, например, [определяя] «сходное», [берут] не
все, а [сходное] по цвету и схеме [т.е. очертанию], [определяя]
«острое», [берут острое] по звуку; и так идти к общему, не принимая омонимов.
Метафор в определениях не должно быть
97b37–39: Если же в [диалектическом] рассуждении не должно
[быть] метафор, ясно, что [не надо] ни определять посредством
метафор, ни определять то, что сказывается посредством метафор; ибо [иначе] с необходимью будут рассуждать посредством
метафор.
4.1.2. О неком способе определения
на примере определения «тройки»:
комментарий к An. Post. II 13, 96a20–96b25
Эта глава начинается периодом (96a20–23):
Итак, прежде было сказано, как суть дана в терминах [силлогизма] и каким способом есть или нет ее доказательство или определение; ныне же давайте скажем, как нам надо изловить (qhreu>ein) категориально высказываемое в сути.
В этом периоде Аристотель, во-первых, подытоживает
обсуждение вопросов, которые поднимались в главах An.
Post. II 1–12. Отчасти мы рассмотрели эту проблематику в
[168, с. 276–279]. Речь идет об определении сопутствующего
самого по себе. Определением сопутствующего самого по себе
оказывается причина его сопутствования. Эту причину нельзя
доказать, но ее можно показать с помощью доказывающего
121
силлогизма, ибо причина присущности большего крайнего
термина меньшему указывается средним термином.
Во-вторых, Аристотель ставит в этом периоде главный
вопрос, на который призвана ответить глава An. Post. II 13,
96а22–23:
…Как нам изловить категориально высказываемое в сути?
В стилистике вопроса присутствуют охотничьи «мотивы», перенятые Аристотелем от Платона. «Категориально высказываемое в сути» на языке Аристотеля противопоставляется «сопутствующему» чему-либо: «категориально высказываемое в сути» включается в определение, а «сопутствующее»
нет. Речь теперь идет об определении не сопутствующего, а
чего-то самого по себе.
Приступая к чтению I раздела главы, обратим внимание
на то, чтό Аристотель включает в определение тройки: «число», «нечетное», «первое». «Число» – род, «нечетное» – само
по себе состояние числа (о самих по себе состояниях см. [168,
с. 189–191]).
А что означает в этом ряду «первое»? Аристотель поясняет, что «первое» двояко: первое число есть то, которое не
измеряется числом, и первое число есть то, которое не слагается из чисел (96а36–37). Одно из этих определений «первого»
дает и Евклид, а именно:
Первое число есть измеряемое только единицей (Euclid, vii,
HOR 12) [136, т. 2, с. 10].
Аристотель не признает «единицу» за число; он начинает
числа с «двойки». В явном виде он пишет об этом в
Met. XIV 1, 1088a4–8. Т. Хит отмечает, что в этом вопросе
Аристотель следовал за ранними пифагорейцами [48, с. 84].
Поэтому выражения «не измеряется числом» (у Аристотеля) и
«измеряется только единицей» (у Евклида) можно рассматривать как тождественные. Д.Д. Мордухай-Болтовской, имея в
виду евклидовское определение «первого числа», поясняет:
«…Теперь принято говорить “простое число”» [136, т. 2, с. 10].
В этом смысле «первыми» (или же «простыми», как говорят
сегодня) числами были бы 2, 3, 5, 7 и т.д. Однако, как мы отметили, Аристотель называет и другой смысл «первого»: число, которое не слагается из чисел. В этом смысле «первыми»
числами были бы только 2 и 3. Судя по всему, именно в этом
смысле употребляется «первое» в определении «тройки». Если
122
мы посмотрим на определения, которые дает Аристотель
«первому» числу: первое число есть число, которое не измеряется числом, и первое число есть число, которое не слагается
из чисел, – то увидим, что эти определения соответствуют
определениям состояний, ибо в определение «первого» входит
то, чему оно само присуще, т.е. число. Получается, что Аристотель принимает в определении тройки в качестве различий
ее сами по себе состояния: нечетное и первое.
Вообще, казалось бы, определение должно включать в
себя род и различия, а не состояния. Да, основной способ
определения, согласно Аристотелю, – определение через род и
различия. Но основной способ определения не является для
него единственным. Как выше было отмечено, сопутствующее
само по себе определяется иначе, а именно через причину присущности. Особая проблематика при определениях возникает
в связи с состояниями. Мы посвятили анализу «состояний»
§ 5.3 в «Философском языке Аристотеля» [168, с. 182–199].
Во-первых, согласно Аристотелю, при определениях состояний нельзя принимать в качестве рода то, чему состояние присуще; но то, чему состояние присуще, может ставиться в определении на место различия [168, с. 187–188]. Аристотелевский
пример: ветер – движение воздуха. В этом определении «воздух» – то, чему присуще состояние (ветер). Во-вторых, состояния не могут выступать в качестве видообразующих различий
для того, что связано с материей, но могут выступать в качестве таковых для отвлеченностей (абстракций) математических и онтологических [168, с. 191]. Итого получается четыре
варианта определения и особый случай, связанный с метакатегориями:
1) через род и различия;
2) через причину сопутствования (при определениях сопутствующего самого по себе);
3) через род и то, чему состояние присуще (при определении состояний);
4) через род и сами по себе состояния вместо различий (при
определении математических предметов).
Выступают ли в математике определения через род и сами по себе состояния единственно возможными, или же допустимы и определения через род и различия? Ответ на этот вопрос требует дополнительных исследований, и пока мы воз-
123
держимся от окончательного ответа. В данном случае для нас
важно лишь то, что в An. Post. II 13 Аристотель рассматривает
определение числа через род и сами по себе состояния.
Особо обстоит дело с метакатегориями: то же и иное, то
же и другое, различие, противность, то же и другое по виду и
т.д. В книге «Философский язык Аристотеля» мы посвятили
этому вопросу § 5.2.1, § 5.3.4 и § 5.3.5 [168, с. 175–180, 192–
199]. На первый взгляд метакатегории «определяются» так же,
как и математические предметы. Но это только на первый
взгляд. Ибо в арифметике мы имеем дело с самими по себе состояниями числа, т.е. число для них род. А в первой философии мы имеем дело с самими по себе состояниями единого и
сущего, поскольку они единое и сущее. Сущее и единое, согласно Аристотелю, не есть род [168, с. 195–196]; у метакатегорий нет рода, и, следовательно, у них нет определений. Получается, что, согласно Аристотелю, указание рода при определениях необходимо, без рода нет определений. Если нельзя
говорить об определении метакатегорий, то как правильнее
говорить о сути метакатегорий у Аристотеля? Мы устаналиваем суть метакатегорий или усматриваем, или конституируем?
Пока мы не готовы сделать однозначный выбор.
С нашей точки зрения, способ определения, который
Аристотель рассматривает в I части главы, в главном соответствует тому, как сам Аристотель определяет виды животных в
«Истории животных» и других биологических трактатах, с той
разницей, что в биологии он определяет через род и различия,
а здесь – через род и сами по себе состояния. Мы уже рассмотрели биологические определения в предыдущей главе.
Поэтому сейчас мы имеем возможность учитывать при комментировании An. Post. II 13 не только определение «тройки»,
о котором Аристотель ведет речь в этой главе, но и его же
определения родов и видов животных, которые он дает в биологических работах.
Итак, этот способ определения сводится к следующему:
для определения чего-либо, например «тройки», нам надо
найти несколько самих по себе состояний (или же присущее
каждому), каждое из которых присуще более чем одному виду
рода, но за пределы рода не выходит (то есть не присуще ничему из того, что не входит в данный род), а в своей совокупности найденные состояния присущи только определяемому
124
виду. Присущее более чем одному виду, но не вне рода,
Аристотель называет «кафолически присущим» (uJpa>rcei …
kaqo>lou) (96a26), т.е. универсально присущим. Обратим внимание на следующий фрагмент (96a32–35):
Такое [т.е. универсально присущее] надо принимать до тех пор,
пока не приняли бы в первый раз столько, что каждое из них будет присуще более многочисленному, а все [вместе] – не более
многочисленному; ибо это с необходимостью – сущность вещи.
Перед нами определение «сущности», которого нет в
«Метафизике» Аристотеля. В то же время это определение
сущности выступает в качестве правила определения сущности, а именно двух правил: (1) принимать надо присущее универсально (т.е. присущее более чем одному виду рода, но не
вне рода); (2) универсально присущее надо принимать до тех
пор, пока в первый раз их совокупность не будет присуща
только определяемому виду. В соответствии с этим определением сущности Аристотель дает определение «тройки» (96a3538):
Например каждой тройке присуще «число», «нечетное» и «первое», [причем последнее] двояко: и в том [смысле, что она] не
измеряется числом, и в том [смысле, что она] не слагается из чисел. Итак, это уже есть тройка: число нечетное первое, причем
таким [т.е. указанным в последнем случае] образом первое.
А далее Аристотель предлагает некое обоснование (или
некий способ построения?) этого определения (96a38–96b14).
В контексте этого обоснования он, во-первых, показывает, что
«род» и «состояния», принятые в определении «тройки», отвечают установленному правилу, а именно «число», «нечетное»
и «первое» присущи не только «тройке», но за пределы рода
«чисел» не выходят (96a38–96b1). Со своей стороны, вспомним, как Аристотель определяет животных в биологических
трактатах. Обратимся к табл. 3.5. Согласно этой таблице «человек» определяется так: человек есть животное с кровью,
имеющее легкое с кровью, двуногое. Род «животное» и различия: «наличие крови», «наличие легкого с кровью», «двуногость» – присущи не только человеку, но за пределы рода
«животных» не распространяются. В связи с этим определением может возникнуть вопрос по поводу «двуногости»: только
ли животным она присуща? Отметим, что во всех иных случаях (т.е. за пределами рода животных) «двуногость» будет употребляться, фактически, в переносном смысле, т.е. метафори-
125
чески. В An. Post. II 13, 97b37–39 Аристотель подчеркивает,
что в определения не следует включать метафоры. Вообще,
согласно Аристотелю, метафоры подобают риторическим и
поэтическим речам, а не диалектическим (и философским).
Во-вторых, в контексте того же обоснования определения «тройки» Аристотель приводит довод в пользу того, что
принятые различия необходимы для «тройки» (96b1–5). Отметим, что У.Д. Росс в этот фрагмент внес изменение в свою редакцию оригинального текста «Второй аналитики». Вместо
ajnagkai~a, в словосочетании «категориально высказываемое в
сути необходимо (ajnagkai~a)», он поставил kaqo>lou. В
результате получилось так: «категориально высказываемое в
сути – кафолическое (кафолическое же необходимо)» [27, с. 657].
В русском переводе An. Post. Б.А. Фохта редакция У.Д. Росса
не учитывается, а вот З.Н. Микелазде в своем переводе последовал за У.Д. Россом [89]:
…То, чтo сказывается в сути, есть общее (а общее есть необходимое).
Англо-американские переводчики и комментаторы отнеслись к предложению У.Д. Росса более скептически. Дж. Барнс
в своем переводе предпочел прежнюю редакцию текста [17]:
…Whatever is predicated in what something is is necessary (and what
is universal is necessary).
У.Д. Росс истолковывает это аристотелевское рассуждение следующим образом:
Ранее мы показали, что элементы «сути» (in the ‘what’) вещи истинны для нее универсально и что универсальные атрибуты вещи
необходимы для нее; а атрибуты, принятые вышеуказанным способом, суть элементы «сути» (in the ‘what’); поэтому они необходимы для их субъектов [27, с. 654].
Слова Аристотеля «выше мы пояснили» отсылают нас,
судя по всему, к An. Post. I 4, 73a34–37, 73b25–28. С этим согласны У.Д. Росс [27, с. 657] и З.Н. Микеладзе [89, с. 644]. Мы
уже прокомментировали эти фрагменты в § 5.4 «Философского языка Аристотеля» [168, с. 205–211]. Аристотель в An. Post.
I 4, 73a34–37, имея в виду дистинкцию «само по себе – по совпадению», определяет «[присущее] само по себе» следующим
образом: само по себе присуще, в частности, то, что присуще в
сути. А далее в An. Post. I 4, 73b25–28 он пишет, что определения «[присущего] самого по себе» входят в определение «ка-
126
фолического», а «кафолическое» необходимо. Напомним, что
в §5.2.1 и § 5.4 «Философского языка Аристотеля» мы разделили у Аристотеля «общее» и «кафолическое», а «кафолическое» (в широком смысле слова) – на «первое кафолическое»,
«кафолическое» (в узком смысле слова) и «сáмое кафолическое» [168, с. 177–178, 199–211]. В An. Post. I 4 речь идет о
«кафолическом» в узком смысле слова. В этом смысле «кафолическое» означает «присуще кафолически». Таким образом в
An. Post. I 4 Аристотель предлагает следующую «цепочку»
суждений: присущее в сути присуще само по себе, присущее
само по себе присуще универсально (кафолически), присущее
универсально присуще с необходимостью. Из этой «цепочки»
следует, что присущее в сути – необходимо. Именно это следствие и имеет в виду Аристотель в анализируемом нами фрагменте An. Post. II 13, 96b1–5, напоминая мимоходом предшествующее этому следствию положение: кафолическое же необходимо.
В целом представленное в этом аристотелевском фрагменте рассуждение мы бы истолковали так: присущее в сути –
необходимо; присущее, принятое нами для тройки, мы
приняли в сути тройки; принятое нами присущее необходимо
для тройки. Никакой существенной разницы между предложенным истолкованием и истолкованием У.Д. Росса нет.
Просто мы показали, что нет необходимости вносить изменения в текст сохранившихся средневековых рукописей. Весь
вопрос в том, как Аристотель напоминает в данном фрагменте
«цепочку» суждений из An. Post. I 4: или он сразу указывает
следствие из этой «цепочки», напоминая предшествующее
следствию положение, или он указывает два положения без
следствия (как считает У.Д. Росс).
Если соотнести суждения, содержащиеся в анализируемом фрагменте, с «биологическим» определением человека, то
следует сказать, что, поскольку мы приняли различия «наличие крови», «наличие легкого с кровью», «двуногость» в сути
«человека» как животного (т.е. мы думаем, что они присущи в
сути, а не сопутствуют ему), эти различия необходимы для человека (т.е. мы думаем, что они необходимы) (о «думаем» см.
[168, с. 39–40]).
Обратим внимание на следующий факт. При комментировании фрагмента (96a32–35) мы отметили, что его содержа-
127
ние можно рассматривать как правила определения сущности,
а именно два правила: (1) принимать надо присущее универсально (т.е. присущее более чем одному виду рода, но не вне
рода); (2) универсально присущее надо принимать до тех пор,
пока в первый раз их совокупность не будет присуща только
определяемому виду. При «обосновании» определения «тройки» Аристотель сначала показывает, что 1-е правило выполнено, а далее он показывает, что принятое необходимо. Такого
правила (что надо принимать только необходимое) ранее он не
формулировал. Получается, что, в явном виде выдвигая два
правила, он имеет в виду «по умолчанию» и третье: принимать
надо необходимое. Опять же обратим внимание на то, что
Аристотель говорит об «универсальном» в связи с определением «тройки» в двух смыслах: универсально присуще то, что
присуще более чем одному виду рода, но за пределы рода не
выходит; универсально присуще то, что присуще в сути. Второе из них присуще с необходимостью. А первое может быть и
не-необходимым. Получается, чтобы выполнить второе (имеющееся в виду «по умолчанию») правило, надо принимать
универсально присущее в двух смыслах: и потому, что оно
присуще более чем одному виду рода, и потому, что оно присуще в сути.
В-третьих, в контексте того же обоснования (или построения) определения «тройки» Аристотель приводит доводы
в пользу того, что принятое определение есть определение
именно «сущности» тройки (96b6–14). Данный фрагмент в достаточной степени ясен сам по себе и поэтому не требует какого-либо специально комментария. Аристотель показывает
здесь, что принятое определение удовлетворяет последнему
правилу определения этим способом: универсально присущее
надо принимать до тех пор, пока в первый раз их совокупность
не будет присуща только определяемому виду. Однако в данном фрагменте это правило формулируется несколько иначе
(96b11–13):
ибо пусть будет предположено и то, что сущность, будучи сущностью каждого, есть [именно] такое крайнее категориальное высказывание об атомарных.
Выражение «крайнее категориальное высказывание об
атомарных» в данном случае относится не к какому-либо единому далее неразличимому (безразличному) различию, а к со-
128
вокупности универсально присущих состояний; т.е. именно
совокупность универсальных состояний оказывается «крайней», а не безразличное различие.
Итак, в связи со способом определения, представленным
в 1-й части An. Post. II 13 явно и неявно, Аристотель имеет в
виду три правила определения:
1) принимать надо присущее универсально (т.е. присущее более
чем одному виду рода, но не вне рода);
2) принимать надо присущее в сути, т.е. необходимое;
3) универсально присущее надо принимать до тех пор, пока в
первый раз их совокупность не будет присуща только определяемому виду (т.е. пока их совокупность не станет крайним категориальным высказыванием об атомарном).
Однако на этом правила определения не заканчиваются.
Ибо далее Аристотель пишет (96b15–21):
Надо же, когда кто-то занимается чем-то целым, поделить род на
первое атомарное по виду, например число на тройку и двойку; а
затем пытаться принять их определения, например прямой линии
и круга, прямого угла; после этого, приняв какой-нибудь род
(например что из двух: [род] количеств или качеств), теоретически рассмотреть свои состояния, исходя из общих первых [состояний].
Обратим внимание, прежде чем искать различия или сами по себе состояния, которые мы примем как присущие в
сути, нам надо сразу разделить род на виды. Т.е. надо сразу
иметь в виду вид, присущее в сути которому мы ищем, а не
делить род по различиям, ожидая, к чему приведет нас это
разделение. Это очень важный момент. В «Истории животных» Аристотель сначала «в первом приближении» рассматривает самые разные различия (см. § 3.1), затем разделяет животных «в первом приближении» на великие роды (§ 3.2), и
после этого уже начинает искать «более точные» различия для
каждого рода (внося при необходимости уточнения в само
родовидовое разделение). В 3-й главе мы пояснили, каким
образом Аристотель производит изначальное эмпирическое
разделение на роды и виды и как затем уточняет эти разделения на основании различий. Итак, учтем этот момент как
4-е правило определения:
4) прежде чем принимать присущее в сути, надо поделить род на
первое атомарное по виду.
129
Последний фрагмент I части An. Post. II 13, а именно
(96b21–25), остался не до конца понятым. Но так или иначе в
нем речь идет о том, что для изучения сопутствующего надо
сначала определить то, чему оно сопутствует. Отметим, что
это правило не обязательно, ибо Аристотель пишет в De An. I
1, 402b16–403a2:
Кажется, что не только суть полезно познать для [теоретического] созерцания причин сопутствующего сущностям (как в математике суть прямого и кривого, или суть линии и плоскости, чтобы увидеть, скольким прямым равны углы треугольника); но и
обратно: сопутствующее в значительной мере способствует вéдению сути.
Получается, что в некоторых случаях полезно сначала
познать суть сущности, а затем причину сопутствующего ей, в
некоторых же случаях, наоборот, сначала прояснить вопросы,
касающиеся сопутствущего, а затем обратиться к сути того,
чему оно сопутствует. Примечательно, что для математики он
указывает первый вариант. А ведь в I части An. Post. II 13
Аристотель вел речь именно о математике.
4.1.3. Об определении посредством разделений
на основании различий:
комментарий к An. Post. II 13, 96b25–97b6
Начальные слова этой части главы – «…Для тех, кто так
поступает» – судя по всему, означают: для тех, кто для изучения сопутствующего сначала определяет то, чему оно сопутствует.
Во второй части главы (96b25–97b6) Аристотель ведет
речь о другом способе разделения рода на виды и определения
видов. Он называет этот способ «разделениями (aiJ diaire>seiv) на основании различий». Как мы уже отметили, фактически он говорит в данной части о «диайресисе» платоновского типа.
Во-первых, Аристотель в связи с этим способом определения напоминает, что «разделения на основании различий»
не позволяют нам умозаключать к сути, т.е. обосновывать
определение посредством силлогизма, что некоторые из его
современников считали возможным (96b26–28). Он опроверга-
130
ет их мнение в An. Post. II 5 (а также в An. Pr. I 3124). Вовторых, если такие «разделения» не позволяют обосновать
«суть» (т.е. доказать истинность определения), то возникает
сомнение: а есть ли вообще какая-либо в них польза, и не
лучше ли «сразу (eujqu>v) принять» все различия (96b28–30).
Выражение «сразу (eujqu>v) принять» все различия, судя по
всему, относится к тому способу определения, который был
представлен в первой части An. Post. II 13. Поэтому два способа определения можно было бы так и называть: определение
посредством принятия всех различий сразу и определение посредством последовательного диайресиса на основании различий. В-третьих, польза от последовательных разделений все
же признается, а именно три пользы: диайресис позволяет
(1) различать первое и последующее среди категориально присущего в сути (96b35–97a6); (2) ничего не пропустить из категориально присущего в сути (96b35–97a6); (3) определять то
или иное сущее, не ведая все другие сущие (97a6–22).
Остановимся несколько подробнее на фрагменте 97a6–
22, в котором излагается третья польза от дихотомического
«диайресиса», а именно, что, мол, «диайресис» позволяет определять то или иное сущее, не ведая все другие сущие.
Комментаторы усматривают в этом фрагменте полемику Аристотеля со Спевсиппом и делают соответствующие выводы о
разнице их философских позиций [163, с. 285–286; 130, с. 96–
97]. Согласно An. Post. II 13, 97a6–22, позиция оппонента Аристотеля (Спевсиппа) состоит в следующем: то, что не различается, – то же, а что различается, – другое (97a10–11); «ведать каждое» – значит «ведать различие каждого» (97a9–10);
невозможно ведать различие, относящееся к чему-то, не ведая
всего того, с чем это «что-то» различается (97a7–9). Получается, что человек, что-либо определяющий и разделяющий,
должен ведать все сущие предметы.
Аристотель в этом фрагменте приводит два контрдовода:
(1) не всякое различие творит «другое по виду», есть различия,
присущие «тому же по виду» (97a11–14); (2) если принимать
противоположные различия так, что все попадает в одну из
двух частей этого противоположения, то для познания искомого достаточно принять, в какую часть оно попало; ведать же
24
Краткое истолкование этого опровержения в An. Pr. I 31 мы дали
в вводной части 4-й главы.
131
то, что попало в иную часть, – необязательно (97a14–18); если
последовательно разделять остающуюся часть по противоположным различиям и дойти до безразличного, то мы будем
иметь логос сущности, то есть определение (97a18–19); то, что
все попадает в одну из двух частей такого разделения, не
постулат (то есть не требование), а необходимость, если мы
разделяем род на основании именно «различий рода», а не
каких-либо иных различий (97a19–22). Поэтому человек, чтолибо определяющий и разделяющий, не должен ведать все
сущие предметы (97a6–7).
Далее Аристотель формулирует три правила правильного «диайресиса» (97a23–97b6). При диайресисе требуется:
1) принятие категориально высказываемого в сути (а не сопутствующего);
2) порядок в определении первого и второго;
3) принятие всех различий (т.е. нельзя пропускать промежуточные разделения).
Некоторые правила повторяют то, что писалось о пользе
диайресиса, но не все. Покажем соотношение «пользы» и
«правил» в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Соотношение правил и пользы при диайресисе
–
1-е правило (97a26–28)
1-я польза (96b30–35)
2-е правило (97a28–97a34)
2-я польза (96b35–97a6)
3-е правило (97a35–97b6)
3-я польза (97a6–22)
–
Далее мы прокомментируем приведенные правила диайресиса, учитывая и то, что говорилось о соответствующей
пользе диайресиса.
1-е правило диайресиса: принимать надо присущее в сути, а не сопутствующее. Возникает вопрос: а как нам исполнить это требование? Ведь главный вопрос всей главы II 13 так
и формулировался: как нам надо изловить категориально высказываемое в сути? А здесь получается, что принятие присущего в сути просто постулируется. В 97a26–28 Аристотель
дает кое-какое пояснение, а именно: если для сопутствующего
мы можем построить силлогизм, то для высказываемого в сути
нам надо принять прежде всего «род». Получается, что если
мы начинаем построение определения с принятия «рода»
определяемого, то первое требование выполняется.
132
2-е правило диайресиса: среди высказываемого в сути
надо соблюдать порядок, какое различие (в разделении и
определении) первое, какое второе и т. д. Например «домашнее животное двуногое» – правильный порядок, «двуногое домашнее животное» – неправильный порядок.
3-е правило диайресиса: надо принять все различия, т.е.
нельзя пропускать промежуточные разделения. Например,
«всякое летающее животное ← с цельными и расщепленными
крыльями» – правильное разделение; «всякое животное ← с
цельными и расщепленными крыльями» – неправильное разделение, поскольку не всякое животное имеет крылья. В § 3.1
(с. 83) мы уже пояснили: «цельнокрылыми» Аристотель называет летающих насекомых, крылышки которых он рассматривает по аналогии с перьями у птиц как единое «перо»; в этом
случае получается, что в крыльях птиц много перьев (расщепленное оперение), а у насекомых крылышки состоят только из
одно «пера» (цельнокрылые).
Примеры, которые приводит в данном случае Аристотель, имеют платоновское происхождение. Дихотомия «животных» на «домашних» и «диких» встречается в диалоге
«Софист» (222b2–c2), а дихотомия «домашних животных» на
«двуногих» и «многоногих» – в диалоге «Политик» (263e3–
264b5, 264b6–e2, 264e3–11, 266d11–267a3). В определении
«политика», которое порождает цепочка дихотомий в последнем диалоге (итог этой дихотомии представлен в 267а4–267с4),
присутствует ряд следующих различий: (домашнее) животное,
сухопутное, пешее, двуногое, бесперое. Г.Г. Майоров отмечает, что, по-видимому, именно это место из «Политика» стало
для Диогена-киника поводом посмеяться над Платоном:
Когда Платон, – сообщает нам другой Диоген (Лаэрций), – дал
определение, имевшее большой успех: «Человек есть животное о
двух ногах, лишенное перьев», Диоген ощипал петуха и принес к
нему в школу, объявив: «Вот платоновский человек!»
[155, с. 88].25.
Дихотомия животных на «водных» и «сухопутных», а
«сухопутных» на «летающих» и «пеших», необходимая, согласно An. Post. II 13, 96b35–97a6, для последующей дихотомии «летающих животных» на «цельнокрылых» и «с расщеп25
Г.Г. Майоров, упоминая «это место» из диалога «Политик», непосредственно указывает 266е и далее цитирует [131, VI, 40, 5–9].
133
ленным оперением», встречается в диалоге «Политик» (264b6–
e2, 264e3–11).
Эти же три правила диайресиса без каких-либо пояснений упоминаются ранее в An. Post. II 5, 91b28–32:
Итак, эти [недочеты] опускаются; их же можно преодолеть, если
принимать все в сути, а последовательность по порядку достигается посредством разделения, постулируя первое и ничего не
упуская. И это необходимо, если все попадает в разделение и ничего не пропускается, ибо должно уже быть атомарным (a]tomon).
Так, в данном фрагменте указываются правила: (1) все
надо принимать в сути; (2) надо принимать последовательность по порядку посредством диайресиса; (3) необходимо
принимать все и ничего не пропускать. Здесь, правда, есть дополнение к третьему правилу: «ибо должно уже быть атомарным», – чего нет в соответствующих фрагментах An. Post. II
13. Смысл этого дополнения, судя по всему в следующем:
надо принимать все, пока не дойдем до атомарного.
Таблица 4.2
Правила определения
посредством принятия
посредством диайресиса
всех различий сразу
1) принимать присущее в сути
1) принимать категориально высказываемого в сути
2) принимать присущее кафолически
–
2) соблюдать порядок в опреде–
лении первого и второго
3) принимать кафолически присущее до тех пор, пока в первый
–
раз их совокупность не будет
присуща только определяемому
виду (т.е. пока их совокупность
не станет крайним категориальным высказыванием об атомарном).
3) принимать все различия (т.е.
–
ничего не пропуская)
4) прежде чем принимать прису–
щее в сути, надо поделить род на
первое атомарное по виду
Отметим, что это правила определения посредством
диайресиса. Ибо при определении посредством принятия всех
различий сразу правила, как мы показали ранее, были не-
134
сколько иными. Составим сравнительную таблицу правил
определения (см. табл. 4.2).
1-е правило сохраняет свою силу для обоих способов
определения. 2-е правило для разных способов определения
оказывается разным. При принятии всех различий сразу о порядке различий речь не идет, зато подчеркивается, что различия должны быть кафолическими, т.е. присущими более чем
одному виду рода, но за пределы рода не выходить. Хотя тут
возникает вопрос, а о каком порядке идет речь? Если об упорядоченности рода и различия (сначала род, затем различия),
то это остается в силе и для определения посредством принятия сразу всех различий, а если об упорядоченности более
многочисленных различий, то это касается только определений посредством диайресиса. При диайресисе не требуется,
чтобы все различия были кафолическими (при диайресисе
крайнее различие, будучи присущим атомарному, будет безразличным, т.е. не-кафолическим); зато требуется соблюдение
порядка в принятии различий. Есть разница и между третьими
правилами: если для диайресиса говорится, что надо принять
все необходимые различия и ничего не пропустить, то для
определений посредством всех различий сразу требуется иное,
а именно надо принимать универсально присущие различия до
тех пор, пока их совокупность не будет в первый раз присуща
только данной сущности. Аналога 4-му правилу определений
сразу через все различия при диайресисе вообще нет. В одном
случае мы сначала делим род на виды, а потом подыскиваем
для них различия, в другом случае мы последовательно разделяем род в ожидании, к чему нас приведет это разделение.
Надо отметить, что аристотелевские доводы против Спевсиппа
работают только применительно ко второму варианту. Как к
Спевсиппу относится первый вариант определения, мы скажем
позднее при комментировании аристотелевской критики дихотомии в § 4.3.2.
4.1.4. О сократовской индукции
при определениях:
комментарий к An. Post. II 13, 97b7–39
Как мы уже отметили во вводной части данной главы, в
третьей части главы (97b7–37) речь идет не о каком-либо третьем способе определения, а о том, что определения должны
135
быть универсальными (кафолическими), т.е. определять надо
не «какой-то глаз», а «глаз вообще», не «какое-то частное проявление великодушия», а «великодушие вообще» и т. д. Эта
проблематика в равной степени касается и того способа определения, который имеется в виду в первой части An. Post. II 13,
и того, который имеется в виду во второй части. В качестве
примера Аристотель рассматривает в данном случае определение megalopsuhia, т.е. нравственной добродетели, греческое
название которой калькируется на русский язык как «великодушие». Древнегреческое (языческое) понимание «великодушия» существенно отличалось от того понимания «великодушия», которое распространилось в христианское время. Это
обстоятельство приводит к тому, что в переводе этого имени
на русский язык присутствует разнобой. Если Э.Л. Радлов (в
EN [102]) и Б.А. Фохт (в An. Post. [80]) переводят megalopsuhia
как «великодушие», то З.Н. Микеладзе (в An. Post. [89]) и
Т.А. Миллер (в MM [95]) дают перевод «благородство»,
Н.В. Брагинская (в EN [94]) – «величавость», М.А. Солопова (в
EE [113]) – «широта души», «величие души» (в английских
переводах встречаются варианты: Greatness of Soul, pride,
magnanimity). Более подробно Аристотель рассматривает «великодушие» (и определяет его) в «Никомаховой этике» (EN)
IViii.
В конце главы Аристотель отмечает, что в определениях
не должно быть метафор (97b37–39).
Проблематика, которую Аристотель рассматривает в
третьей части главы, а именно проблематика индуктивного
обобщения при определениях, восходит к Сократу; в частности к раннему платоновскому (сократическому) диалогу «Лахет». В диалоге «Лахет» речь идет об определении «мужества». Интересно отметить, что в диалоге «Лахет» в рассуждениях по поводу «мужества» в качестве «аналога» определяемого дважды упоминается «глаз» (и «зрение») (185c5–9,
189d14–190b2). Аристотель в An. Post. II 13, рассуждая по поводу «великодушия», также в качестве «аналога» определяемого упоминает «глаз» (97b25–28). Содержательно Аристотель определяет «мужество» несколько иначе по сравнению с
платоновским Сократом (сам Аристотель определяет «мужество» в EN III vi–ix). Однако метод определения, который он в
явном виде обсуждает в An. Post. II 13 в связи с определением
136
«великодушия», тот же самый. Таким образом, Аристотель принимает сократовскую индукцию при определениях.
В каком смысле Аристотель говорит в данной части An.
Post. II 13 о кафоличности (универсальности) определения?
Определение – кафолическое (универсальное), ибо сказывается о многих единичных по числу экземлярах какого-либо
вида, не выходя за пределы вида. При определении посредством принятия всех различий сразу различия – кафолические,
ибо сказываются о многих видах, не выходя за пределы рода.
При определении посредством диайресиса различия – кафолические, ибо сказываются в сути определяемого.
* *
*
Итак, в третьей части An. Post. II 13 представлена проблематика определения, восходящая к Сократу и разделяемая
Аристотелем. Во второй части этой главы представлен подход
к определениям, восходящий к Платону. Аристотель сам, судя
по всему, следует этому подходу в «Метафизике», но критикует его в своих биологических трактатах, предлагая другой
подход к определениям. В первой же части An. Post. II 13
представлен подход к определениям, соответствующий тому
подходу, который Аристотель предлагает в биологических
трактатах вместо «платоновско-спевсипповского».
4.2. Аристотель и диайресис:
Об определениях. Met.VII 12
4.2.1. Перевод Met. VII 12
I. Апория:
Почему едино то, логос чего мы называем определением?
1037b8–10: Ныне же мы бы сказали прежде всего [то], что не было сказано об определениях в «Аналитиках»: ибо апория, о которой там говорилось, полезна для логосов о сущности.
1037b10–13: Говорю же я вот о какой апории: почему, в конце
концов, едино [то], логос чего мы называем определением,
например человека – «животное двуногое»: ибо пусть будет таким его логос.
1037b13–21: Почему он [т.е. логос человека] – единое, а не многие: «животное» и «двуногое»; ибо «человек» и «белое» суть
многие, когда одно другому не было бы присуще, – единое же,
137
когда [одно другому] было бы присуще, и подлежащее «человек»
претерпело бы что-то (ибо тогда возникает единое, и «белый человек» есть); здесь же одно другому не причастно: ибо род,
мнится, не причастен различиям (ибо [иначе] то же вместе было
бы причастно противным, ибо различия, которые различают род,
противны).
1037b21–22: А если [одно другому] и причастно, [остается] тот
же логос, если различия более многочисленны, например «пешее
двуногое бесперое».
1037b23: Ибо почему эти [различия суть] единое, а не многие?
1037b23–24: Ибо не [потому] что внутренне присущи [человеку];
ибо так, во-первых, из всего будет единое.
1037b24–27: А во-вторых, то, чтó в определении, должно быть
единым; ибо определение есть какой-то единый логос, и [причем]
сущности, так что этот логос должен быть [логосом] чего-то
единого; ибо сущность, как мы говорим, означает «что-то
единое» и «что-то вот это».
II. Рассмотрение определений посредством диайресиса
1037b27–29: Сначала надо рассмотреть то, что касается определений на основании разделений [т.е. на основании диайресиса].
В определении нет ничего, кроме первого рода и различий
1037b29–1038a1: Ибо в определении нет ничего другого кроме
рода, сказываемого первым, и различий; иные роды суть первый
[род] и последующие ему различия, совместно [с ним] принятые,
например первый род – «животное», смежный – «животное
двуногое», и опять же «животное двуногое бесперое», – сходно [и
в случае], если бы [определение] сказывалось посредством более
многочисленного.
1038a1–4: Вообще, нет никакой разницы, сказывать ли через многое или немногое, а также через немногое или через два; [если]
же [через] два – одно «различие», другое «род», например для
«животного двуногого» животное «род», а другое – «различие».
Более того, в определенном смысле определение есть логос
только из различий
1038a5–9: А если рода вообще нет помимо видов как [видов]
рода, или если и есть, то как материя (ибо звук – род [как]
материя, а различия творят из него виды и элементы), то очевидно, что определение есть логос из различий.
Надо разделять посредством различий различия,
а не по совпадению
1038a9–15: При этом надо разделять посредством различий
различия, например: различие животного – наличие ног; опять же
различие животного с ногами должно быть, поскольку оно с
138
ногами; поэтому, если говорить хорошо, в связи «с наличием
ног» не надо говорить «пернатость и бесперость» (только по
неспособности кто-то сотворит это), а [надо говорить]
«расщепленность и нерасщепленость» ног; ибо они – различия
ног, ибо «расщепленность» ног – некое «наличие ног».
1038a15–18: И так желательно всегда идти, пока бы не дошли до
безразличных; тогда будет столько видов ног, сколько различий,
и [количество] животных с ногами [будет] равно [количеству]
различий.
1038a18–21: Если дело обстоит таким образом, то очевидно, что
конечное (teleutai>a) различие будет сущностью вещи и определением, раз в определяющих [частях определений] не надо часто
говорить [т.е. повторять] то же, ибо это излишне.
1038a21–25: А получается [именно] это: ибо когда сказали бы
«животное с ногами двуногое», сказали бы ничто иное, как «животное, имеющее ноги, имеющее две ноги»; а если и это разделить свойственным ему разделением, то скажем [то же] многократно, т.е. столько раз, сколько будет различий.
1038a25–28: Итак, если бы возникали различия различий, то одно
[т.е. единое] конечное (teleutai>a) будет эйдосом и сущностью;
если же [различия возникали] бы по совпадению, например, если
бы «наличие ног» разделили на «белое и черное», то [различий
будет] столько, сколько было бы сечений (aiJtomai>).
1038a28–30: Таким образом, очевидно, что определение есть логос из различий, и [притом, если разделения] правильны, из конечного из них.
Порядка различий в сущности нет
1038a30–33: Это стало бы ясным, если кто-то изменил бы порядок [различий] в таком определении, например [в определении]
«человека», сказав «животное двуногое с ногами»: ибо излишне
говорить «с ногами» для «двуногого».
1038a33–34: А порядка [различий] в сущности нет, ибо как [в
ней] надо мыслить одно последующим, а другое предшествующим [букв. – «тем, что первее»]?
Предварительное завершение рассмотрения определений
посредством диайресиса
1038a34–35: Об определениях на основании разделений, каковы они,
для начала пусть будет сказано столько.
4.2.2. Комментарий к Met. VII 12
В книге «Кафолическое в теоретической философии
Аристотеля» мы уже начинали разговор об этой главе, правда,
там мы ограничились очень кратким комментарием [167,
139
с. 78]. Сейчас мы хотели бы продолжить этот комментарий. В
первой части данной главы (1037b8–27) Аристотель формулирует очень важный для него вопрос: почему едино то, логос
чего мы называем определением? В «Аналитиках» он формулирует эту апорию в An. Post. II 6, 92a27–33, но оставляет ее
там нерешенной. Отметим, что и рассмотрение этой апории в
Met. VII 12 не последнее. Вновь Аристотель обратится к ней в
Met. VIII. Мы еще вернемся к этому вопросу. А пока отметим
следующее. В качестве примера он рассматривает определение: человек есть животное двуногое. Вопрос, собственно, состоит в том, почему «животное» и «двуногое» в определении
человека – единое, а не многое (в данном случае – «два»).
Приводит Аристотель и такой пример, когда определение
включает в себя более многочисленные различия, например
«пешее двуногое бесперое» (вероятно, Аристотель намекает на
известное нам благодаря Диогену Лаэртскому платоновское
определение человека). Отметим, что довод, посредством которого он проблематизирует единство определения: «ибо род
не причастен различиям», используется также Аристотелем
для обоснования того, что сущее не есть род. Мы подробно
рассмотрели этот вопрос в [168, с. 195–196].
Во второй части главы (1037b27–1038a35) Аристотель
обращается к рассмотрению определений посредством диайресиса, которые нам уже знакомы по второй части An. Post. II 13,
а именно по фрагменту (96b25–97b6).
Сначала Аристотель делает несколько «странное» заявление, что в определении нет ничего, кроме рода и различий
(1037b29–1038a1). У читателя возникает правомерный вопрос,
а что, собственно, могло бы входить в определение, кроме рода и различий? В чем смысл этого заявления? Судя по всему,
Аристотель имеет в виду некие промежуточные (или же смежные) роды. Об этом свидетельствует и уточнение, присутствующее в его заявлении: «…В определении нет ничего другого, кроме рода, сказываемого первым…», – т.е. в определении нет ничего, кроме первого рода и различий. Далее он поясняет, что все «промежуточные» роды сводятся к первому и
последующим ему различиям. В качестве примера Аристотель
рассматривает платоновское определение «человека»: животное двуногое бесперое. Для различия «бесперость» смежный
род – «двуногое животное». Однако этот смежный род сводит-
140
ся к первому роду (животное) и различию (двуногость). Рассмотрим также аристотелевский пример из An. Post. II 13, когда сначала все животные разделяются на пешие, водные и летающие, а затем летающие животные – на животных с цельными и расщепленными крыльями. Смежным родом для последних различий будет «летающее животное», но оно сводится с первому роду (животное) и различию (летающее). В обоих
примерах получается, что в определение входит первый род
(животное) и последующие различия (в первом случае – двуногое бесперое, во втором – летающее с цельными или расщепленными крыльями).
Затем Аристотель делает еще более «странное» заявление, что, мол, нет никакой разницы, сколько различий мы
принимаем в определение, достаточно одного (плюс род)
(1038a1–4). Если бы речь шла о смежных для различий родах,
например, род – «летающее животное», различие – «цельнокрылое», то это заявление не вызвало бы вопросов. Но по контексту получается, что Аристотель имеет в виду не смежный, а
первый род и одно различие. А ведь в An. Post. II 13 при рассмотрении диайресиса в качестве его полезности, в частности,
говорилось о том, что диайресис позволяет ничего не пропустить, например, нельзя разделять животных сразу на тех, что
с цельными крыльями и расщепленными. Здесь же получается,
что можно пропускать «летающих животных» и сразу разделять животных вообще на тех, что с цельными крыльями и
расщепленными. Это заявление станет понятным после знакомства с фрагментом (1038a9-30).
Но прежде Аристотель делает еще одно заявление
(1038a5-9): если есть только виды рода, а рода помимо видов
нет (если род есть только как материя), то определение образуется только из различий. А если учесть, что ранее он сказал,
что помимо рода достаточно одного различия, то получается,
что определение сводится к единому различию, а именно видообразующему различию, ибо оно, как поясняет Аристотель,
творит из рода вид. Здесь все это заявляется очень кратко. Более подробно этот вопрос Аристотель рассматривает в Met. X
8–9 [168, с. 177–179, 191].
И, наконец, обратимся к фрагменту (1038a9–30). Именно
эти строки делают понятным, «к чему клонит» Аристотель.
Здесь он имеет в виду два варианта диайресиса: диайресис по-
141
средством различия различий и диайресис посредством различий по совпадению, – и соответственно два варианта определений: определения посредством различия различий и определения посредством перечня различий по совпадению. Современные специалисты по классификационной проблеме различают классификации по одному основанию и по нескольким
основаниям. Фактически Аристотель имеет в виду ту же дистинкцию. Надо только помнить, что Аристотель ведет речь о
диайресисе, т.е. не о тех определениях, для которых все различия принимаются сразу, а о тех определениях, различия для
которых принимаются последовательно, посредством последовательных разделений. Так вот, последовательные разделения можно делать двояко: или по единому основанию (посредством различия различий), или по нескольким основаниям (когда на разных ступенях разделения производятся по разным
основаниям). В данной главе Аристотель отказывается от последовательных разделений по разным основаниям и выступает за последовательные разделение по единому основанию,
что на его языке называется «разделениями посредством различий различия».
Так, в Met. VII 12, 1038a9-15 он пишет: разделять роды
надо посредством различия различий, например, если мы
приняли в качестве различия животного «наличие ног», то не
надо далее делить «животных с ногами» на «пернатых и бесперых» (ибо «пернатость и бесперость» – не различия для
«наличия ног»), а делить их надо, например, на основании
«расщепленности и нерасщеплености» ног. Поясним: аристотелевское разделение ног на нерасщепленные и расщепленные
соответствует разделению однокопытных животных (нерасщепленные ноги), с одной стороны, и парнокопытных (двурасщепленных) и пальчатых, или же многопалых (много-расщепленных), – с другой. В случае же разделения родов посредством различий по совпадению речь идет о последовательной
дихотомии, основания которой на каждом этапе иные. В результате мы получаем перечень различий по совпадению (т.е.
случайный набор различий). Именно такие определения представлены в диалогах Платона «Софист» и «Политик». Аристотель в Met. VII 12, во-первых, ратует за разделения родов посредством различий различия (и соответственно отказывается
от разделения родов посредством перечней различий по сов-
142
падению), а во-вторых, показывает, что дихотомия посредством различия различий приводит к единому различию.
Когда Аристотель говорит, что при дихотомии посредством различия различий нет никакой разницы, давать ли
определения через многое или немногое, а также через немногое или через два, он имеет в виду следующее: некоторые ряды различий (например, наличие ног ← расщепленность ног
← много-расщепленность ног; или наличие ног ← многоногость ← двуногость) на самом деле представляют собой единое
различие, ибо если мы приписываем кому-то «двуногость», то
по умолчанию принимается, что у него есть ноги; а если мы
приписываем кому-то «много-расщепленность ног», то по
умолчанию принимается, что у него есть ноги, и они расщепленные. Поэтому достаточно назвать только последнее различие, т.е. единое различие, например животное двуногое. Если
же мы будем перечислять все различия различий: животное с
ногами двуногое, – то нам придется «часто говорить то же» (в
данном случае о ногах пришлось бы сказать два раза) (1038a
21–25).
Итак, почему же едино то, логос чего мы называем определением? Согласно Met. VII 12, в определение входят первый
род и последнее различие (при условии разделения на основании различий различия). Если род есть как материя (1038a5–9),
а последнее и единое различие будет эйдосом и сущностью
(1038a25–28), то получается, что логос-определение в возможности множествен, а в осуществлении един. В книге «Кафолическое в теоретической философии Аристотеля» мы выделили
у Аристотеля два подхода к исследованию сущности: логический и онто-аналитический [167]. Данное решение соответствует логическому подходу. При онто-аналитическом подходе в Met. VIII, к которому мы обратимся позднее, Аристотель
иначе решает ту же проблему.
Для решения проблемы единства логоса-определения
(при логическом подходе) Аристотель отказался от диайресиса
по различиям по совпадению, а диайресис по различиям различия свел к единому конечному различию. Такой результат
привел к тому, что порядка различий в сущности не стало
(1038a30–34). Возникает вопрос, а сохраняется ли польза от
диайресиса, о которой писалось в An. Post. II 13, 96b25–97b6.
143
В предыдущем параграфе мы отмечали, что Аристотель
признает три пользы диайресиса: последовательное разделение позволяет (1) различать первое и последующее среди категориально присущего в сути (96b35–97a6); (2) ничего не пропустить из категориально присущего в сути (96b35–97a6);
(3) определять то или иное сущее, не ведая все другие сущие
(97a6–22). Если первую пользу ограничить последовательностью первого рода и конечного различия, то она остается и при
разделениях по различиям различия. Вторая польза при разделениях по различиям различия фактически исчезает, третья –
остается. Из трех правил диайресиса, которые Аристотель
формулирует в An. Post. II 13, 97a23–97b6: (1) принятие категориально высказываемого в сути (а не сопутствующего);
(2) порядок в определении первого и второго; (3) принятие
всех различий (т.е. нельзя пропускать промежуточные разделения), теряет силу третье, два первых остаются (при этом 2-е
правило сохраняет силу только для последовательности первого рода и конечного различия).
Переход от диайресиса по различиям по совпадению к
диайресису по различиям различия имеет еще несколько следствий:
диайресис по различиям различия сводится к единому
различию (1038a18–21, 1038a28–30);
если же мы не сведем диайресис по различиям различия
к единому различию, нам часто придется говорить одно
и то же (1038a21–25);
при диайресисе по различиям различия количество видов
оказывается равным количеству конечных различий
(1038a15–18).
Именно последний результат вызовет возражение Аритотеля в его биологических работах, ибо войдет в противоречие с эмпирическими данными. Видов, в конечном итоге,
столько, сколько их есть в природе, а не столько, сколько получилось конечных различий при логическом разделении.
4.3. Аристотель и диайресис:
Критика дихотомии. Part. An. I 2–3
Аристотель в трактате «О частях животных» (Part. An.) в
главах I 2–3 подвергает дихотомию «критическому анализу».
Эти главы непросты для понимания и требуют специального
144
истолкования. Аристотелевскую критику дихотомии, представленную в указанных главах, уже анализировали Г. Чернисс [35], Л. Таран [70], Д. Болм [10] и другие исследователи
(см. также [163, c. 285]). Однако эта тема еще «не закрыта». В
настоящем параграфе мы бы хотели продолжить ее обсуждение.
Вообще, I книга Part. An.представляет собой своего рода
методологическое введение как к самому трактату Part. An.,
так и к другим аристотелевским работам биологического цикла, в том числе и «Истории животных» (Hist. An). Критика дихотомии составляет только часть этого введения. В преддверии этой критики в Part. An. I 1 Аристотель формулирует и
обсуждает двенадцать методологических проблем и положений. Но мы сосредоточим свое внимание только на Part. An.
I 2–3. В 3-й главе («Элементы систематизации в “Истории животных” Аристотеля») мы уже познакомились с аристотелевской «реальной практикой» определения родов и видов, а фактически – «классифицирования». Теперь же, будучи знакомыми с «результатом», мы познакомимся с методологическими
(и онтологическими) размышлениями Аристотеля, которые
привели его к этому «результату».
Отметим, что исследователи склоняются к тому, что
непосредственно Аристотель критикует в Part. An. I 2–3 диайресис (метод разделения) Спевсиппа, ученика Платона и его
преемника на посту схоларха Академии [163, с. 285]26. Однако
в данном параграфе мы не будем учитывать разницу в подходах Платона и Спевсиппа, поскольку критические суждения
Аристотеля в той мере, в которой мы будем их затрагивать, в
равной степени относятся и к платоновским дихотомиям,
представленным в диалогах «Софист» и «Политик». Более того, мы исходим из того, что Аристотель в определенном смысле «критикует» в Part. An. I 2–3 и самого себя. Ибо в этих главах он подвергает сомнению то, что писал в An. Post. II 13,
Met. VII 12 и других главах своих сочинений.
26
рана [70].
При этом И.Н. Мочалова ссылается на работы Г. Черниса [35] и Л. Та-
145
4.3.1. Перевод Part. An. I 2–3
Д. Болм разделяет главы Part. An. I 2–3 на восемь частей
[10, c. 102–103].
Три довода (arguments) против дихотомии
1) 642b7-9: Дихотомия производит только единое конечное (final)
различие.
2) 642b10–20: Дихотомия разрывает естественные роды (kinds)
посредством пересекающихся разделений (cross-division).
3) 642b21–643a27: Дихотомия не может использовать отрицательные (negative) различия.
Три правила
4) 643a27–31: Не разделяй по сопутствующему самому по себе
(essential accidents).
5) 643a31–35: Разделяй по противоположностям (opposites).
6) 643a35–643b8: Не разделяй по психосоматическим атрибутам
(т.е. по общим действиям души и тела. – Е.О.).
Заключение
7) 643b9–26: Разделение по единственному (single) различию или
просто недостаточно (fails out right), или заставляет нас разделять
по совпадению (per accidens); поэтому нам следует изначально
разделять по многим (muptiple) различиям.
8) 643b26–644a10: Единственное конечное различие, произведенное корректной дихотомией, должно быть неадекватным (в этой
секции просто подробнее излагается 1-й пункт).
В нашем нижеприведенном переводе Part. An. I 2–3 мы
указали начала каждой части, согласно Д. Болму, цифрами в
круглых скобках. Наши подзаголовки выделены курсивом и
жирным шрифтом.
Критика дихотомии
Part. An. I 2
642b5–6: Некоторые же принимают единичное, разделяя род на
два различия.
642b6–7: Это в одном случае нелегко, в другом невозможно.
Разделения на два приводят к единому различию:
1) 642b7–9: Ибо у некоторых [видов] будет только единое различие,
иные же излишни, например, наличие ног, двуногость, расщепленность ног: ибо только последнее из них – главное (kuri>a).
642b9: Если же [это было бы] не [так], то необходимо [было бы]
часто говорить то же.
146
Разделения на два приводят к разрыву единородного
между разными родами
2) 642b10–13: Далее, не подобает разрывать каждый род, например
птиц, [помещая] одних в одно, других в иное разделение, как содержится в «записанных разделениях»: ибо там одни [птицы]
оказываются разделенными среди водных [животных], другие – в
ином роде.
642b13–14: Благодаря этому сходству, одним полагается имя
птиц, другим же –рыб.
642b15–16: Иные же суть анонимные, например животные с кровью и без крови: ибо ни одному из них не полагается единое имя.
642b16–20: Если, таким образом, ничто единородное не должно
быть разорванным, разделение на два было бы напрасным: ибо
так разделяя, с необходимостью [будут] отделять и разрывать;
ибо среди многоногих есть и пешие, и водные.
Part. An. I 3
Невозможно разделять род по различиям,
у которых нет видов
3а) 642b21–22: Далее, разделять необходимо через лишенность, и
дихотомисты разделяют.
642b22–24: У лишенности, поскольку она – лишенность, нет различий: ибо невозможно быть видам не-сущего, например [быть
видам] безногости или бесперости, как [бывают виды] оперения и
ног.
642b24–26: У кафолических же различий должны быть виды: ибо
если не будут, почему [различия] были бы кафолическими, а не
единичными?
642b26–28: Различия же кафолические и имеют виды, например
пернатость: ибо есть оперение нерасщепляющееся и расщепляющееся.
642b28–30: Так же и с наличием ног: есть много-расщепленность,
дву-расщепленность, например парнокопытность, и нерасщепленность, т.е. неразделимость, например однокопытность.
Трудно разделять род и по тем различиям,
у которых есть виды
3b) (начало). 642b30–35: Трудно, однако, разнять (dialabei~n) и на
такие различия, у которых есть виды, – [разнять] так, чтобы любое животное было в них [т.е. в одном из таких различий], но то
же [животное] не [оказалось бы] во многих [различиях, или же
разделах], как например [в случае] «крылатого» и «бескрылого»
(ибо то же [животное] есть [в качестве] обоих, например, муравей, светляк и что-нибудь другое); но труднее всего или невозможно это в отношении бескровных животных.
147
Различия должны быть иные и различные
3b) (завершение). 642b35–643a1: Ибо необходимо, чтобы каждое
из различий было присуще чему-то из единичных, как и противоположное (thnhn) [различие должно быть присуще
чему-то из единичных].
643a1–7: Если же какой-либо атомарный (a]tomon) и единый эйдос-вид (ei+dov) сущности не может быть присущ [животным],
различающимся по виду (ei]dei), но [последние] всегда будут
иметь различия (например птица и человек, ибо двуногость иная
и различная; и если бы были животные с кровью, то кровь различная, или кровь не надо полагать ни в одну сущность; если же
[положим] так [т.е. если положим в сущность кровь как безразличную], единое различие будет присуще двум); если же это [т.е.
если животные, различающиеся по виду, всегда будут иметь
«иные и различные» различия], то ясно, что лишенности невозможно быть различием [лишенность не может быть иной и различной].
Чтобы разделить род на виды,
различия должны быть свои, а не общие
3c) (начало). 643a7–8: Различия же будут равны [по числу] атомарным животным [в том случае], если эти [животные] атомарные и
различия атомарные, а не общие.
643a9–11: Если же может быть не присуще … и общее, атомарное
же (перевод данного придаточного предложения остался неосмысленным. – Е.О.), ясно, что на основании общего в том же
есть, будучи животным другим по виду27.
643a11–12: Таким образом, необходимо, если различия, в которые попадает все атомарное, свои, то ни одно из них не общее.
643a13: Если же не [так, т.е. если бы различия, в которые попадают атомарные, были бы общими, то атомарные животные], будучи другими, вошли бы в то же [различие].
643a13–16: Надо же, чтобы ни то же и атомарное не входило бы
то в одно, то в другое разделяющее различие, ни другие [атомарные] в то же [различие], и [вместе с тем] все [атомарные входили бы] в эти [различия].
Предварительный итог критики дихотомии
3c) (завершение). 643a16–18: Очевидно поэтому, что нельзя принять
атомарные виды [таким способом], как разделяющие на два разделяют животных или какой-нибудь иной род.
643a18–20: Ибо, согласно им же, [числу] крайних различий необходимо быть равным [числу] всех атомарных по виду животных.
27
Приводим для сведения читателя греческий оригинал приведенного
фрагмента 643a9–11: Eijd∆ ejnde>cetai mh< uJpa>rcein … kai< koinh>n, a]tomon de>,
dh~lon o[ti kata> ge thv te ajnatomamenon) общий
всем (to< koinontwn) род.
Что значит «предположив общий всем род»? Или же что
значит «гипотетический общий род»? Содержание An. Post.
II 14 непосредственно связано с содержанием последующих
глав вплоть до II 18. В определенном смысле An. Post. II 14–18
содержит единое рассуждение. В An. Post. II 17, 99a34 Аристотель то, что ранее называл «гипотетическими общими родами», начинает называть «первым кафолическим» (prw~ton kaqo>lou), т.е. первыми универсалиями. Тем самым Аристотель
начинает различать собственно роды (связанные с присущим в
сути) и первые универсалии (связанные с самим по себе сопутствующим). Таким образом, на языке Аристотеля «гипотетические общие роды» и «первые универсалии» – философские синонимы.
В чем разница между просто «родами» и «гипотетическими общими родами»? Эта разница соответствует разнице
между естественными и искусственными классификациями,
т.е. в первом случае речь идет о естественных родах и их видах, а во втором случае – об искусственных группировках,
производимых в соответствии с теми или иными целями исследования. «Первыми универсалиями» можно было бы называть и то, и другое, но, как правило, Аристотель одно называет
«родами и видами», а другое – «первыми универсалиями» (или
«гипотетическими общими родами»). Такое словоупотребление напоминает употребление предикабилии «свойство». Аристотель, как мы уже отмечали [168, с. 148], пишет, что среди
«свойств» одни обозначают суть бытия, а другие не обозначают суть бытия, поэтому первый вариант свойства он предлага-
191
ет называть «определяющим», а второй – «свойством» (Top. I
4, 101b19–23).
Как неоднократно отмечалось, мы связываем роды и виды с присущим в сути (т.е. с различиями видов рода), а первые
универсалии с сопутствующим самим по себе. Однако Аристотель в An. Post. II 14 в явном виде не говорит ни о сопутствующем, ни о различиях (т.е. присущем в сути), а говорит о
«качествах». Согласно Met. D 14, 1018b13–18, «качествами» (to<
poio>n) называются и «различия», и «состояния». Согласно
Аристотелю, «состояния, присущие сами по себе», как и «сопутствующее само по себе», доказываются, т.е. относятся к
заключению силлогизма, и следовательно, могут входить в
формулировку проблемы. Словоупотребление Аристотеля в
данной главе (анатомирования и разделения, качества) свидетельствует о том, что он начинает разговор (который в целом
займет главы II 14–18) с учета сразу и естественных, и искусственных разделений. К философскому словоупотреблению
такого же рода мы отнесли бы в данной главе и лексему «следовать» (e[pomai), которая равно может употребляться в связи
и с различиями, и с состояниями.
А теперь давайте обратимся к фрагменту An. Post. II 14,
98a13–19. Аристотель пишет:
Ныне мы говорим о распространенных общих именах (ta paradedome>na koina< ojno>mata); надо же рассматривать не только их,
но и избирать нечто иное, если оно явно присуще как общее…
Что значит ta< paradedome>na koina< ojno>mata? Б.А. Фохт
и З.Н. Микеладзе переводят это выражение как «распространенные имена (или наименования), общие [каждому роду и
виду]» [80; 89]; в оксфордском переводе (G.R.G. Mure) дается
перевод traditional class-names [18]; Дж. Барнс переводит: the
common names which have been handed down to us (общие имена, переданные нам по наследству) [17]; т.е. речь идет об общих именах, доставшихся нам по наследству от предшествующих поколений, которые можно было бы назвать «общеупотребительными» общими именами. В качестве таких «общеупотребительных общих имен» в предыдущих строках главы
называются «животные» и «птицы».
Таким общеупотребительным общим именам далее по
контексту противопоставляется «нечто иное, если оно явно
присуще как общее». В качестве примера «чего-то иного, при-
192
сущего как общее» Аристотель называет животных, «имеющих рога». Назовем таких животных по-русски «рогоносцами». Зачем Аристотель выделяет среди животных «рогоносцев»? А затем, что именно рогоносцы «имеют сычуг». Мы уже
обращались к истолкованию этого примера во введении к разделу «Эссенциализм». Для удобства читателей мы отчасти повторим это пояснение. Согласно современной науке, сычуг (или
еж) – последний отдел 4-камерного желудка жвачных животных; у Аристотеля это один из четырех желудков неамфодонтных (т. е. не имеющих верхних передних зубов) животных.
«Распространенными общими именами» Аристотель
называет прежде всего общепринятые имена «естественных»
родов и видов, а «чем-то иным, присущим как общее» – общие
имена «искусственных группировок», выделенных на основании не различий рода, а сопутствующего (в случае рогоносцев – на основании наличия сычуга). Хотя вообще-то распространенными общими именами могут называться и искусственные группировки. Одно сопутствующее само по себе
может сопутствовать естественным родам и видам, другое сопутствующее требует искусственной группировки. Но в любом случае «разделения и анатомирования», о которых идет
речь в An. Post. II 14, осуществляются ради изучения сопутствующего самого по себе, а не ради родовидовых разделений
посредством различий рода, т.е. речь в конечном итоге идет об
аналогах «искусственных классификаций».
Что значат слова (98a7–9):
…Ибо ясно, что в таком случае мы сразу сможем сказать, почему
то, чтó следует, присуще тому, чтó подчинено общему, например,
почему нечто присуще человеку или лошади?
Истолкуем эти слова на примере «рогоносцев». Если нам
ведомо, что «сычуг» (обозначим его как В) следует чему-то общему, например, всякому «животному, имеющему рога» (обозначим его как А), то мы сразу сможем сказать, почему «сычуг» присущ, например быку (обозначим его как Г), который
«подчинен общему», т.е. общему термину «животное, имеющее рога», а именно, мы сразу получим силлогизм:
B A, A Г ├ B Г.
Об этом Аристотель и пишет в завершение фрагмента
(98a13–19):
193
Ибо ясно, почему им будет присуще названное: ибо будет присуще, потому что «имеют рога».
Если бы речь шла о присущем в сути, а не сопутствующем самом по себе, то силлогизм бы нам не помог (о
чем говорилось во введении к разделу «Эссенциализм»).
В завершение всей главы An. Post. II 14 во фрагменте
(98a20–23) Аристотель заговаривает об анонимных искусственных группировках. Мы уже рассматривали в § 3.2 при
комментировании фрагмента Hist. An. I 6, 490b19–491a6 аристотелевское отношение к анонимным разрядам, получающимся при естественных разделениях на роды и виды. В An.
Post. II 14 речь идет об анонимных разрядах, которые могут
возникнуть при искусственных разделениях. В качестве примера анонимной универсалии в данной главе Аристотель
называет некую группировку частей животных, включающую
в себя sh>pion kai< a]kanqan kai< ojstou~n. Определимся с русскими наименованиями перечисленных частей животных (см.
табл. 5.1).
Таблица 5.1
Переводчики
An. Post. II 14:
Фохт [80],
Микеладзе [89]
Part. An.:
Карпов [77]
to< sh>pion –
костяк сепии
hJ a]kanqa –
рыбьи кости
костяк сепии
позвоночник
рыбы
IV 5, 679a21:
кость сепии
II 9: шип,
колючка
ta< ojsta~ –
кости
живородящих
кости
II 9: кости
По-русски мы могли бы назвать кости и млекопитающих
животных, и рыб, и сепии просто «костями». Однако на древнегреческом языке, которым пользовался Аристотель, наименования этих частей лексически не имеют между собой ничего
общего. Поэтому данная группировка «костей» остается для
Аристотеля анонимной. Сразу отметим, что эта группировка
искусственная уже потому, что она включает в себя части животных, принадлежащих к разным великим родам (и соответствующим им по уровню разрядам): мягкотелым животным (к
которым относится сепия), рыбам и живородящим животным
(см. табл. 3.1 и 3.3).
Обратим внимание на то, что Аристотель называет анонимные гипотетические роды «общими по аналогии».
194
Аристотель совместно рассматривает кости животных
разных великих родов в Part. An. II 9 в контексте рассмотрения
подобочастных частей (гомеомерий) животных. Вероятно,
«костную гомеомерию» сегодня мы могли бы назвать «костной тканью». В качестве частей животных, образующихся из
«костной ткани», Аристотель учитывает в этой главе как кости
(и их аналоги), так и хрящи (oiJ co>ndroi) рыб, птиц, змей и
живородящих животных (включая китообразных), а также
ногти, когти, копыта, рога и клювы (птиц). Однако объединяет
он их не в один гипотетический род, а в два, в соответствии с
их целевыми причинами. Ногти, когти, копыта, рога и клювы
присущи животным, согласно Аристотелю, ради защиты
(655b4–8), а кости и хрящи – ради поддержания мясных тканей, т.е. ради придания твердости и прочности всему организму, а также для обеспечения подвижности подвижных частей
животных (654b29–655a4). В силлогизме, согласно An. Post. II
11, 94b12–26, целевые причины могут занимать место не среднего термина как формальные причины, а большего крайнего,
т.е. выступать в качестве сопутствующего. Поэтому есть основание утверждать, что Аристотель объединяет части животных, образующихся из костной ткани, в общие гипотетические
роды на основании сопутствующего им.
У.Д. Росс применительно к фрагменту An. Post. II 14,
98a1–9 пишет о «Древе Порфирия» [27, с. 663]. Однако древо
древу рознь. И представленное истолкование этого фрагмента,
и контекст всей главы II 14, и контекст последовательности
глав II 14–18, и, наконец, контекст всех «Аналитик» свидетельствуют о том, что в II 14–18 Аристотель ведет речь о «сопутствующем самом по себе», а о «различиях» (присущем в
сути) Аристотель говорит в An. Pr. I 31, An. Post. II 5 и II 13.
5.3. Проблема «формулировки проблем»
в Part. An. I 1
А теперь давайте посмотрим, как Аристотель формулирует ту же проблему в сочинении «О частях животных». В
§ 4.3 мы уже отметили, что в Part. An. первая из четырех книг
играет роль своего рода методологического введения ко всему
своду биологических работ, включающему в себя трактаты
«История животных», «О частях животных», «О движении
животных», «О ходьбе животных», «О возникновении живот-
195
ных». В Part. An. I 1 Аристотель формулирует и обсуждает двенадцать методологических проблем; нас интересут первая из
них (639a15–19):
Le>gw d∆ oi=on po>teron dei~ lamba>nontav mi>an eJka>sthn oujsi>an
peri< tau>thv diori>zein kaq∆ auJth>n, oi=on peri< ajnqrw>pou
fu>swev h} le>ontov h} boo tinov a]llou kaq∆ e[kaston
proceirizome>nouv, h} ta< koinh~| sumbebhko>ta pa~si kata> ti
koinonouv [1].
В.П. Карпов переводит этот фрагмент так:
Я выдвигаю как раз вопрос: следует ли, беря каждую единичную
сущность, определять ее самое по себе, как, например, природу
человека, льва, быка или кого другого, занимаясь каждым в отдельности, или брать только то общее, что совпадает во всех них,
полагая в основу какой-нибудь общий признак [77].
Д. Болм дает следующий перевод:
I mean, for example, should one take each being singly and clarify its
nature independently, making individual studies of, say, man or lion
or ox and so on, or should one first posit the attributes common to all
in respect of something common? [10]
С нашей точки зрения, в переводе В.П. Карпова присутствует ряд неточностей, которые существенно изменяют смысл
проблемы, поэтому мы предлагаем альтернативный перевод:
Говорю же – что из двух: надо ли, принимая каждую единую
сущность, относительно нее установить [само] по себе [сопутствующее], например относительно естества человека, или льва,
или быка, или кого-либо иного, предварительно единично выделенного, – или [надо установить] сопутствующее всему в общем
на основании предположенного общего?
Последняя строка данного фрагмента дает основания
считать, что у Аристотеля речь идет не об определениях сущностей (присущем в сути), как это получается у В.П. Карпова,
а о самом по себе сопутствующем. Далее обратим внимание на
следующий перевод В.П. Карпова:
…то общее, что совпадает во всех них, полагая в основу какойнибудь общий признак.
В данном случае у Аристотеля речь идет о высказывании,
в котором в качестве подлежащего выступает некое «предположенное общее» (у В.П. Карпова «общий признак», что
неудачно, так как «признак» указывает скорее на предикат,
чем на субъект), а в качестве предиката «сопутствующее всему
в общем» (у В.П. Карпова «то общее, что совпадает во всех
них»).
196
Д. Болм первый из обозначенных спорных моментов, т.е.
dei~ lamba>nontav mi>an eJka>sthn oujsi>an peri< tau>thv diori>zein kaq∆ auJth>n, переводит так:
…should one take each being singly and clarify its nature independently, making individual studies of…
Что значит в данном контексте «clarify its nature (прояснить ее природу)» – дать определение или приписать сопутствующее само по себе – остается не проясненным. Его перевод второго спорного момента:
…the attributes common to all in respect of something common»
(общие для всех атрибуты относительно чего-то общего), –
возражений не вызывает.
Вообще, Д. Болм истолковывает рассматриваемую нами
проблему так: следует ли нам сначала установить специфические (видовые) атрибуты или генеральные (родовые) [10,
с. 72]? Такое истолкование вызывает возражение. Мы уже отмечали, что при разделениях, связанных с «сопутствующим
самим по себе», сначала нужно подыскать для каждого предиката соответствующий субъект, а затем установить последовательность этих предикатов с точки зрения их универсальности.
Д. Болм акцентирует внимание на втором моменте, не уделяя
должного внимания первому.
Весь фрагмент, касающийся интересующей нас проблемы, в I 1 занимает строки 639a15–b7. Мы пока рассмотрели
только первые четыре строки 639a15–19, содержащие формулировку проблемы. Однако в этом же фрагменте есть еще одна
формулировка той же проблемы, несколько отличающаяся по
своей редакции (639b4–5):
po>teron koinh~| kata< ge>nov prw~ton, ei+ta u[steron peri< tw~n
ijdi>wn qewrhte>on, h} kaq∆ e[kaston eujqu>v [1].
В.П. Карпов переводит этот фрагмент так:
…надо ли сначала рассматривать общее и родовое, а затем –
особенности или сразу же обращаться к частностям [77].
Д. Болм дает следующий перевод:
…whether one should first survey common general attributes and then
later the peculiar ones, or take them individually straight away [10].
Мы бы предложили такой перевод:
…что из двух: [сначала] надо теоретически рассматривать в общем на основании первого рода, а затем относящееся к своему,
или сразу на основании каждого?
197
Уважаемые аристотелеведы переводят эти строки так,
как если бы в них шла речь исключительно о предикатах. Мы
же считаем, что Аристотель здесь в явном виде упоминает и
субъекты (подлежащие). Выражения «на основании первого
рода», «на основании каждого» указывают на подлежащие, на
основании которых что-то может высказываться. «Каждое»
(e[kaston) у Аристотеля может означать и каждое по числу,
виду и роду. В данном случае имеется в виду нечто по логическому объему меньшее, чем первые роды. Все говорит за то,
что «первым родом» здесь Аристотель называет то, что в 639a
19 он именует «предположенным общим», в 98a2–3 – «предположенным общим всем родом», а в 99a34 –«первым кафолическим», т.е. некое подлежащее. Проблематика подлежащего, с
нашей точки зрения, является главной в данном случае.
Относительно решений Аристотелем представленной проблемы отметим следующее. В Part. An. I 1, 639a23–29, I 4, 644a
23–644b7 и I 5, 645a36–645b14 Аристотель говорит, что, если
мы будем рассматривать то же сопутствующее отдельно для
каждого частного подлежащего, придется часто повторять одно и то же. В An. Post. II 14–18 он показывает, что в зависимости от универсальности подлежащего мы будем находить разные причины интересующего нас явления, причем предпочтение надо отдавать первой из них, т.е. самой универсальной.
Наконец, в An. Post. I 24 Аристотель приводит девять доводов
в пользу «первых универсальных» подлежащих, хотя речь
здесь идет уже не о «формулировке проблем», а о доказательствах их решений (об этом у нас пойдет речь в 7-й гл.).
Итак, в текстах «Второй аналитики» II 14, 98a1–9 и «О частях животных» I 1, 639a15–19 Аристотель ведет речь о том,
как надо формулировать проблемы, касающиеся явлений, причины которых мы хотим найти. Сформулированная проблема
должна иметь следующий вид – что из двух: А присуще В или
нет? Нами было показано, что при этом В как термин должно
включать в свой логический объем всю предметную область,
которой сопутствует данное явление, а не какую-либо ее
часть; А, как термин, должна быть наименованием сопутствующего самого по себе, а не присущего в сути. Нами также было показано, к каким некорректностям при переводах и комментировании соответствующих текстов приводит недостаточное внимание к последней дистинкции.
198
6. ПОИСК ПРИЧИН
И «ПЕРВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ»
6.1. An. Post. II 15
An. Post. II 15, хотя и продолжает в определенном смысле рассуждение, начатое в An. Post. II 14, проблематику «первых универсалий» не затрагивает. Поскольку нас интересуют
прежде всего «первые универсалии», мы лишь кратко рассмотрим содержание An. Post. II 15.
В An. Post. II 14 Аристотель ведет речь о проблемах, у
которых то же сопутствующее (с силлогистической точки
зрения – тот же крайний больший термин). Если то же сопутствует разным подлежащим (субъектам), то мы имеем дело
с теми же проблемами. В таком случае, считает Аристотель, у
проблем должно быть то же подлежащее (с силлогистической
точки зрения – тот же меньший крайний термин), т.е. множество частных субъектов надо заменить одним универсальным.
В An. Post. II 15 Аристотель также ведет речь о тождественных проблемах, однако тождественных в другом смысле.
В этом другом смысле теми же оказываются проблемы, у которых сопутствующее и подлежащее – другие, а причина сопутствования – та же, т.е. крайние термины силлогизма другие, а средний термин или (1) тот же, или (2) тот же по роду, но другой по виду, или (3) средний термин одной проблемы
подчинен среднему термину другой. В этом случае получается,
что у разных явлений причины или одни и те же, или те же по
роду, но другие по виду, или соподчиненные. В качестве примеров он приводит следующее (98a24–25):
1) Проблемы, касающиеся всех явлений, причина которых – ajntiperi>stasiv (в пер. Б.А. Фохта – противодействие), – те же.
У.Д. Росс указывается следующие фрагменты, в которых
Аристотель объясняет те или иные явления через «противодействие» [27, с. 665]:
199
движение бросаемых тел (Phys. IV 8, 215a15; VIII 10, 266b27–
267a9),
взаимодействие тепла и холода (Meteor. I 12, 348b2–349a9),
чередование дождя и засухи (Meteor. II 4, 360b30–361a3),
причина сна (Somn. 457a33–b2, 458a25–28).
В русских переводах указанных фрагментов ajntiperi>stasiv переводится по-разному (см. табл. 6.1), однако,
согласно Аристотелю, во всех этих случаях речь идет об одной
и той же причине.
Таблица 6.1
Фохт [80],
Микеладзе [89]
An. Post.II 15, 98a25
противодействие
ajntiperi>stasiv
Карпов [92]
Phys.IV 8,
215a15,VIII 10,
267a15–20
обратное круговое давление
Брагинская [93]
Meteor. I 12, 348a36–
348b12, 349а8, 361а1
теснить, оттеснять,
сжатие,
сосредоточиваться
2) Почему бывает эхо? или почему появляется отражение? или
почему появляется радуга? Все это – та же проблема, ибо причина всех этих явлений – ajna>klasiv (в переводе Б.А. Фохта –
преломление) – та же по роду, но другая по виду.
Дж. Барнс указывает, что о «преломлении» Аристотель
ведет речь в Metr. II 9, 370a16–25, о «преломлении» как причине «эха» – в Prob. XI 8, как причине «отражения» – в Sens. 2,
438a5–10, «радуги» – An. Post. I 13, 79a11 [17, с. 251]. Отметим, что в последнем из указанных фрагментов (79a11) о радуге речь действительно идет, но «преломление» при этом не
упоминается. В специальном комментарии к этому фрагменту
(в контексте комментирования An. Post. I 13) Дж. Барнс называет главы Metr. III 2–5 [17, с. 159]. В этих главах радуга объясняется через «преломление». Более того, радуга здесь рассматривается наряду с другими явлениями, имеющими, согласно Аристотелю, ту же причину, а именно «преломление»:
радуга, гало, ложные солнца, жезлы (Metr. III 2, 371b18–21).
Что это за явления – вопрос непростой. Что такое радуга – ясно без комментариев. О жезлах И.Д. Рожанский пишет:
Жезлами Аристотель именует хорошо известный оптический эффект – световые полосы, нередко появляющиеся на фоне облаков
при заходе солнца» [93, с. 593, прим. 6 к Metr. III].
200
О гало сам Аристотель пишет, что «вокруг Солнца, Луны и ярких звезд часто появляется полное [его] кольцо…»
(пер. Н.В. Брагинской, Metr. III 2, 371b22–26). Так или иначе в
Metr. III 2–6 речь идет о неких атмосферных оптических явлениях, которые, согласно Аристотелю, имеют ту же по роду
причину. Отметим, что «отражение», о котором идет речь в
Sens. 2, 438a5–10, касается глаз и зрения, т.е. также оптических
явлений. Получается, что Аристотель выстраивает своего рода
«классификацию» оптических (а если учесть и эхо, то и акустических) явлений, причины которых усматривает в разных
видах преломления. Отметим также, что в существующих русских переводах присутствует определенная непоследовательность в использовании переводов «преломление» и «отражение» (напомним: согласно Аристотелю, преломление – причина отражения) (см. табл. 6.2).
Таблица 6.2
–
An. Post. II 14
Metr.II 2–6
Sens. 2,
438a5–10
Переводчики
ajna>klasiv
Фохт [80],
Микеладзе [89]
Брагинская
[93]
Лурье
[154, с. 326]
Алымова [109]
преломление
ejmfai>nw,
hJ e]mfasiv
отражение
отражение
отображение
преломление
изображение
отражение
отражение
3) В качестве примера той же проблемы из-за подчиненности
причин Аристотель упоминает следующее. Почему Нил к концу
месяца течет более бурно? Потому что конец месяца бывает более ветреным. А почему конец месяца более ветреный? Потому
что Луна убывает.
Напомним, что фрагментарно сохранилось древнегреческое сочинение «О разливе Нила» (Peri< th~v tou~ Nei>lou
ajnaba>sewv), которое приписывают Аристотелю [45].
6.2. An. Post. II 16–17
Истолкование An. Post. II 16–17 представляет немалую
трудность. Сначала мы представим перевод обеих глав. В этих
главах Аристотель в разных местах обращается к четырем
проблемам математики и естествознания его времени: из области ботаники – почему опадают листья? из области зоологии –
почему одни животные живут долго, а другие нет? из области
201
астрономии – почему происходят затмения Луны и Солнца?
Из области математики – доказательство перестановки накрест
средних членов пропорции. Как обстояло дело с объяснением
солнечных и лунных затмений во времена Аристотеля, мы уже
писали в [168, с. 272–275]. А вот на других «темах» научных
поисков аристотелевского времени для дальнейшего комментирования An. Post.II 16–17 было бы полезно остановиться подробнее сейчас, обратив внимание на ту реальную проблематику, которая сопутствовала этим поискам. Ибо Аристотель
разрабатывал свои методы научного познания для решения
именно этих и подобных им проблем. Поэтому, прежде чем
начать комментировать непосредственно An. Post. II 16–17, в
§ 6.2.2 мы сделаем краткий исторический экскурс в область
математики и естествознания аристотелевского времени. И
наконец, в последующих подпараграфах прокомментируем эти
главы.
6.2.1. Перевод An. Post. II 16–17
An. Post. II 16
Апория
98a35–98b4: Кто-то мог бы затрудниться относительно причины
и того, для чего она причина: следует ли, что, когда присуще
причиняемое, присуща и причина?
(как, например, если опадают листья или наступает затмение, будет [ли] причина у затмения и опадения листьев? например, если
в первом случае эта [причина] – обладание широкими листьями
(to< plate>a e]cein ta< fu>lla), а в случае затмения – нахождение
Земли между [Солнцем и Луной]; ибо если [указанное] не присуще, то что-то другое будет причиной этих [явлений]),
а если причина присуща, [присуще ли] вместе и причиняемое?
(например, если Земля [находится] между [Солнцем и Луной, то
Луна] затмевается? а если [дерево] широколиственно, то листья
опадают?).
Обсуждение апории:
причина и причиняемое даны нам вместе
или причина предшествует причиняемому?
Если бы причина и причиняемое были даны вместе, то…
98b4–5: Если же [это] так, [то причина и причиняемое] были бы
вместе и показывались бы друг через друга.
202
Показ: если присуща причина, то присуще и причиняемое
98b5–7: Ибо пусть А будет «опадением листьев», В – «широколиственностью», а Г – «виноградной лозой».
98b7–10: Если же А присуще В (ибо листья опадают у всякого
широколиственного [дерева]), а В присуще Г (ибо всякая виноградная лоза – широколиственна), то А присуще Г, т.е. листья
опадают у всякой виноградной лозы.
98b10: Причина же – среднее В.
Показ: когда присуще причиняемое, присуща и причина
98b10–12: Но есть доказательство и того, что виноградная лоза
широколиственная, потому что у нее опадают листья.
98b12–13: Ибо пусть D будет «широколиственностью», Е – «опадением листьев», а Z – «виноградной лозой».
98b13–16: Тогда Е присуще Z (ибо листья опадают у всякой виноградной лозы), а D [присуще] Е (ибо широколиственно всякое
[дерево, у которого] опадают листья); следовательно, широколиственна всякая виноградная лоза.
98b16: Причина же – опадение листьев.
Причина предшествует причиняемому, поэтому…
98b16–21: Если же причины не могут быть [причинами] друг для
друга (ибо причина предшествует тому, для чего она причина, и
причина затмения – то, что Земля находится между [Солнцем и
Луной], а затмение не есть причина того, что Земля находится
между [Солнцем и Луной]); и если доказательство через причину
[позволяет разуметь], «почему [есть]», а не через причину [лишь],
«что [есть]», то кто-то ведает, что [Земля есть] между [Солнцем
и Луной], а почему – не [ведает]).
98b21–24: Очевидно, что затмение не есть причина того, что
[Земля находится] между [Солнцем и Луной], но последнее [обстоятельство есть причина] затмения; ибо логосу затмения внутренне присуще «то, что [Земля находится] между [Солнцем и Луной]»; так что ясно, что через это узнается оное, а не это через
оное.
Может ли у единого быть больше единой причины?
98b25: А может ли у единого быть больше [единой] причины?
Вариант, при котором рассматриваемая посылка
не антивысказывается
98b25–28: Да, если то же первично категориально высказывается о более многочисленных; пусть А будет первично присуще В и
[также] первично – иной Г, а эти [т.е. В и Г] D Е.
А В, В D
А Г, Г Е
203
98b28–32: Следовательно, А будет присуще D [и] Е: причиной же
[присущности] D [будет] В, а Е – Г; так что если присуща причина
[вещи], необходимо и вещи быть присущей, если же вещь присуща, всему, что было бы причиной [вещи], быть не необходимо;
впрочем, причина [должна быть], но не всякая.
А В, В D├ А D
А Г, Г Е├ А Е
Вариант, при котором рассматриваемая посылка
антивысказывается
98b32–33: Или же если проблема всегда кафолическая, то и причина [есть] что-то целое? и то, для чего она причина, – кафолическое?
98b33–36: Например, [если бы] опадение листьев определялось
для чего-то целого, и у оного [т.е. чего-то целого] были бы виды,
[то] и для этих вот [опадение листьев было бы] кафолическим,
или для растений [вообще], или для таких-то растений; так что
среднее должно быть равным [по логическому объему] этим (ejpi<
tou>twn) [т.е. всем видам или целому] и причиняемому (ou=
ai]tion), т.е. [должно быть] обратимым.
98b36: Например, почему у деревьев (ta< de>ndra) опадают листья?
98b36–38: Если из-за затвердевания влаги (tou~ uJgrou~) [в черешках], [тогда], если у дерева опадают листья, ему должно быть
присуще затвердевание [влаги], если же затвердевание [влаги]
присуще, причем не чему-либо, а именно дереву, то его листья
опадают.
An. Post. II 17
Формулировка проблемы
99a1–2: Что из двух: может у того же, [присущего] всем, быть не
та же причина, а другая, или не [может]?
Начало обсуждения проблемы
99a2–4: Если доказано само по себе, а не на основании признака
(shmei~on) или по совпадению, не может; ибо среднее есть логос
[большего] крайнего [термина]; если же не так, может быть.
О сущем по совпадению нет знания, нет и доказательств
99a4–6: Есть же рассмотрение по совпадению – и того, для чего
причина [т.е. бóльшого термина], и того, чему причина [т.е.
меньшего термина]; однако, мнится, [что это] не проблема [для
доказательства].
204
Сущее не по совпадению, но и не само по себе
99a6–8: Если же не [так], среднее будет иметься сходно [с крайними]: [1] если [крайние термины] омонимичные, средний омонимичен; [2] если же [крайние принадлежат единому] роду, сходно [и среднее] будет содержаться [в том же роде].
Пример для ситуации [2],
когда средний термин принадлежит тому же роду,
что и крайние
99a8: Например, почему [возможна] перестановка накрест [членов] аналогии [т.е. пропорции]?
99a8–10: Ибо причина для линий и чисел иная и та же: поскольку [членом пропорции оказывается] линия – иная, поскольку же
[пропорция] содержит такое-то возрастание – та же.
99a10–11: И так для всего.
Пример для ситуации [1],
когда средний термин омонимичен так же, как и крайние
99a11–12: [Причина] подобия цвета с цветом и фигуры с фигурой
иная для иного.
99a12–15: Ибо подобие для них омонимично: ибо здесь [т.е. у фигур], судя по всему, имеется аналогичность [т.е. пропорцииональность] сторон и равенство углов, а у цветов – единое чувственное восприятие или что-нибудь иное такое же.
99a15–16: А для тех же по аналогии и среднее будет по аналогии.
Сущее само по себе
99a16–18: Обстоит же [дело] так [потому], что причина [т.е.
средний термин], то, для чего она причина [т.е. больший крайний
термин], и то, чему причина [т.е. меньший крайний термин], связаны друг с другом;
99a18–21: то, для чего причина [т.е. больший крайний термин],
взятое на основании каждого [меньшего термина, распространяется] на более многочисленное;
например, «равенство внешних [углов] четырем [прямым» простирается] на более многочисленное, чем треугольник или четырехугольник, для всех же [прямолинейных фигур принятое простирается] равно (ибо [все прямолинейные фигуры имеют] внешние [углы] равные четырем прямым);
и средний [термин] сходно.
99a21–23: Среднее же есть логос первого крайнего, поэтому все,
что мы разумеем, возникает через определение.
99a23–25: Например, опадение листьев следует виноградной лозе, [но] и превосходит [ее по логическому объему], и смоковнице
(sukh~|), [но] и превосходит [ее по логическому объему]; но всех
205
[широколиственных деревьев] не [превосходит], а равно [им по
логическому объему].
99a25–26: Если бы принял первое среднее, то [это и] есть логос
«опадания листьев».
99a26–28: Ибо первое будет средним для каждого из двух [т.е.
для виноградной лозы и смоковницы], потому что все [опадения
листьев] таковы; затем, среднее для этого, что сок (ojpo>v) затвердевает или что-то иное такое.
99a28: Что же есть опадение листьев?
99a28–29: Затвердевание сока семени (tou~ spe>rmatov ojpon) в
[месте] прикрепления [листьев к веткам, т.е. в черешках].
Схематичное пояснение
99a30–31: Схематично тем, кто исследует связь причины с тем,
для чего она причина, [ее можно] пояснить так.
99a31–32: Пусть А будет присуще всем В, В же каждой D, но и
более многочисленному.
99a32–35: В была бы кафолическим для D: ибо я называю кафолическим то, с чем не обращается [каждое, чему оно присуще]; первым же кафолическим [я называю] то, с чем каждое не обращается, но все [вместе] обращаются и рáвно [по объему] простираются.
99a35–36: Причина [того, что] А [присуща] D-те, – В.
99a36–37: Следовательно, А должна простираться на более многочисленное, чем В; если же не [так], то почему она [В] будет в
большей степени причиной оного [т.е. А D, а не наоборот, А –
причиной В D]?
99a37–39: Если же А присуща всем Е, все они [т.е. Е] будут чемто единым, [причем] иным, чем В.
ABГE
99a39–99b1: Ибо если не [будут, то] как [можно] будет сказать,
что всему, чему [присуща] Е, [присуща] А, но не всему, чему
[присуща] А, [присуща Е].
99b1–2: Ибо почему не будет какой-то причины, как, например,
[есть причина, почему] A присуща всем D?
99b2–3: Следовательно, и Е будут чем-то единым.
99b3: Его [т.е. это единое] надо рассмотреть, и пусть [оно] будет
Г.
Итог решения проблемы,
сформулированной в начале главы
99b4–7: [Итак], у того же [присущего всем] может быть множество причин, но не для того же по виду [субъекта проблемы],
206
например [причина] долгой жизни четвероногих – неимение желчи, птиц же – сухость (to< xhra>) или что-то другое.
6.2.2. Краткий исторический экскурс
в область математики и естествознания
аристотелевского времени
Доказательство Евдоксом
перестановки накрест членов пропорции
Речь идет о доказательстве теоремы, согласно которой из
пропорции (a : b :: g : d) мы вправе получить пропорцию
(a : g :: b : d). Напомним, что по-гречески пропорция называется «аналогией».
Теорема о перестановке накрест средних членов пропорции имела во времена Аристотеля не только математическое
значение. Она имела самое непосредственное отношение к
праву. Справедливость (или же правосудность32) понимается
Аристотелем в «Никомаховой этике» V (и, соответственно, в
«Евдемовой этике» IV) двояко: как целая добродетель, а именно (1) (1129b25–27), «завершенная добродетель, но не просто,
а относительно другого [человека]», и как часть добродетели,
а именно (2) (1130b9), «законное и равное». Справедливость
(правосудность) во втором смысле он разделяет на распределительное и наставительное право (EN/EE V ii 1130b30–
1131a1). За основу наставительного права он принимает арифметическую пропорцию, а распределительного – геометрическую. Названия пропорций «арифметическая» и «геометрическая» в данном случае условны; из них не следует, что одна из
них относится только к арифметике, а другая – только к геометрии. В EN/EE V iii 1131a29 читаем, что справедливость есть
некая аналогия (пропорция). А в EN/EE V iii 1131b5–7, в контексте обсуждения распределительного права, он фактически
формулирует закон перестановки накрест средних членов пропорции:
32
hJ dikaiosu>nh: Э.Л. Радлов [102] и М.А. Солопова [113] переводят как
«справедливость», Н.В. Брагинской [94] – как «правосудность». To> te no>mimon
kai< to< i]son (законное и равное): Э.Л. Радлов [102] переводит как «законное и
равное отношение»; Н.В. Брагинская [94] – как «законное и справедливое»,
М.А. Солопова [113] – как «законное и равное».
207
…Как термин a будет относительно b, так g – относительно d, и
при перестановке накрест, как a будет относительно g, [так] b относительно d.
Как «перестановка накрест» мы переводим греческое
слово ejnalla>x. Существующие русские переводы этого математического термина мы свели в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Переводчики
Радлов
[102]
Фохт [80]
Микеладзе [89]
Брагинская [94]
ejnalla>x – перестановка накрест
EN V
An. Post. I
An. Post. II
(EE IV)
5, 74a18
17, 99a8
1131b6
называя …
–
–
попеременно
взаимно пепереста–
реставляемы
новка
переставляпереста–
емы
новка
соответственно
–
–
[в другом
порядке]
Шичалин
[179]
–
–
–
Солопова
[113]
–
–
поменяв
местами
Прокл:
7.24, 9.4, 9.7
–
–
–
–
переставленное
отношение;
обратная
пропорция
–
Д.Д. Мордухай-Болтовской [136, т. 1, с. 143], комментируя 12-е предложение V книги «Начал» Евклида, пишет:
У Евклида ejnallagov – отношение накрест...
Именно так Д.Д. Мордухай-Болтовской переводит это
слово, например, в Euclid, i. 27:
Если прямая, падающая на две прямые, образует накрестлежащие
углы (tax gwni>av), равные между собой, то прямые будут параллельны друг другу.
Однако само 12-е определение V книги «Начал» Д.Д. Мордухай-Болтовской переводит так:
Переставленное отношение (ejnalla>x lo>gov) есть взятие предыдущего к предыдущему и последующего к последующему.
208
Вплоть до времени Аристотеля перестановка средних
членов пропорции доказывалась отдельно для чисел, линий,
тел, для времен и т.д.
Ныне же, – пишет Аристотель (An. Post. I 5, 74a23–25), – универсально показывается: ибо [показывается] не поскольку линии или
числа были присущи, а поскольку вот это, универсальная присущность которого предполагается.
Принято считать, что универсальную теорию пропорции
незадолго до этого открыл Евдокс [48, с. 43; 17, с. 123]. Судя
по всему, доказательство именно Евдокса Аристотель и имеет
в виду в An. Post. I 5, 74a23–25, I 24, 85a38–85b1, II 17, 99а8:
универсальные члены пропорции анонимны, они суть ни линии, ни числа, ни тела, ни плоскости, ни времена, ни что-либо
другое частное, а что-то универсальное на основании их, присущность чего предполагается, т.е. гипотетически принимается (анонимный гипотетический род). Напомним, что вообще в
антиковедческой литературе присутствует версия, согласно
которой, в Академии, когда семнадцатилетний Аристотель поступил туда, был Евдокс из Книда. Согласно В. Йегеру, Аристотель в течение долгих лет с теплотой вспоминал Евдокса и
то влияние, которое последний оказал на него в самом начале
его философского пути (и это влияние не ограничилось математикой) [53, с. 16–17].
Отметим, что Евклид рассматривает пропорции отдельно
для геометрии (в кн. V «Начал») и отдельно для арифметики (в
кн. VII «Начал») [136]. Д.Д. Мордухай-Болтовской объясняет
это обстоятельство так [136, т. 1, с. 371]:
У Евклида не только нет взаимно однозначного соответствия
между геометрическими величинами и характеризующими их
числами, но у него даже нет идеи рода, объемлющей видовые понятия геометрической величины и числа; эта идея является результатом дальнейшей эволюции математической мысли.
Более подробно Д.Д. Мордухай-Болтовской представляет свой подход к этому вопросу в статье «Из прошлого пятой
книги “Начал” Евклида» [161]. 1-я публ. – 1916 г.). Судя по
всему, Д.Д. Мордухай-Болтовской не учитывает сообщение
Аристотеля о создании универсальной теории пропорций еще
до Евклида. Это сообщение учитывает Т. Хит. При этом
Т. Хит считает, что в V книге Евклид дает теорию пропорций
именно Евдокса, т.е. ту самую универсальную теорию, которую имел в виду Аристотель, а в VII – старую, вероятно пифа-
209
горейскую, теорию пропорций [48, с. 43]. Т. Хит задается вопросом:
…Почему Евклид дает две теории пропорции отдельно с отдельными рядами определений, ничего не говоря об их связи, даже в
X. 5, где он имеет дело с пропорцией, в которой два термина –
величины, а два – числа…, –
и предлагает следующий ответ:
Вероятное объяснение состоит в том, что Евклид просто следовал
традиции и дал две теории так, как их нашел [48, с. 43].
А.И. Щетников в книге «Пифагорейское учение о числе
и величине» рассматривает отдельно числовые пропорции и
пропорции величин; более того, он пишет, что даже для разных величин требуются разные доказательства:
Отношение двух величин и пропорциональность четырех величин определялись в пифагорейской математике начала
IV в. до н.э. через процедуру антифайресиса Особенность
антифайретической теории пропорций состоит в том, что доказать теорему о перестановке средних членов пропорции в общем
виде для всех величин оказывается чрезвычайно сложным. Поэтому приходится изобретать специальные приемы для отрезков,
для площадей и т.п. [200, с. 31–32].
Евдокс, в отличие от пифагорейцев, формулирует проблему (т.е. теорему, которую надо доказать) универсально (т.е.
кафолически). Он ведет речь не о «числах», «отрезках» или
«площадях», а о чем-то универсальном или же целом (кафолическом), частями чегомогли бы быть «числа», «отрезки»,
«площади» и т.п. Соответственно он дает единое (и универсальное) доказательство перестановки накрест средних членов
пропорции. В этом случае доказываемое положение оказывается антивысказываемым (т.е. оно выражает нечто обратимое
по следованию бытия).
Евдокс в данном случае достиг той универсальности знания, к которой и стремился Аристотель, т.е. дал единое универсальное доказательство перестановки накрест членов пропорции вместо многих частных доказательств этой перестановки для чисел, отрезков, площадей, качеств и т.д.
Подобного рода универсализация знания может как происходить в границах одной и той же эпистемы, так и конституировать новую (более универсальную) эпистему. Согласно
Аристотелю, одна эпистема относится к одному роду сущего.
При этом он различает, в частности, роды арифметического и
210
геометрического. Возникает вопрос, а к какой эпистеме отнес
бы Аристотель доказательство перестановки накрест членов
пропорции? Ведь получается, что универсальное доказательство перестановки накрест средних членов пропорции не относится ни к арифметике, ни к геометрии. Это очень важный
вопрос. В Met. IV 2, 1004a6–9 (а также Met. 1026a25–7; 1064b
8–9; 1077a9–10, b17–22) Аристотель пишет о том, что наряду с
отдельными математическими дисциплинами есть первая математика. Чтό изучает первая математика, он, к сожалению,
должным образом не поясняет. Однако об этой универсальной
математической дисциплине писали и платоники. Прокл в
«Комментариях к первой книге “Начал” Евклида» пишет о некой единой эпистеме для всех математических родов [179,
7.15–10.14]33. Говоря о ее содержании, он называет прежде
всего
то, что связано с пропорциями (tw~n ajnalogiw~n), сложениями
(tw~n sunqe>sewn) и разделениями (diaire>sewn), обращениями
(tw~n ajnastrofw~n) и переставленными отношениями (ejnallagw~n) (7.22–24; пер. Ю.А.Шичалина).
В последнем случае речь идет о том самом доказательстве перестановки накрест средних членов пропорции, которое
имеет в виду и Аристотель. Мы привели наименования составляющих содержания первой математики по Проклу в переводе Ю.А. Шичалина. Различия в переводах Ю.А. Шичалина и Д.Д. Мордухай-Болтовского могут скрыть для читателей
соответствующих русских переводов тот факт, что здесь, судя
по всему, Прокл перечисляет теоремы, касающиеся производных пропорций, как они представлены у Евклида в V книге
«Начал» (рус. пер. Д.Д. Мордухай-Болтовского [136]):
16-е предложение:
Если четыре величины пропорциональны, то они будут пропорциональны и «переставляя» (ejnalla>x);
17-е предложение:
Если «составляемые» величины пропорциональны, то они будут
пропорциональны и «выделенные» (diaireqe>nta);
18-е предложение:
33
Первая часть прокловского «Введения» к «Комментариям к первой
книге “Начал” Евклида», фрагмент которого указывается в данном случае, имеет содержательное сходство с Ямвлихом. Возможно, у обоих авторов был общий источник (см. вступ. ст. Ю.А. Шичалина в изд.: [179, с. 6–41]).
211
Если величины пропорциональны «выделенные», то они будут
пропорциональны и «составленные» (sunteqe>nta);
следствие к 19-му предложению:
Вот из этого видно, что если «составленные» величины пропорциональны, то они будут пропорциональны и «переворачивая»
(ajnastre>yanti)…
Таким образом, Прокл включает в содержание первой
математики учение о пропорциях (аналогиях). Он, так же как и
Аристотель, отмечает, что теорему о перестановке накрест
средних членов пропорции можно доказывать отдельно для
геометрии и арифметики, но лучше давать единое доказательство (9.2–14). Отметим, что хотя Ю.А. Шичалин во фрагменте
Прокла о единой эпистеме для всех математических родов
дважды переводит to< ejnalla>x как «обратная пропорция»,
речь у Прокла идет о той же самой теореме о перестановке
накрест средних членов пропорции, что и у Аристотеля. Вероятно, и Аристотель отнес бы универсальное доказательство
перестановки накрест средних членов пропорции к первой математике.
Однако реконструировать аристотелевский проект первой математики непросто, ибо он отличается и от платонического проекта, и от того подхода к математике, который представлен у Евклида. Прокл в явном виде пишет о некой единой
эпистеме для всех математических родов. Но так же ли, как и
Аристотель, он ограничивает предмет этой дисциплины? Дело
в том, что Прокл наряду с вышеперечисленными теоремами,
касающимися пропорций, включает в ее содержание познание
самих по себе равного и неравного, подобного (сходного) и неподобного (несходного). Для Аристотеля же это уже метакатегории, которые он относит к предмету первой философии как
учению о сущем и едином, поскольку они сущее и единое. Согласно Аристотелю, есть первая математика и есть первая философия. Прокл вообще-то разделяет «единую и целую математику», «диалектику» и «ум» (44.1–24), однако при обсуждении предмета той самой единой математики в (8.21–10.14)
он отчетливо не разграничивает ее предмет с диалектикой.
Итак, важно отметить, что, согласно Аристотелю, стремление к универсализации знания может вывести за границы
исходной эпистемы и тем самым конституировать новую эпистему, со своей предметностью, со своим содержанием.
212
Почему одни животные живут долго, а другие нет?
Аристотель обращается к проблеме долгожительства
животных в An. Pr. II 23, An. Post. II 17 и Long. («О долгой и
короткой жизни»).
Глава An. Pr. II 23 известна тем, что в ней идет речь об
индуктивном силлогизме. В «Философском языке Аристотеля» мы обращались к этой главе в § 6.1 в связи с пятым вариантом «антистрофы». Тогда нас интересовало прежде всего то
обстоятельство, что Аристотель использует при индуктивных
умозаключениях силлогизмы с обращающимися без ограничения посылками, т.е. силлогизмы, которые он рассматривает в
An. Pr. II 5–7. Теперь же нас интересует не столько индуктивный силлогизм, сколько пример, который Аристотель рассматривает в связи с ним: мы, ведая, что всякое единичное (по
виду) долгоживущее, как-то человек, конь или мул (Г) – долго
живет (А), и всякое Г – не имеет желчи (В), посредством индуктивного силлогизма умозаключаем (АаГ, ГаВ├ АаВ), что
«долго живут не имеющие желчи», т.е. причина долгожительства – отсутствие желчи.
Пример, связанный с долгожительством, судя по всему,
взят Аристотелем из истории науки. В Part. An. IV 2 Аристотель пишет (677a29–35;):
Поэтому прекрасно говорят древние, высказывая мысль, что причина долголетия – отсутствие желчи; они обратили внимание на
однокопытных и оленей: эти животные ведь не имеют желчи и
живут долгое время. Далее и те, у которых они не заметили отсутствия желчи, как например, дельфин и верблюд, и они оказываются долголетними (пер. В.П.Карпова [77]).
Отметим, что античная наука проявляла немалый интерес к желчи. В трактате «О природе человека» из «Гиппократова сборника» читаем [52, 126]:
2.1–9: И из врачей также одни утверждают, что человек есть
только кровь, другие – желчь, а некоторые, что он есть слизь. И
все они привносят одно и то же умозаключение (ejpi>logon –
эпилог. – Е.О.). Ведь они утверждают, что есть нечто одно, которое всякий из них хочет назвать, и оно, будучи единым, вынужденное теплом и холодом, меняет свою форму и силу и делается
сладким и горьким, белым и черным или чем-нибудь иным в том
же роде. Но мне кажется, что и это все обстоит иначе (пер.
В.П. Карпова).
Далее автор трактата «О природе человека» заявляет
свою собственную позицию:
213
4.1–3: Тело человека содержит в себе кровь, слизь и желчь, желтую и черную; из них состоит природа тела, и через них оно болеет и бывает здоровым (пер. В.П. Карпова).
К желчи проявляли интерес не только врачи. Греки
обращали внимание на наличие желчи на печени при разделке
жертвенных животных. Это обстоятельство придавало проблематике, связанной с желчью, отчасти и сакральное значение.
Так, в «Истории животных» Аристотель отмечает, что у одних
животных желчь присутвует на печени, а у других не присутет (I 17, 496b21–23), а далее пишет (Hist. An. I 17, 496b24–29):
Это сопутствует и жертвенным животным, например, в известном месте Эвбейской Халкидики овцы не имеют желчи [на печени], а в Наксосе [ее имеют] почти все четвероногие в таком [количестве], что чужеземцы, приносящие жертвы, поражаются, думая, что это знамение для них, а не [то, что] это их [т.е. животных] природа.
О том, что на острове Наксос овцы и козы имеют особенно много желчи, а в Эвбейской Халкидике вовсе не имеют,
Аристотель также пишет в Part. An. IV 2, 676b35–677a4.
В «Философском языке Аристотеля» в § 8.1 мы уже писали, что естественнонаучное объяснение солнечных и лунных
затмений, данное Анаксагором, которое также активно использовал Аристотель в своих трактатах в качестве примера
научного поиска, позволяло людям того времени освобождаться от некоторых «фобий» мифологического происхождения. Ту же роль, судя по всему, играло, по крайней мере отчасти, и изучение природы желчи, поскольку и по ее поводу существовали определенные «фобии».
Чтобы стало ясно, какое отношение к долголетию, с точки зрения Аристотеля, имеет отсутствие желчи, изложим кратко его учение об элементах и о желчи.
В приведенных фрагментах трактата «О природе человека» речь идет о позициях, восходящих, судя по всему, к Фалесу Милетскому, полагавшему, что все возникает из воды. Вообще, эти позиции восходили к мифологическим преданиям.
А.Н. Чанышев пишет, что «вода Фалеса – философское переосмысление гомеровского Океана» [197, с. 180]. Аристотель
представляет позицию Фалеса в Met. I 3. Он пишет эту главу в
контексте историко-философского обзора как части введения в
свою первую философию. Аристотель, исходя из своего учения о четырех причинах (материальной, движущей, эйдетиче-
214
ской и целевой – Phys. II 3) отмечает, что большинство первых
философов ограничивались учетом только материальных причин, различаясь между собой тем, что одни принимали только
одно материальное начало (т.е. причину), а другие – несколько
(Met. I 3, 983b6–18). Вот здесь он и приводит позицию Фалеса
Милетского (983b18–33), который принимал только одно материальное начало, а именно воду. Аристотель приводит позиции и других предшественников, полагавших в качестве материального начала единое естество, будь то воздух или огонь.
Об Эмпедокле он пишет, что тот принял в качестве материальных начал четыре элемента: воду, воздух, огонь и землю, –
а об Анаксагоре, что тот принял бесконечное количество
начал – гомеомерий (подобочастных) (983b33–984a16). Относительно материальных начал сам Аристотель принимает отчасти позицию Эмпедокла (с существенной поправкой) и отчасти учитывает позицию Анаксагора.
Аристотель рассматривает элементы в связи с возникновением и уничтожением в De Gen. Et Corr. II. Элементы Эмпедокла – огонь, воздух, воду и землю – он принимает как простые тела, а не элементы. В качестве элементов Аристотель
рассматривает элементарные качества, а именно, «теплое и
холодное» и «влажное и сухое» (при этом в качестве их подлежащего принимается материя). М.А. Солопова отмечает, что
свое учение о четырех элементарных качествах-силах Аристотель перенял от Гиппократа [188, с. 51]. Так что позиция Аристотеля идет не столько от Эмпедокла, сколько от Гиппократа.
А далее, согласно Аристотелю, из простых тел возникают гомеомерии, например, кости, кровь и т.п. (De Gen. et Corr. I 10
и II 7–8). В этом смысле мы отметили, что Аристотель отчасти
учитывает и позицию Анаксагора.
Если в De Gen. et Corr. II мы имеем дело с общефизическим учением Аристотеля об элементах, простых телах и гомеомериях в связи с возникновением и уничтожением, то соответствующее биологическое учение мы находим в Part. An.
II 1. Здесь он пишет о трех синтезах. Во-первых, подобочастное (гомеомерии: кости, плоть и т.п.) синтезируется из простых тел (земли, воздуха, воду и огня), а точнее – из четырех
способностей (влажное и сухое, теплое и холодное) (646a12–
20). Во-вторых, неподобочастное (лицо, руки т.п.; в том числе
части-члены) образуется из первых гомеомерий (костей, плоти
215
и т.п.) (646a20–22). В-третьих, целые животные образуются из
неподобочастных, в том числе частей-членов (646a22–24). Отметим, что в данном случае Аристотель употребляет слово
«синтез» (hJ su>nqesiv) нестрого. В De Gen. et Corr. I 10 Аристотель использует это слово только применительно к возникновению простых тел, а образование гомеомерий обозначает
словами «смесь, смешение» (hJ mi>xiv), а не «синтез».
В Part. An. II 2 Аристотель разделяет гомеомерии на мягкие и влажные, с одной стороны, и твердые и сухие – с другой
(647b10–11). В качестве мягких и влажных гомеомерий он
называет кровь, ихор, жир, сало, мозг, семя, желчь, молоко,
мясо и т.п. (647b12–14). Таким образом, если для авторов
«Гиппократова сборника» желчь – единственное естество (или
одно из немногих), из которого образуются животные, то для
Аристотеля желчь – одна из многих гомеомерий, и гомеомерии играют не первую роль в образовании животных. Более
того, в качестве мягкого и влажного подобочастного (гомеомерий), из которого образуются неподобочастные части животных, в Part. An. II Аристотель рассматривает кровь, жир,
сало, костный и головной мозг и мясо. Желчь среди них не
учитывается. Дело в том, что Аристотель отделяет среди
влажных гомеомерий «выделения» (peri>ttwma), которые оказываются продуктом очищения организма. Желчь, наряду со
слизью, экскрементами кишечника и мочевого пузыря, оказывается именно выделением.
В конечном итоге Аристотель рассматривает желчь не
среди гомеомерий (Part. An. II 4–9), из которых образуется неподобочастное в животных, а в связи с рассмотрением желчного пузыря (Part. An. IV 2), т.е. в контексте рассмотрения
внутренних органов животных с кровью (Part. An. III 4–IV 4).
Слово colh>, судя по всему, означало и «желчь», и «желчный
пузырь». Так, В.П. Карпов пишет [77, с. 203, прим. 122]:
…У Аристотеля нет особого термина для желчного пузыря и
слово colh>, желчь, обозначает как желчь in situ, в пузыре, так и
разлитую в кишечном канале.
Эта трудность перевода приводит, в частности, к тому,
что в Part. An. IV 2, 676b25–27 В.П. Карпов в переводе пишет:
«желчи», – а в комментарии указывает, что «читать надо: желчного пузыря» [77, с. 203, прим. 124].
216
В Part. An. IV 2 Аристотель критически высказывается о
тех, кто приписывает желчи влияние на чувственные восприятия и настроение человека, а также о тех, кто приписывает
желчи порождение различных заболеваний. Отметим, что выражения «желчный человек», «желчное настроение» употребляются и в современном русском языке. Но если сегодня мы
используем их как метафоры, то во времена Аристотеля, судя
по всему, кто-то подводил под них «научную» основу (676b
22–25). Что касается заболеваний из-за желчи, то в Part. An.
IV 2 Аристотель приписывает этот подход последователям
Анаксагора (677a4–11). Отметим, что в «Гиппократовом сборнике» этот подход тоже широко представлен.
Сам Аристотель принимает желчь как выделение (677a
11–15), а поэтому считает, что к ней не следует применять телеологический подход (677a15–18). Он связывает наличие
желчи с состоянием печени: если печень здоровая – желчи в
ней нет, а если кровь в печени не совсем чистая, то возникающее выделение и есть желчь (677a19–28). Таким образом, желчь,
будучи выделением печени, не существует ради чего-нибудь, а
есть очищение печени (677a28–29).
Далее Аристотель пишет те самые слова, с которых мы
начали знакомство с его учением о желчи (677a29–31):
Поэтому прекрасно говорят древние, высказывая мысль, что причина долголетия – отсутствие желчи…
Почему Аристотель соглашается с этим мнением древних? Потому что он полагает следующее (677a36–677b1):
…Печень, по своей природе являющаяся важной и необходимой
частью для всех животных с кровью, служит в зависимости от ее
качества причиной меньшей или большей продолжительности
жизни (пер. В.П. Карпова [77]).
Получается, что отсутствие желчи на печени оказывается
для Аристотеля признаком состояния или же качества печени,
а причиной долгожительства он принимает само состояние
(или качество) печени. Этого обстоятельства хватает, чтобы
Аристотель помянул мнение древних в положительном контексте.
Отметим, что в качестве подлежащего проблемы в An.
Pr. II 23 Аристотель принимает анонимный гипотетический
общий род животных, которым сопутствует долгожительство.
В качестве примеров таких животных в An. Pr. II 23 он назы-
217
вает человека, коня и мула, а в Part. An. IV 2 добавляет однокопытных, оленей, верблюда и дельфина. Если мы обратимся
к табл. 3.5, то увидим, что речь идет о животных с кровью, с
легкими с кровью, четверногих, двуногих и безногих, т.е. принятый анонимный гипотетический общий род включает в себя
виды, входящие в три великих рода.
Еще раз Аристотель обращается в проблеме долгожительства в An. Post. II 17, которую нам предстоит прокомментировать. В этой главе он рассматривает проблему: может ли
тождественное причиняемое иметь разные причины? При этом
Аристотель имеет в виду (1) причиняемое, (2) подлежащее,
которому причиняемое присуще, и (3) причину присущности
причиняемого подлежащему. Аристотелевское решение таково: то же причиняемое может иметь разные причины в том
случае, если оно присуще многим, а не единому, по виду подлежащим; причиняемое же, присущее единому по виду подлежащему, имеет только одну причину. В качестве примера он
приводит следующее: причина долгой жизни четвероногих –
неимение желчи, птиц же – сухость (to< xhra>) или что-то другое (99b4–7). Обратим внимание, «неимение желчи» рассматривается в данном случае не как универсальная причина долгой жизни, а как причина лишь для четвероногих. Что изменилось по сравнению с An. Pr. II 23? Изменилась формулировка
проблемы: вместо вопроса «в чем причина долгой жизни?»
ставятся вопросы «в чем причина долгой жизни четвероногих?», «в чем причина долгой жизни птиц?» и т.д.
У Аристотеля в составе сборника Parva naturalia есть и
специальное сочинение «О долгой и короткой жизни» (Long.).
Интересующую нас проблему в этой работе он формулирет
так (464b23–24):
…Что из двух: причина долгой и короткой жизни для всех животных и растений та же или другая…?
Здесь проблема формулируется более универсально. Если в первом из рассмотренных случаев Аристотель имел в виду животных с кровью, с легким с кровью; во втором случае
он добавил в рассмотрение птиц; теперь же добавляются еще и
растения. Более того, во 2-й и 3-й частях этой работы Аристотель универсализирует проблему долгой и короткой жизни
вплоть до проблемы всякого уничтожения в контексте общефилософской проблемы возникновения и уничтожения. Далее
218
он возвращается в биологию, рассматривая причины долгой и
короткой жизни как частный случай причин уничтожения вообще.
С принятием гипотетического общего рода для долгожительства Аристотель определяется в 4-й части рассматриваемого сочинения (отчасти он начал это делать еще в Long. 1).
Долгожительство нельзя с определенностью приписать тому
или иному великому роду; долгожительство нельзя с определенностью приписать даже тому или иному виду животных
или растений, ибо разные особи того или иного вида могут
жить дольше или меньше. В конечном итоге Аристотель так
описывает анонимный гипотетический род животных и растений, которые живут долго (466a9–16):
Вообще самые долгоживущие [встречаются] среди растений, например финиковая пальма. Затем, [они встречаются] скорее среди
животных с кровью, чем бескровных, и [скорее] среди пеших,
чем водных; таким образом, самые долгоживущие среди животных суть те, которые соединяют в себе наличие крови и пеший
[ход], например, человек и слон. И, как говорит большинство, более крупные [животные] живут дольше менее крупных: ибо как
названным, так и иным крупным [животным] сопутствует долгожительство.
В конечном итоге получается, что речь идет о всех животных и растениях, которые живут долго.
Поиск причины долгожительства Аристотель предпринимает в Long. 5 (для животных) и Long. 6 (для растений). Он
исходит из того, что жизнь есть пребладание влажного и теплого, а смерть есть преобладание сухого и холодного. Мы уже
писали об этом в § 3.2 в подразделе «Комментарии к Hist. An.
I 6, 491a7–26». В Long. 5–6 Аристотель сравнивает животных и
растения с точки зрения наличия в них влажности и теплоты и
выявляет различные факторы, способствующие сохранению
или растрате животными и растениями влажности и теплоты.
В конечном итоге причина долгожительства и животных, и
растений – наличие большей влажности и теплоты и способность сохранять их.
Обратим внимание – о желчи речь вообще не идет. Возникает вопрос и в связи с An. Post. II 17, 99b4–7, где в качестве
причины долгожительства птиц названа сухость (to< xhra).
Согласно Long., сухость – причина короткой жизни.
219
Почему опадают листья?
Этот пример касается ботаники. Поскольку мы не располагаем собственно аристотелевскими работами по ботанике,
мы позволим себе обратиться за некоторыми справками к
трактату Теофраста «История растений» [72; 193]. Конечно,
взгляды Теофраста по тому или иному вопросу могли отличаться от аристотелевских. Однако они много лет работали
вместе; Теофраст – признанный последователь Аристотеля;
наконец, те сведения, которые будут интересовать нас, относятся к самым общим ботаническим знаниям, которые, скорее
всего, были широко распространены во времена Аристотеля.
М.Е. Сергеенко в статье «Феофраст и его ботанические
сочинения» уделяет специальное внимание вопросу «почему
опадают листья» [185, с. 292–294]. Он, имея в виду, что растениями во времена Теофраста интересовались главным образом
в связи с «чисто практическими, хозяйственными вопросами»,
пишет:
Можно было, однако, рассматривать растительный мир и с другой точки зрения, с точки зрения научной: что такое растение? Из
каких элементов оно состоит? Что общего между растениями и
животными? Что является причиной таких, например, обычных
явлений в растительном мире, как листопад? Такими вопросами
интересовались греческие натурфилософы, например Эмпедокл,
Клидем, Менестор… [185, с. 288].
Получается, что, согласно М.Е. Сергеенко, вопрос о причине листопада был одним из самых распространенных и типичных для античного интереса к растительному миру. Вероятно, поэтому Аристотель и рассматривает его в качестве примера.
Начнем опять же с принятия гипотетического общего
рода. У каких растений опадают листья? Вот тут нам и поможет «История растений» Теофраста.
Во-первых, он делит растения на четыре, как он их называет, первых или величайших вида: деревья (de>ndron), кустарники (qa>mnov), полукустарники (fru>ganon) и травы (po>a)
(I 3, 1.3–6). М.Е. Сергеенко в примечании к переводу отмечает,
что Теофраст часто употреблял слово «вид» для обозначения
«рода» [193, прим. 23 к I, c. 306]. Теофраст оговаривается, что
некоторые растения, может быть, не подойдут под это разделение (I 3, 2.2–3). Альберт Великий в свое время отметил, что
220
при таком делении нет места для грибов [193, прим. 24 к I,
c. 306].
Во-вторых, Теофраст делит растения на вечнозеленые
(ta< ajei>fulla) и с опадающей листвой (ta< fullobo>la) (I 9,
3.1–2), а в-третьих, на основании листьев – на широколиственные (platu>fulla), узколиственные (steno>fulla), колючколистные, т.е. растения, имеющие листву в виде колючек
(ajkanqo>fulla), растения, имеющие мясистую листву (sarko>fulla), тростниково-листные (kalamo>fulla), или же угольнолистные (gwnio>fulla) (I 10, 4.1–5.8).
Сведем все эти разделения в единую табл. 6.4. Эта таблица не является исчерпывающей. Мы внесли в нее не все растения, которые Теофраст относит к тому или иному разряду, а
ограничились лишь некоторыми примерами. Для нас наибольший интерес представляют растения, у которых опадают
листья. В связи с этим отметим, что в качестве деревьев с опадающими листьями в разных контекстах Теофраст называет
также грушу, дуб, миндаль, шелковицу, однако среди широколиственных деревьев он их в явном виде не упоминает, поэтому мы не внесли их в данную таблицу (хотя эти деревья и относятся, судя по всему, к широколиственным).
Из табл. 6.4 видно, что листья опадают у широколиственных деревьев. Они и принимаются Аристотелем в качестве
общего рода (или первой универсалии) для опадения листьев.
В An. Post. II 16 и 17 он приводит в качестве растений, у которых опадают листья, виноградную лозу и смоковницу.
В качестве причины опадения листьев в An. Post. II 16
Аристотель принимает, во-первых, широколиственность (98а38–
b1), а во-вторых, затвердевание влаги в черешках (98b36–38).
Позднее при комментировании этой главы мы поясним соотношение этих двух причин. Некоторое пояснение к аристотелевской позиции по этому вопросу мы можем найти в работе
«О возникновении животных». Здесь, рассматривая опадение
листьев в одном ряду с облысением и линькой, он пишет следующее (V 3, 783b18–20):
Причина же этого состояния – нужда в теплой влажности, а таковой в наибольшей [степени выступает] среди [разновидностей]
влаги жирность; поэтому-то среди растений наиболее [часто]
вечнозелены жирные [растения].
221
Объяснение схоже с тем, что мы уже знаем в связи с
долгой и короткой жизнью: жизнь связана с теплом и влажностью, смерть – с холодом и сухостью. Затвердевание влажности в черешках приводит к смерти листьев (а следующей весной вырастают новые листья). Отметим, что в работе «О долгой и короткой жизни» Аристотель объясняет долголетие растений, в частности, тем, что они постоянно обновляются (6,
467a10–18).
Таблица 6.4
–
дерево
вечнозеленые
маслина
(ejla>a),
мирт
(mu>rrinov)
сосна
(peu>kh),
кедр
(ke>drov)
кипарис
(kupa>rittov),
тамарикс
(muri>kh)
финиковая
пальма
(foi~nix)
виноградная
лоза
(a]mpelov),
смоковница
(sukh~),
платан
(pla>tanov)
с опадающими
листьями
растения
кустарполукуник
старник
–
–
трава
–
–
узколиственные
можжевельник
(kebri>v)
–
–
колючколистные
–
рута
(ph>ganon),
капуста
(rJa>fanov)
дубровник
(po>lion)
растения
с мясистой
листвой
тростник
(ka>lamov)
–
осока
(bou>tomov)
–
–
–
тростниковолистные
широколиственные
6.2.3. Комментарий к An. Post. II 16
Причинное объяснение, согласно Аристотелю, имеет вид
силлогизма: А В, В Г ├ А Г.
222
Средний термин силлогизма указывает на причину присущности причиняемого:
А – причиняемое;
В – причина, почему А присуща Г.
В данной главе Аристотель обсуждает причинное объяснение в два этапа. Сначала он формулирует, обсуждает и решает проблему (98a35–98b4):
следует ли, что, когда присуще причиняемое, присуща и причина?
а если причина присуща, [присуще ли] вместе и причиняемое?
Суть проблемы (98a35–98b4) сводится к следующему:
если есть А, то есть ли В? а если есть В, то есть ли А?
А на втором этапе он дает ответ на вопрос (98b25):
…Может ли у единого быть больше [единой] причины?
Суть данного вопроса:
для А причиной выступает только В?
или же для А могут быть и другие причины?
Отметим, что второй вопрос повторно задается и обсуждается в An. Post. II 17 в виде проблемы (99a1–2):
Что из двух: может у того же, [присущего] всем, быть не та же
причина, а другая, или не [может]?
Итак, An. Post. II 16 начинается с апории (98a35–98b4):
Кто-то мог бы затрудниться относительно причины и того, для
чего она причина:
следует ли, что, когда присуще причиняемое, присуща и причина?
(как например, если опадают листья или наступает затмение, будет [ли] причина у затмения и опадения листьев? например, если
в первом случае эта [причина] – обладание широкими листьями
(to< plate>a e]cein ta< fu>lla), а в случае затмения – нахождение
Земли между [Солнцем и Луной]; ибо если [указанное] не присуще, то что-то другое будет причиной этих [явлений]),
а если причина присуща, [присуще ли] вместе и причиняемое?
(например, если Земля [находится] между [Солнцем и Луной, то
Луна] затмевается? а если [дерево] широколиственно, то листья
опадают?).
В качестве примеров причиняемого Аристотель приводит опадение листьев, которое мы рассмотрели в § 6.2.2, и затмение Луны, которое мы рассмотрели в [168, с. 272–275].
Причиной опадения листьев в данном случае он считает «об-
223
ладание широкими листьями», а лунного затмения – «нахождение Земли между Солнцем и Луной».
Как мы уже писали, при чтении этой главы надо иметь в
виду содержание 6-й главы «Сопутствующее и обращение у
Аристотеля» книги «Философский язык Аристотеля», и прежде всего проблематику «антивысказываний» (т.е. 5-го варианта
«антистрофы»), которая рассматривается в этой главе. Напомним, что суть этого варианта обращения сводится к следующему:
если есть В, есть и А, а если есть А, есть и В.
Таким образом, смысл апории, с которой Аристотель начинает An. Post. II 16, фактически сводится к проблеме:
причина и причинямое антивысказываются или нет?
Аристотель осмысливает причину и причиняемое посредством метакатегорий «вместе» и «предшествующее и последующее». Мы уже рассматривали аристотелевские значения
этих метакатегорий в книге [168] в § 6.1 в разделе «Антистрофы в “Категориях”», поэтому сейчас лишь кратко повторим: 2-е
значение «предшествующего» – «необратимое по следованию
бытия»; 5-е значение «предшествующего» – при обратимости
по следованию бытия «причина» предшествует по природе
«причиняемому»; «[данное] вместе» по бытию (но не по времени) не есть причина бытия другого. Если, когда присуще
причиняемое, присуща и причина, а когда присуща причина,
присуще и причиняемое, то не надо думать, что причина и
причиняемое даны нам «вместе» и выступают в качестве причин друг друга. Ибо данное «вместе» вообще не может быть
причиной, причина же «предшествует» причиняемому по бытию. В данном случае речь идет о «предшествующем» в 5-м
значении. Это значение «предшествования» предполагает, что
возможно обратное следование по бытию (т.е. соответствующая посылка антивысказывается), но «причина» остается причиной причиняемого (на каком бы месте в посылке не стоял
соответствующий термин). Если же мы произведем обращение
посылки силлогизма, выражающей причину причиняемого
(согласно 5-го варианта «антистрофы»), то мы будем ведать
«что есть», но не «почему есть», т.е. мы окажемся на 2-й стадии эпистемического поиска, а не на 4''-й (см. [168, с. 279,
табл. 8.3]). Мы уже рассматривали подобные силлогизмы и
224
доказательства, соответствующие 2-й стадии эпистемического
поиска [168, с. 276–278].
Итак, сначала Аристотель обсуждает вариант – если бы
причина и причиняемое были даны вместе (98b4–16):
Если же [это] так, [то причина и причиняемое] были бы вместе и
показывались бы друг через друга.
Показ: если присуща причина, то присуще и причиняемое
Ибо пусть А будет «опадением листьев», В – «широколиственностью», а Г – «виноградной лозой». Если же А присуще В (ибо листья опадают у всякого широколиственного [дерева]), а В присуще Г (ибо всякая виноградная лоза – широколиственна), то А
присуще Г, т.е. листья опадают у всякой виноградной лозы. Причина же – среднее В.
Показ: когда присуще причиняемое, присуща и причина
Но есть доказательство и того, что виноградная лоза широколиственная, потому что у нее опадают листья. Ибо пусть D будет
«широколиственностью», Е – «опадением листьев», а Z – «виноградной лозой». Тогда Е присуще Z (ибо листья опадают у всякой
виноградной лозы), а D [присуще] Е (ибо широколиственно всякое [дерево, у которого] опадают листья); следовательно, широколиственна всякая виноградная лоза. Причина же – опадение
листьев.
Получается, что если бы причиняемое и причина были
даны вместе, то они бы антивысказывались. Однако они не
могут быть даны вместе, ибо причина по определению предшествует причиняемому. Этот вариант Аристотель обсуждает
так (98b16–24):
Если ж причины не могут быть [причинами] друг для друга (ибо
причина предшествует тому, для чего она причина, и причина затмения – то, что Земля находится между [Солнцем и Луной], а затмение не есть причина того, что Земля находится между [Солнцем и Луной]); и если доказательство через причину [позволяет
разуметь], «почему [есть]», а не через причину [лишь], «что
[есть]», то кто-то ведает, что [Земля есть] между [Солнцем и
Луной], а почему – не [ведает]). Очевидно, что затмение не есть
причина того, что [Земля находится] между [Солнцем и Луной],
но последнее [обстоятельство есть причина] затмения; ибо логосу
затмения внутренне присуще «то, что [Земля находится] между
[Солнцем и Луной]»; так что ясно, что через это узнается оное, а
не это через оное.
Получается, что с логической точки зрения причина и
причиняемое антивысказываются, но по сути причина предшествует причиняемому. Причинное объяснение (ответ на вопрос
225
«почему есть») должно строиться именно через причину. Если
же мы построим силлогизм, средним термином которого будет
причиняемое, то мы будем ведать, в одном случае, что Земля
находится между Солнцем и Луной, в другом случае, что виноградная лоза широколиственна, но не будет ведать, почему
происходит затмение Луны? или почему у виноградной лозы
опадают листья?
Примеры, которые Аристотель рассматривает при обсуждении данной апории, предполагают «обратимость по следованию бытия», т.е. предполагают антивысказываемость. А
всякая ли причина «обратима по следованию бытия» с причиняемым и соответственно, всякая ли посылка, выражающая
причину причиняемого, антивысказывается? В связи с этим
Аристотель переходит ко 2-му этапу обсуждения причинного
объяснения (98b25):
А может ли у единого быть больше [единой] причины?
Поясним: ибо если у единого единая причина – причина
обращается по следованию бытия с причиняемым, а если у
единого больше единой причины, то причина не обращается
по следованию бытия с причиняемым.
В последующем обсуждении Аристотель учитывает две
возможности: в одном случае причина и причиняемое не обращаются по следованию бытия (98b25–32), в другом случае –
обращаются (98b32–38).
Вариант, при котором рассматриваемая посылка
не антивысказывается
98b25–28: Да, если то же первично категориально высказывается о более многочисленных; пусть А будет первично присуще В и
[также] первично – иной Г, а эти [т.е. В и Г] D Е.
А В, В D
А Г, Г Е
98b28–32: Следовательно, А будет присуще D [и] Е: причиной же
[присущности] D [будет] В, а Е – Г; так что если присуща причина
[вещи], необходимо и вещи быть присущей, если же вещь присуща, всему, что было бы причиной [вещи], быть не необходимо;
впрочем, причина [должна быть], но не всякая.
А В, В D├ А D
А Г, Г Е├ А Е
«Если присуща причина вещи», т.е. если есть В или Г,
то «необходимо и вещи быть присущей», т.е. есть и А. «Если
226
же вещь присуща», т.е. есть А, то «всему, что было бы причиной [вещи]», т.е. В и Г, «быть не необходимо». «Впрочем,
причина должна быть, но не всякая», т.е. должна быть или В,
или Г.
Аристотель в данном случае не приводит никакого примера. Сделаем это за него. В качестве примера рассмотрим перестановку накрест членов пропорции, которую мы рассматривали в § 6.2.2. Введем следующие обозначения:
А – перестановка накрест,
D – (пропорциональные) отрезки,
Е – (пропорциональные) площади.
Согласно А.И. Щетникову [200, с. 31–32], пифагорейцы
по-разному доказывали «перестановку накрест» (А) средних
членов пропорции для «отрезков» (D) и «площадей» (Е), что
«на языке» Аристотеля означает, что А D они доказывали, например, через В, а А Е – через Г.
В этом случае получается, что доказанные положения
А D и А Е не антивысказываются, ибо
если есть D, то есть А, но
если есть А, бытие D не необходимо.
Вариант, при котором рассматриваемая посылка
антивысказывается
98b32–38: Или же если проблема всегда кафолическая, то и причина [есть] что-то целое? и то, для чего она причина, – кафолическое? Например, [если бы] опадение листьев определялось для
чего-то целого, и у оного [т.е. чего-то целого] были бы виды, [то]
и для этих вот [опадение листьев было бы] кафолическим, или
для растений [вообще], или для таких-то растений; так что среднее должно быть равным [по логическому объему] этим (ejpi<
tou>twn) [т.е. всем видам или целому] и причиненному (ou=
ai]tion), т.е. [должно быть] обратимым. Например, почему у деревьев (ta< de>ndra) опадают листья? Если из-за затвердевания
влаги (tou~ uJgrou~) [в черешках], то если у дерева опадают листья,
ему должно быть присуще затвердевание [влаги], если же затвердевание [влаги] присуще, причем не чему-либо, а именно дереву,
то его листья опадают.
Как мы уже отметили, Аристотель продолжит рассматривать эту проблему в An. Post. II 17. Здесь же он ограничивается вопросами (98b32–33:):
Или же если проблема всегда кафолическая, то и причина [есть]
что-то целое? и то, для чего она причина, – кафолическое?
227
По контексту смысл этого вопроса таков: если проблему
сформулировать универсально (кафолически), то у единого не
может быть больше единой причины? А если утвердительно
ответить на этот вопрос, то доказываемое положение окажется
антивысказываемым.
Обратим внимание, в данном фрагменте Аристотель
вновь в качестве примера приводит опадение листьев, однако
причину называет иную. Если в начале главы при разборе первой проблемы в качестве причины он принимал «широколиственность», то здесь в качестве причины он принимает «затвердевание влаги в черешках». Дело в том, что Аристотель имеет
в виду два типа доказывающих силлогизмов. Мы уже писали
об этом в [168, с. 304–306].
1-й тип эпистемического силлогизма:
«опадение листьев» присуще «широколиственным деревьям»,
«виноградная лоза» – «широколиственное дерево»,
«опадение листьев» присуще «виноградной лозе».
2-й тип эпистемического силлогизма:
«опадение листьев» присуще «затвердеванию влаги в черешках»,
«затвердевание сока в черешках» присуще «широколиственным
деревьям»,
«опадение листьев» присуще «широколиственным деревьям».
Дж. Ленно в статье «Разделение и объяснение: “Вторая
аналитика” в действии» предложил различать умозаключения
(1) и (2) как доказывающие умозаключения «типа А» (A-type
explanation) и «типа В» (B-type explanation) [55]. Мы будем
называть доказательства «А-type» 1-м типом доказывающих
силлогизмов, а доказательства «В-type» – 2-м типом доказывающих силлогизмов. Речь идет о том, что Аристотель рассматривает как «причину» средний термин и умозаключения 1-го
типа, а также умозаключения 2-го типа. Для виноградной лозы
причина опадения листьев в том, что она – широколиственна
(1-й тип доказывающего силлогизма), а для широколиственных деревьев причина опадения листьев в том, что влага затвердевает в их черешках (2-й тип доказывающих силлогизмов).
Во вводной части раздела «Аналитика: Обретение универсального знания» мы писали, что в связи с универсалиями в
аристотелеведении существует проблема: Аристотель требовал для своих доказывающих силлогизмов равенства всех тер-
228
минов силлогизма по логическому объему или нет? И там же
отметили, что У.Д. Росс признает, что термины доказывающих
силлогизмов у Аристотеля должны быть равны по логическому объему, а Дж. Барнс считает, что у Аристотеля обратимы
только некоторые посылки некоторых доказательств, т.е. требование равенства логических объемов терминов доказывающих силлогизмов не является универсальным. Сейчас мы можем определиться с этим вопросом. В доказывающих силлогизмах 1-го типа первая посылка антивысказывается (т.е. ее
термины равны по логическому объему, а вторая посылка не
антивысказыввается). В доказывающих силлогизмах 2-го типа
обе посылки антивысказываются. т.е. все три термина силлогизма равны по логическому объему.
Аристотель пишет:
…[если бы] опадение листьев определялось для чего-то целого…,
т.е. если бы опадение листьев определялось для «широколиственных деревьев», а не для «виноградной лозы» или «смаковницы», –
и у оного [т.е. чего-то целого] были бы виды,
т.е. и у «широколиственных деревьев» были бы виды (виноградная лоза, смаковница и т.п.), –
[то] и для этих вот [опадение листьев было бы] кафолическим,
или для растений [вообще], или для таких-то растений;
т.е. «опадение листьев» было бы универсальным (кафолическим) для «таких-то растений», а именно для «широколиственных деревьев», –
так что среднее должно быть равным [по логическому объему]
этим (ejpi< tou>twn) [т.е. всем видам или целому]…, –
т.е. средний термин («затвердевание влаги в черешках») должен быть равным по логическому объему и «этим», т.е. всем
видам широколиственных деревьев или же широколиственным деревьям в целом, –
и причиняемому (ou= ai]tion), –
т.е. средний термин должен быть равным по логическому объему и «опадению листьев», –
т.е. [должно быть] обратимым. –
т.е. средний термин («затвердевание влаги в черешках») должен быть обратимым без ограничений и с «широколиственными деревьями» и с «опадением листьев».
229
У.Д. Росс прав, что идеалом эпистемического силлогизма для Аристотеля выступают силлогизмы 2-го типа. Однако
прав и Дж. Барнс в том, что не все эпистемические силлогизмы
отвечают этому идеалу.
6.2.4. Комментарий к An. Post. II 17
В этой главе Аристотель продолжает обсуждать причинное объяснение, а именно обсуждает проблему (99a1–2):
Что из двух: может у того же, [присущего] всем, быть не та же
причина, а другая, или не [может]?
Как мы уже отмечали, эта проблема представляет собой
переформулировку вопроса, который Аристотель разбирал во
2-й части предыдущей главы An. Post. II 16, 98b25:
А может ли у единого быть больше [едино] причины?
т.е. он продолжает разбирать тот же вопрос.
Отметим также, что работа «О долгой и короткой жизни», с которой мы кратко познакомились в § 6.2.2, также начинается с проблемы (464b23–24):
…Что из двух: причина долгой и короткой жизни для всех животных и растений та же или другая…?
Аристотель начинает обсуждать исходную проблему в
An. Post. II 17, 99a2–4:
Если доказано само по себе, а не на основании признака
(shmei~on) или по совпадению, не может; ибо среднее есть логос
[большего] крайнего [термина], если же не так, может быть.
Образец доказательства самого по себе был дан, судя по
всему, в An. Post. II 16, 98b32–38. Если мы ищем причину опадения листьев для широколиственных деревьев, то причина
для всех широколиственных деревьев одна и та же, а именно
затвердевание влаги в черешках. Тут же Аристотель подытоживает:
ибо среднее есть логос [большего] крайнего [термина], если же не
так, может быть.
Вопрос о том, что средний термин доказывающего силлогизма есть определение большего крайнего термина, мы подробно рассмотрели в [168, 276–279]. Пример определения через средний термин: опадение листьев есть затвердевание влаги в их черешках. Однако познавательная ситуация, представленная в98b32–38, не единственно возможная.
230
В этом же фрагменте Аристотель упоминает доказательство на основании признака, т.е. энтимему, о которой у нас
шла речь в [168, 242–271]. Судя по контексту, у того же, присущего всем, может быть больше одного признака. Здесь же
упоминается «доказательство» присущего по совпадению. Дело в том, что о сущем по совпадению, согласно Аристотелю,
эпистемы вообще нет, о чем он и напоминает в 99a4–6:
Есть же рассмотрение по совпадению – и того, для чего причина
[т.е. бóльшого термина], и того, чему причина [т.е. меньшего
термина]; однако, мнится, [что это] не проблема [для доказательства].
Слова «это не проблема для доказательства» означают,
что присущее по совпадению мы вообще не доказываем.
Далее Аристотель рассматривает случаи, которые не
подпадают ни под присущее само по себе, ни под присущее по
совпадению (99a6–8).
Если же не [так], среднее будет иметься сходно [с крайними]:
[1] если [крайние термины] омонимичные, средний омонимичен;
[2] если же [крайние принадлежат единому] роду, сходно [и
среднее] будет содержаться [в том же роде].
Сначала он поясняет случай [2] (99a8–11):
Например, почему [возможна] перестановка накрест [членов]
аналогии [т.е. пропорции]? Ибо причина для линий и чисел иная
и та же: поскольку [членом пропорции оказывается] линия –
иная, поскольку же [пропорция] содержит такое-то возрастание –
та же. И так для всего.
Аристотель обращается к универсальному доказательству перестановки накрест членов пропорции, которое мы рассмотрели в § 6.2.2. Здесь мы получаем дополнительную информацию об этом доказательстве, приписываемом Евдоксу.
Причина правомерности перестановки накрест членов пропорции для разных видов (линий, чисел и т.д.) та же по роду,
но другая по виду. Мы уже встречались с причинами теми же
по роду, но другими по виду в An. Post. II 15 (§ 6.1). Однако в
той главе речь шла о проблемах, у которых причиняемое другое, а причина – та же по роду, но другая по виду. Здесь причиняемое то же, а причина та же по роду, другая по виду.
Далее Аристотель приводит пример для случая [1]
(99a11–16):
[Причина] подобия цвета с цветом и фигуры с фигурой иная для
иного. Ибо подобие для них омонимично: ибо здесь [т.е. у фи-
231
гур], судя по всему, имеется аналогичность [т.е. пропорциональность] сторон и равенство углов, а у цветов – единое чувственное восприятие или что-нибудь иное такое же. А для тех же
по аналогии и среднее будет по аналогии.
И, наконец, Аристотель приступает к сравнительно длинному рассуждению, в котором он рассматривает доказательство присущего самого по себе. Сначала он подытоживает предыдущие рассуждения (99a16–18):
Обстоит же [дело] так [потому], что причина [т.е. средний термин], то, для чего она причина [т.е. больший крайний термин], и
то, чему причина [т.е. меньший крайний термин], связаны друг с
другом;
Далее Аристотель начинает основное рассуждение (99a
18–21):
то, для чего причина [т.е. больший крайний термин], взятое на
основании каждого [меньшего термина, распространяется] на более многочисленное;
например, «равенство внешних [углов] четырем [прямым» простирается] на более многочисленное, чем треугольник или четырехугольник, для всех же [прямолинейных фигур принятое простирается] равно (ибо [все прямолинейные фигуры имеют] внешние [углы] равные четырем прямым);
и средний [термин] сходно.
Здесь имеется в виду теорема о равенстве внешних углов
всякой прямолинейной плоской фигуры четырем прямым углам. Введем обозначения:
А – равенство внешних углов четырем прямым углам;
В – средний термин, указывающий, почему А присуща Г;
Г – прямолинейная плоская фигура;
D – треугольник;
E – четырехугольник.
Смысл фрагмента: А распространяется на более многочисленное, чем D и E, но равно по логическому объему Г. И
средний термин В сходно распространяется на более многочисленное, чем D и E, но равно по логическому объему Г.
Аристотель повторяет довод, который он привел сразу
после формулировки исходной апории данной главы (99a21–
23):
Среднее же есть логос первого крайнего, поэтому все, что мы разумеем, возникает через определение.
И далее вновь рассматривает пример с опадением листьев, как это было и в предыдущей главе (99a23–25):
232
Например, опадение листьев следует виноградной лозе, [но] и
превосходит [ее по логическому объему], и смоковнице (sukh~|),
[но] и превосходит [ее по логическому объему]; но всех [широколиственных деревьев] не [превосходит], а равно [им по логическому объему].
Введем обозначения:
А – опадение листьев;
В – затвердевание влаги в черешках;
Г – широколиственные деревья;
D – виноградная лоза;
E – смоковница.
Смысл этого примера тот же, что и предыдущего примера о равенстве внешних углов всякой прямолинейной плоской
фигуры четырем прямым углам: А распространяется на более
многочисленное, чем D и E, но равно по логическому объему Г; В распространяется на более многочисленное, чем D и E,
но равно по логическому объему Г.
Далее (99a25–26):
Если бы принял первое среднее, то [это и] есть логос «опадания
листьев».
Получается, что В (затвердевание влаги в черешках) Аристотель называет «первым средним», и это и есть логос А. То,
что опадение листьев есть затвердевание влаги в черешках,
Аристотель скажет в конце следующего фрагмента (99a26–29):
Ибо первое [В] будет средним для каждого из двух [для D и E],
потому что все [опадения листьев] таковы; затем, среднее [В] для
этого, что сок (ojpo>v) затвердевает или что-то иное такое. Что же
есть опадение листьев? Затвердевание сока семени (tou~ spe>rmatov ojpon) в [месте] прикрепления [листьев к веткам, т.е. в черешках].
В данном случае Аристотель говорит не просто о влаге, а
о неком семенном соке. А далее он предлагает схематичное пояснение, истолкование которого представляет немалую трудность:
99a30–31: Схематично, тем, кто исследует связь причины с тем,
для чего она причина, [ее можно] пояснить так.
99a31–32: Пусть А будет присуще всем В, В же каждой D, но и
более многочисленному.
99a32–35: В была бы кафолическим для D: ибо я называю кафолическим то, с чем не обращается [каждое, чему оно присуще]; первым же кафолическим [я называю] то, с чем каждое не обращает-
233
ся, но все [вместе] обращаются и рáвно [по объему] простираются.
99a35–36: Причина [того, что] А [присуща] D, – В.
99a36–37: Следовательно, А должна простираться на более многочисленное, чем В; если же не [так], то почему она [В] будет в
большей степени причиной оного [т.е. А D, а не наоборот, А –
причиной В D]?
99a37–39: Если же А присуща всем Е, все они [т.е. Е] будут чемто единым, [причем] иным, чем В.
99a39–99b1: Ибо если не [будут, то] как [можно] будет сказать,
что всему, чему [присуща] Е, [присуща] А, но не всему, чему
[присуща] А, [присуща Е].
99b1–2: Ибо почему не будет какой-то причины, как, например,
[есть причина, почему] A присуща всем D?
99b2–3: Следовательно, и Е будет чем-то единым.
99b3: Его [т.е. это единое] надо рассмотреть, и пусть [оно] будет Г.
Прежде всего встает вопрос, чтό собственно поясняет
здесь Аристотель схематически: доказательство присущего самого по себе, которое он только что рассмотрел на примерах
теоремы о равенстве внешних углов всякой прямолинейной
плоской фигуры и опадения листьев, или что-то другое?
Комментаторы считают, что Аристотель здесь поясняет
фрагмент An. Post. II 16, 98b25–32, в котором говорится, что
то же, присущее разным видам, может иметь разные причины
присущности. В пользу такого решения свидетельствуют несколько обстотельств. Фрагмент An. Post. II 16 не сопровождается никаким примером, ограничиваясь буквенно-схематичным показом, и здесь мы имеем дело с буквенно-схематичным
показом. Более того, в 99a36–37 Аристотель приводит довод:
… А должна простираться на более многочисленное, чем В; если
же не [так], то почему она [В] будет в большей степени причиной
оного [т.е. А D, а не наоборот, А – причиной В D]?
То есть, причина должна быть меньше по логическому
объему, чем причиняемое, что соответствует познавательной
ситуации, рассматриваемой в An. Post. II 16, 98b25–32. И наконец, сразу после данного схематического пояснения следует
заключение (99b4–7):
[Итак], у того же [присущего всем] может быть множество причин, но не для того же по виду [субъекта проблемы], например
[причина] долгой жизни четвероногих – неимение желчи, птиц
же – сухость (to< xhra>) или что-то другое.
234
Это заключение также соответствует тому, о чем говорилось в An. Post. II 16, 98b25–32. Однако здесь возникают некоторые сомнения. Дело в том, что присутствующее в схематическом пояснении положение «причина должна быть ýже
причиняемого», если высказывать его в универсальном виде,
вообще не соответствует позиции Аристотеля. Ведь перед
этим «пояснением» он рассматривал примеры, в которых причина не ýже причиняемого, но и не шире, а равна ему. Обратимся к рассуждению в An. Pr. I 31, которое мы кратко рассмотрели во вступлении к разделу «Эссенциализм» (с. 51). Там
Аристотель ведет речь о различиях рода (т.е. о присущем в сути) и разъясняет, что мы не можем приписать то или иное различие чему-либо на основании силлогизма, ибо в этом случае
средний термин оказался бы по логическому объему шире
бóльшего крайнего термина. Однако, если средний термин
(указывающий на причину) не должен быть шире бóльшего
крайнего термина, из этого еще не следует, что он должен
быть ýже его. Ведь он может быть и равным ему по логическому объему. Мы исходим из того, что аристотелевская позиция такова: средний термин силлогизма, показывающего причину, должен быть не шире бóльшего крайнего термина (т.е.
ýже или равным). И чтó есть причина чего, согласно Аристотелю, определяется не соотношением логических объемов
терминов. В § 6.2.3 в комментарии в An. Post. II 16 мы уже пояснили, как Аристотель осмысливает причину и причиняемое
посредством метакатегорий «вместе» и «предшествующее и
последующее». Вызывает сомнение и последний пример, приведенный в конце (99b4–7): причина долгой жизни птиц же –
сухость (to< xhra>) или что-то другое. В § 6.2.2 в конце подраздела «Почему одни животные живут долго, а другие нет?» мы
уже писали, что, согласно Long., сухость – причина короткой
жизни, а не долгой.
Мы воздерживаемся от окончательного истолкования
фрагмента 99a30–99b7. В целом смысл An. Post. II 17 сводится
к следующему:
99a1–2: Что из двух: может у того же, [присущего] всем, быть не
та же причина, а другая, или не [может]?
99a2–4: Если доказано само по себе не может; ибо среднее
есть логос [большего] крайнего [термина]; если же не так, то может быть.
235
7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
И «ПЕРВЫЕ УНИВЕРСАЛИИ»
Широко известно как в аристотелевское время, так и в
наше, что суждения делятся по количеству на общие («А присуще всякой В» или «А не присуща ни одной В») и частные
(«А присуща некоторым В» или «А не присуща некоторым В»).
Применительно к логике и эпистемологии Аристотеля мы будем называть общие суждения универсальными. Суждения могут выступать в качестве заключений силлогизмов, при этом
заключения силлогизмов могут быть как универсальными суждениями, так и частными. Согласно Аристотелю, доказательство есть силлогизм (хотя и не всякий силлогизм есть доказательство). Мы можем доказать посредством силлогизма как
частное заключение, так и универсальное. Однако, говоря о
частных и универсальных доказательствах, Аристотель имеет
в виду не количественную характеристику заключений доказывающих силлогизмов. Доказывающий силлогизм, состоящий из двух универсальных посылок и универсального заключения, может оказаться, с аристотелевской точки зрения, частным доказательством.
Дело в том, что в случае доказательства (а не просто силлогизма), Аристотель не ограничивается формально-логической стороной дела, т.е. наличием в суждении указаний «всякому» или «некоторым». Для него важен также логический
объем понятия, выступающего в качестве субъекта заключения доказывающего силлогизма (т.е. в качестве меньшего крайнего термина силлогизма). Аристотель часто обращается к следующему примеру. Мы можем дать два доказательства: в первом случае мы докажем, что сумма внутренних углов всякого
равнобедренного треугольника равна двум прямым углам; во
втором случае – что сумма внутренних углов всякого треугольника равна двум прямым. С формально-логической точки
зрения оба доказательства тождественны. Однако для Аристо-
236
теля первое доказательство будет частным, а второе – универсальным.
Цель данной главы – выяснить, какое значение Аристотель придает этому различию, и какие теоретико-познавательные проблемы он рассматривает в связи с ним. В этой главе
речь пойдет о соответствующих фрагментах и главах первой
книги «Второй аналитики», а именно о фрагменте An. Post. I 4,
73b25–74a3 и главах An. Post. I 5 и 24.
Фрагмент An. Post. I 4, 73b25–74a3 мы уже рассмотрели
в своей книге «Философский язык Аристотеля» в § 5.4 [168,
с. 199–211]. Мы рассмотрели его там в контексте всей главы
An. Post. I 4. Поэтому сейчас лишь кратко отметим, что в An.
Post. I 4, 73b25–74a3 Аристотель продолжает анализ требований к посылкам доказывающих силлогизмов, начатый еще в
An. Post. I 2. Посылки доказывающих силлогизмов должны
быть универсальными, а значит необходимыми. Отсюда, согласно Аристотелю, А должно быть (1) присуще всем В, (2) само по себе (kaq∆ auJto>) присуще В и (3) присуще В, поскольку
само (h=| auJto>) (т.е. А присуще В, поскольку оно В).
Требование – быть присущим «поскольку само» – относится прежде всего к логическому подлежащему суждения.
Рассмотрим соответствующий аристотелевский пример (73b
32–39): какому логическому подлежащему универсально присуще «иметь два прямых угла»? Может быть, геометрической
фигуре вообще? Нет, ибо не любая геометрическая фигура
имеет сумму внутренних углов, равную двум прямым. Может
быть, равнобедренному треугольнику? Любому равнобедренному треугольнику присуще иметь сумму внутренних углов,
равную двум прямым, но не как первому. Как первому это логическое сказуемое присуще треугольнику вообще. Таким образом, чтобы найти подлежащее, которому то или иное сказуемое было бы присуще универсально, надо взять ряд терминов, расположенных в порядке убывания универсальности (в
данном случае: геометрическая фигура, треугольник, равнобедренный треугольник), и найти первый из них, которому бы
во всем его логическом объеме было присуще данное логическое сказуемое. Подлежащее, которому как первому нечто
присуще универсально, Аристотель далее называет «первым
универсальным» (возможно, иногда он называет первым универсальным суждение, имеющее первый универсальный субъ-
237
ект). При этом Аристотель использует такие выражения: два
прямых угла присущи треугольнику, поскольку он треугольник (А присуще В, поскольку оно В); два прямых угла присущи равнобедренному треугольнику, поскольку он треугольник
(А присуще В, поскольку оно нечто иное).
7.1. Ошибки,
которые могут возникнуть при нахождении
первых универсалий
7.1.1. Перевод An. Post. I 5
74a4–6: Не должно скрыться, что часто получается ошибка и показываемое не присуще [как] первое кафолическое, поскольку
[только] мнится, [что оно] показывается [как] кафолическое первое.
Ошибки могут возникнуть в трех случаях
74a6–12: Ошибаемся же этой ошибкой, когда или
[1] ничего не было бы, [чтобы] принять выше единичного [или
единичных], или
[2] было бы, но анонимно было бы для различных по виду вещей,
или
[3] случайно сущее как частное целое, для которого показывается:
Пояснение 3-го случая
74a10–12: ибо доказательство будет присуще тем, что в частности, и будет на основании всех, но сходно не будет доказательством этого первого кафолического.
74a12–13: Говорю же о доказательстве этого первого, поскольку
это, когда было бы [доказательством] первого кафолического.
Пример к 3-му случаю
74a13–15: Поэтому если кто-либо захотел бы показать, что перпендикуляры не встречаются, у него могло бы возникнуть мнение, что доказательство этого существует потому, что относится
ко всем перпендикулярам.
74a15–16: Но это не так, если это [т.е. параллельность] возникает
не потому, что [внешний и внутренний углы, противолежащие
с одной стороны] таким образом [т.е. будучи прямыми] равные,
а поскольку любым образом [т.е. будучи любыми углами] равные.
Пояснение к 1-му случаю
74a16–17: И если не было иного треугольника, кроме равнобедренного, поскольку равнобедренный, мнилась бы присущность.
238
Пример ко 2-му случаю
74a17–23: И перестановка накрест [членов] аналогии [т.е. пропорции], поскольку числа, поскольку линии, и поскольку тела, и
поскольку времена, когда-то отдельно показывалось; можем же
дать на основании всего единое доказательство; но так как нет
единого имени для всех них, а именно для числа, длины, времени,
тела, и по виду различаются друг с другом, [то их] принимали отдельно.
74a23–25: Ныне же кафолически показывается: ибо не поскольку
линии или не поскольку числа были присущи, а поскольку вот
это, что предполагается кафолически присущим.
Универсалия нетождественна сумме предметов,
входящих в ее логический объем
74a25–32: Поэтому [если] кто-то показывал бы на основании
каждого треугольника или одним, или другим доказательством,
что каждый [треугольник] имеет два прямых, [показывал бы] отдельно [для] равностороннего, разностороннего и равнобедренного, еще не ведал [бы] треугольника, два прямых [имеющего],
если только не софистическим способом; не [ведал бы] ни на основании целого треугольника, ни [того], нет ли помимо этих другого треугольника.
74a30–32: Ибо не [ведал бы] ни поскольку треугольник, ни всякий треугольник, разве что по числу [всякий]; по виду же не всякий, даже если не было бы ни одного, которого [бы] он не ведал.
74a32–33: Когда не ведает кафолически, и когда ведает просто?
74a33–34: Ясно, что если то же – суть бытия треугольником и
суть бытия равносторонним треугольником или для каждого, или
для всех.
74a34–35: Если же не то же, а другое, присуще поскольку треугольник, не ведает.
Формулировка проблемы
74a35–36: Что из двух: поскольку трегольник или поскольку равносторонний присуще?
74a36–37: И когда на основании этого присуще первое?
74a37: И [когда] доказательство чего-нибудь кафолического?
Решение проблемы
74a37–38: Ясно, что для отвлеченных было бы присуще первым.
Пояснение к решению проблемы
74a38–74b1: Например, равностороннему медному треугольнику
будут присущи два прямых, но бытие и меди, и равносторонности отвлекаемо.
74b1: Но не схемы или предела.
74b2: Но не первых.
239
74b2–4: Чего первого? Если же треугольника, на основании этого
присуще и иным, и этого кафолического есть доказательство.
7.1.2. Комментарий к An. Post. I 5
В An. Post. I 5 Аристотель рассматривает ошибки, которые могут возникнуть при нахождении первого универсального подлежащего. Такие ошибки могут возникнуть в трех случаях (74a6–10):
1) когда помимо частного ничего не было бы (т.е. кроме одного
вида другие нам были бы неизвестны);
2) когда помимо частного есть универсальное, но оно анонимно;
3) когда мы принимаем частное за универсальное, т.е. доказываем что-либо для «частного в целом», как выражается Аристотель.
Сразу после перечисления трех случаев возникновения
ошибок, связанных с выявлением первого универсального подлежащего, Аристотель поясняет третий из них (74a10–13). Вообще, Аристотель рассматривает три названные случая в следующем порядке: сначала третий случай, затем первый и, наконец, второй.
В качестве примера ошибки третьего типа Аристотель
рассматривает ошибку, возникающую при доказательстве теоремы о том, что пара прямых, пересекающая третью прямую
под одним и тем же углом, не встречается, т.е. эти прямые параллельны (74a13–16):
Поэтому если кто-либо захотел бы показать, что перпендикуляры
не встречаются34, у него могло бы возникнуть мнение, что доказательство этого существует потому, что относится ко всем перпендикулярам. Но это не так, если это [т.е. параллельность] возникает не потому, что [внешний и внутренний углы, противолежащие с одной стороны] таким образом [т.е. будучи прямыми]
равные, а поскольку любым образом [т.е. будучи любыми углами] равные.
Дело в том, что во времена Аристотеля эту теорему доказывали только для перпендикуляров, т.е. доказывали, что вся34
Ouj sumpi>ptousi – этот глагол используется также Евклидом при
определении параллельных линий (23-е определение I кн. «Начал»). Д.Д. Мордухай-Болтовской так комментирует это словоупотребление [136, т. 1, с. 14]:
«sumpi>ptousin ajllh>laiv – совпадают, сталкиваются, встречаются друг с другом, но ни в коем случае не пересекаются». В рассматриваемом нами ныне
фрагменте An. Post. I 5, 74a13–16 Б.А. Фохт переводит ouj sumpi>ptousi как «не
совпадают», З.Н. Микеладзе же – «не пересекаются».
240
кая пара перпендикуляров не встречается. Однако, согласно
Аристотелю, это будет доказательством частного случая. Ибо
пара перпендикуляров не встречается потому, что не встречается пара любых прямых, пересекающая третью прямую под
равными углами. Первое универсальное: «пара прямых, пересекающая третью прямую под равными углами»; частное: «пара прямых, пересекающая третью прямую под прямыми углами, т.е. пара перпендикуляров».
Дж. Барнс при комментировании этого фрагмента [17,
с. 123] отсылает читателя к Euclid, i, 29, а З.Н. Микеладзе [89,
т. 2, прим. 2 к An. Post. I 5] – к Euclid, i, 28. На наш взгляд,
прав З.Н. Микеладзе. Однако перевод фрагмента правильнее у
Дж. Барнса. AiJ ojrqai> в этом фрагменте и Б.А. Фохт, и З.Н. Микеладзе переводят как «прямые линии», а Дж. Барнс – как
«перпендикуляры». Греческое слово позволяет сделать оба перевода, но смысл теоремы становится понятным при втором из
них. Отметим, что А.В. Кубицкий [76] и М.И. Иткин [83] в
Met. VII 10 переводят hJ ojrqh> именно как «прямой угол»
(1034b28, 30; 1035b6, 7, 8 и далее).
В An. Post. I 5, 74a16–17 Аристотель пишет, что если бы
не было никаких других треугольников, кроме равнобедренного, могло бы сложиться мнение, что сумма внутренних углов
треугольника, равная двум прямым, присуща именно равнобедренному треугольнику, что является пояснением к первому
случаю возможного появления ошибки. Дж. Барнс, комментируя этот фрагмент [17, с. 122], проводит параллель с Met.VII
11, 1036b1, где говорится, что если бы мы видели только медные круги, нам трудно было бы мысленно отделить круг от
меди.
В качестве примера ошибки второго типа, когда универсальное анонимно, Аристотель рассматривает доказательство,
касающееся перестановки накрест членов пропорции (74a17–
25). Речь идет о следующем: из пропорции (a : b :: g : d) мы
вправе получить пропорцию (a : g :: b : d). Мы уже рассматривали эту теорему в § 6.2.2 в разделе «Доказательство Евдоксом
перестановки накрест членов пропорции». Эта теорема используется Евклидом при доказательстве i. 28, т.е. при доказательстве той самой теоремы, которую Аристотель имеет в виду в предыдущем примере.
241
Рассмотрев три случая, когда возможно появление ошибок, связанных с подлежащим (субъектом) доказываемого положения, Аристотель пишет (74a25–32):
Поэтому [если] кто-то показывал бы на основании каждого треугольника или одним, или другим доказательством, что каждый
[треугольник] имеет два прямых, [показывал бы] отдельно [для]
равностороннего, разностороннего и равнобедренного, еще не
ведал [бы] треугольника, два прямых [имеющего], если только не
софистическим способом; не [ведал бы] ни на основании целого
треугольника, ни [того], нет ли помимо этих другого треугольника. Ибо не [ведал бы] ни поскольку треугольник, ни всякий треугольник, разве что по числу [всякий]; по виду же не всякий, даже если не было бы ни одного, которого [бы] он не ведал.
Дж. Барнс отмечает [17, с. 124], что этот фрагмент обычно рассматривают как вторую иллюстрацию второго типа
ошибки. Однако, отмечает он, здесь нет речи об анонимности
первого универсального. Здесь говорится о том, что если человек ведает, что равностороннему, равнобедренному и разностороннему треугольникам присуще одно и то же, он еще не
ведает ни треугольника вообще, ни всякого треугольника, ни
того, что треугольнику вообще присуще то же самое.
Далее Аристотель поясняет (74a32–35), что если бы суть
бытия треугольника и равнобедренного треугольника была
одной и той же, то знание второго давало бы и универсальное
знание первого; если же суть бытия у них разная, то знание
того, что присуще треугольникам равносторонним, равнобедренным и разносторонним, не дает знания того, что присуще
треугольнику, поскольку он треугольник, т.е. не дает универсального знания.
Итак, в An. Post. I 4 Аристотель сказал нам, что доказывать надо универсальное; для этого надо избирать в ряду нисходящей универсальности подлежащих нечто первое, чему
доказываемое присуще универсально. В An. Post. I 5 он показал, по каким причинам мы можем ошибочно доказать частное
вместо универсального, и что ряд частных доказательств (пусть
даже исчерпывающий) не дает нам универсального знания.
Однако до сих пор Аристотель писал об этом как о должном.
А почему, собственно, присущность чего-либо универсальному подлежащему первична по отношению к присущности того
же частному подлежащему?
В заключение главы Аристотель и формулирует соответствующую проблему (74a35–37):
242
Что из двух: поскольку треугольник или поскольку равнобедренный [два прямых] присущи? И когда на основании этого присуще
как первое? И для чего доказательство – универсальное?
Решение проблемы дается сразу и кратко (74a37–38):
Ясно, что для отвлеченных было бы присуще первым,
а далее следует пояснение этого решения: если сумма внутренних углов медного равнобедренного треугольника равна
двум прямым углам, мы можем абстрагироваться от его медности и равнобедренности, а сумма его внутренних углов все
равно будет равна двум прямым углам; но от его треугольности мы абстрагироваться уже не можем (например, мы не можем остаться с геометрической фигурой вообще), ибо в этом
случае сумма внутренних углов уже не будет равна двум прямым универсальным образом (74a38–74b4). Получается, что
два прямых угла присущи медному равнобедренному треугольнику, потому что он просто треугольник, а не наоборот.
Поэтому доказательство соответствующей теоремы именно
для треугольника вообще и будет универсальным.
Итак, важно отметить, что, согласно Аристотелю, в математике первое универсальное – отвлеченно. Отвлечение, согласно ему, происходит аналогично эмпирическому обобщению, а именно в процессе чувственного восприятия в широком
смысле слова, включающем в себя наряду с собственно чувственным восприятием также запоминание и индукцию (см.
§ 1.2.335).
По вопросу о природе математических родов и видов с
Аристотелем полемизировали платоники. Что из двух: математические виды и роды получают свою ипостась (т.е. реальность) от чувственно воспринимаемых предметов, посредством ли отвлечения (т.е. абстрагирования), посредством ли
собирания частностей в единый общий логос, или они имеют
ипостась и до чувственно воспринимаемых предметов и частностей? – так формулирует проблему Прокл в «Комментариях
к первой книге “Начал” Евклида» и решает ее в пользу второго
варианта: математические виды и роды порождаются душой и,
следовательно, имеют свою ипостась до всякого чувственно
35
Подраздел – 100a16–00b1: «ибо чувственно воспринимается единичное, чувственное же восприятие есть [восприятие] кафолического, например,
человека, а не Каллия человека»
243
воспринимаемого [179, 12.2–18.4]. Отметим, что полемику
Прокла с позицией, которую разделял Аристотель, мы затрагиваем здесь лишь «в первом приближении». «Введение» Прокла к «Комментариям к первой книге “Начал” Евклида» состоит
из двух частей (первый и второй прологи). В данном случае
мы учитываем только «Первый пролог», имеющий явные параллели с аристотелевскими главами An. Post. I 5 и I 24, которые мы сейчас рассматриваем. «Второй пролог» Прокла, в котором более основательно обсуждается вопрос о природе геометрических объектов, требует соотнесения с «Метафизикой»
Аристотеля, что выходит за рамки проблематики данной главы.
В вопросах же, касающихся собственно геометрии, Аристотель и Прокл согласны друг с другом: в (14.11–15) Прокл
фактически повторяет рассуждение Аристотеля в (74a25–32),
что, мол, если кто-то доказал, что сумма внутренних углов
равнобедренного, равно- и разностороннего треугольников
равна двум прямым, он еще не доказал этого для просто треугольника. Разница между ними заключается в философском
обосновании этого положения, т.е. в онтологических и эпистемических допущениях.
При этом нужно помнить, что, согласно Аристотелю,
чувственное восприятие – не единственный источник знания,
помимо него Аристотель признавал также допущение и ум.
Поэтому, когда мы встречаемся с вопросом-возражением Прокла (12.19–21): «… где у чувственно воспринимаемых… равенство радиусов…?», – следует помнить, что, согласно Аристотелю, чувственное восприятие (вместе с запоминанием и индукцией) дает нам только отвлеченные представления о радиусе и равенстве; суть «равенства» и «радиуса» умопостигается
(суть «равенства» как метакатегории умопостигается в рамках
первой философии, а «радиуса» – в рамках геометрии); утверждение или отрицание присущности равенства радиусов одной
или более окружностям в зависимости от познавательной ситуации является продуктом или допущения, или доказательства.
Итак, согласно Аристотелю, в математике первое универсальное, как было уже сказано, – отвлеченно.
244
7.2. О преимуществах
универсальных доказательств: An. Post. I 24
В An. Post. I 24 Аристотель рассуждает о том, какое доказательство лучше: частное или универсальное? Отметим, что
Прокл также обсуждает этот вопрос в [179, 13.27–14.23]. В
этой связи Аристотель приводит в общей сложности одиннадцать доводов: два первые из них – в пользу частных доказательств, девять остальных – в пользу универсальных. Из девяти последних два первых довода призваны оспорить два соответствующих довода в пользу частных доказательств. Далее
мы рассмотрим все эти доводы.
1-й довод в пользу частного доказательства (85a20–31).
Если лучше то доказательство, на основании которого мы чтото разумеем в большей степени, в большей же степени мы разумеем каждую вещь тогда, когда ведаем, какова она сама по
себе, а не на основании чего-то другого, то частное доказательство лучше. Ибо на основании частного доказательства мы
разумеем, что два прямых угла присущи равнобедренному
треугольнику самому по себе. В случае же универсального доказательства мы разумеем, что равнобедренный треугольник
имеет два прямых угла не сам по себе, а на основании того,
что он треугольник.
Возражение на 1-й довод в пользу частного доказательства – 1-й довод в пользу универсального доказательства (85b
4–15). В обоих доводах Аристотель использует одно и то же
положение: лучше то доказательство, на основании которого
мы что-то разумеем в большей степени; в большей же степени
мы разумеем каждую вещь тогда, когда ведаем, какова она сама по себе, а не на основании чего-то другого. Вопрос в том, в
каком случае мы ведаем нечто на основании самого по себе:
когда мы ведаем частное или универсальное? Это та самая уже
рассмотренная нами проблема, которую Аристотель сформулировал и решил в An. Post. I 5, 74a35–74b4 (и которую мы
рассмотрели в предыдущем параграфе). Таким образом, 1-й довод в пользу частного доказательства и возражение на него
Аристотеля (т.е. 1-й довод в пользу универсального доказательства) фактически повторяют эту проблему.
Полемизируя с 1-м доводом в пользу частных доказательств, Аристотель говорит не о присущности самой по себе
(kaq jauJto>), а о присущности поскольку само (h=|). Было бы за-
245
манчиво положить это обстоятельство в основу истолкования
данного фрагмента. Ибо в этом случае новая редакция довода:
лучше то доказательство, на основании которого мы что-то
разумеем в большей степени; в большей же степени мы разумеем каждую вещь тогда, когда ведаем, что ей присуще, поскольку она сама, – однозначно обосновывает преимущество
универсального доказательства. Однако далее в этой же главе
Аристотель вновь говорит о присущности на основании самого
по себе (kaq jauJto>) как о своей позиции (85b24–25).
2-й довод в пользу частного доказательства (85a31–85b3).
Универсальные доказательства создают мнение, что универсальное существует помимо единичного, например, создаются
мнения, что некий треугольник вообще существует помимо
единичных треугольников, фигура вообще – помимо единичных фигур, число вообще – помимо единичных чисел и т.д. В то
же время универсальное не существует помимо единичного.
Поскольку доказательство сущего лучше доказательства несущего, а доказательство, не порождающее ошибок, лучше доказательства, порождающего их, частное доказательство лучше.
Фактически в этом доводе высказывается опасение, что
универсальные доказательства могут породить платоническое
понимание природы геометрических объектов. При приведении этого довода Аристотель в качестве примера вновь обращается к теореме о перестановке накрест членов пропорции
(аналогии). А именно, он отмечает, что при универсальном
доказательстве теоремы о перестановке накрест членов аналогии (пропорции) мы имеем дело не с частными членами аналогии, т.е. не с линией, числом, геометрическим телом или плоскостью, а с чем-то аналогичным (и анонимным), что было бы
помимо всех их. Итак, Аристотель ставит здесь вопрос о бытии применительно к универсальной теории пропорций Евдокса.
Возражение на 2-й довод в пользу частного доказательства – 2-й довод в пользу универсального доказательства (85b
15–22). Во-первых, Аристотель приводит довольно интересный довод, который, к сожалению, должным образом не поясняет, а именно: если универсальное было бы каким-то единым
логосом, т.е. не омонимичным, то оно бытийствовало бы ничуть не в меньшей степени, чем что-либо из частного, но даже
246
в большей, так как оно содержит непреходящее, а частное скорее преходяще.
Во-вторых, универсальное существует не помимо многих, а так как существуют все остальные категории, кроме сути, т.е. так, как существуют качество, соотнесенность, действие и т.д. Это означает, во-первых, что универсальное не
есть сущность, и во-вторых, что оно существует не помимо
многих (to< e[n para< polla>), а на основании многих (to< e[n kata< pollw~n). Это и есть принципиальное решение Аристотеля,
касающееся бытия первого универсального. Об этом способе
бытия Аристотель пишет в An. Post. I 11 (см. также [167, с. 26–
27]. Здесь надо отметить, что хотя первое универсальное и не
сущность, оно и не обычное присущее (с логической точки
зрения, не обычный предикат), ибо первое универсальное выступает в качестве подлежащего доказываемого положения. О
выражениях «единое для многих», «единое помимо многих»,
«единое на основании многих» см. [167, прим. 56, с. 166–167],
а также в § 1.2.2 в комментарии к строке 100a7. Прокл, как мы
уже отмечали, рассматривает проблематику существования
универсального во «Втором прологе» к «Комментариям к первой книге “Начал” Евклида», в фр. (50.16–56.22).
3-й довод в пользу универсального доказательства (85b
23–27). Доказательство есть силлогизм, показывающий причину, т.е. показывающий, почему предикат заключения силлогизма присущ субъекту заключения; первое универсальное и
есть причина присущности доказываемого предиката всем
частным субъектам (в эпистемическом силлогизме 1-го типа;
см. § 6.2.3); поэтому доказательство присущности предиката
первому универсальному подлежащему лучше, ибо оно дает
причину для всех остальных частных доказательств.
Знакомясь с 3-м доводом, надо иметь в виду то, что мы
писали в предудущей части данной главы. Во-первых, мы можем доказать, например, что сумма внутренних углов равностороннего треугольника равна двум прямым. Во-вторых, мы
можем доказать, что сумма внутренних углов просто треугольника равна двум прямым. И это будут разные доказательства. Но если мы доказали второе из названного, то первое
доказательство становится в определенном смысле необязательным, ибо мы можем теперь доказать то же положение
иначе. А именно: треугольник имеет два прямых угла, равно-
247
сторонний треугольник есть треугольник; следовательно, равносторонний треугольник имеет два прямых угла. Первое универсальное подлежащее универсального доказательства (в
данном случае – «треугольник») становится причиной присущности предиката любому частному субъекту (в данном
случае – равностороннему, равнобедренному и разностороннему треугольникам). Поэтому, если мы дали универсальное
доказательство, тем самым мы получили причину для всех
частных доказательств. Именно об этом идет речь в 3-м доводе.
4-й довод в пользу универсального доказательства (85b
27–86a3). Мы ищем причину до тех пор, пока не найдем крайнюю предельную причину. А для всех частных субъектов эта
причина и будет первым универсальным субъектом. Поэтому
универсальное доказательство лучше частного. Дж. Барнс
справедливо отмечает, что этот довод тесно связан с предыдущим [17, с. 185]
5-й довод в пользу универсального доказательства (86a
3–10). Частное множественно и даже беспредельно, универсальное же имеет предел. Беспредельное не разумеется; разумеется имеющее предел. Следовательно, универсальное разумеется и доказывается в большей степени. Доказательство, соотнесенное с более доказываемым, в большей степени доказательство. Следовательно, универсальное доказательство в большей степени доказательство и тем самым лучше.
Дело в том, что, согласно Аристотелю, на основании
универсально доказанного положения «сумма внутренних углов треугольника равна двум прямым» мы можем обоснованно
приписать предикат «сумма внутренних углов, равная двум
прямым» не только равностороннему, равнобедренному и разностороннему треугольникам (т.е. единичным по виду треугольникам, число которых ограничено, т.е. предельно; хотя
возможно и иное деление треугольников по виду), но и любому единичному по числу, чувственно воспринимаемому треугольнику (число которых беспредельно). На это обстоятельство обращает внимание А.В. Бессонов:
…Классическая концепция истины в ее «классическом», аристотелевском варианте трактует действительность, которой должны
соответствовать истинные предложения, максимально широко,
включая в нее и чувственно воспринимаемые, и идеальные объекты [119, с. 10].
248
Надо отметить, что те же доводы – разумеется универсальное, единичное не разумеется – Аристотель приводит и в
«Метафизике» при обсуждении начал и причин сущего, поскольку оно сущее. Причем, применительно к сущности эти
доводы порождают апорию: если начала единичны, они не разумеются; если же начала универсальные – они не сущности
[167, с. 113–115]. Здесь же речь идет не о сущности, а о первом
универсальном, которое есть на основании многого, в том
числе и на основании многих (и по числу, и по виду) сущностей, о чем шла речь во 2-м доводе в пользу универсального
доказательства.
6-й довод в пользу универсального доказательства (86a
10–13). Имеющий универсальное доказательство, ведает и
частное; имеющей же частное доказательство, универсальное
не ведает. Поэтому универсальное доказательство предпочтительнее. Этот довод фактически является пояснением к 3-му
доводу (и 4-му, который тесно связан с 3-м). Дж. Барнс справедливо отмечает [17, с. 186], что 6-й довод, в свою очередь,
тесно связан с 8-м, к которому мы обратимся позднее.
7-й довод в пользу универсального доказательства (86a
13–21). Показывать более универсально – значит показывать
через среднее, которое ближе к началу. Ближе же всего – неопосредованное, это и есть начало. Таким образом, если изначальное доказательство, т.е. доказательство из начала, точнее,
чем не изначальное, то доказательство более изначальное точнее доказательства менее изначального. Таково же доказательство более универсального, значит, универсальное доказательство было бы сильнее. Например, если надо доказать, что А
присуще D, а в качестве средних выступают термины В и Г, В
же ближе к А, то доказательство через В универсальнее.
Широко известно, что Аристотель различает причины
эйдетические (формальные), целевые (конечные), движущие и
материальные. Реже вспоминают о том, что он различает также шесть способов существования причин (Met. V 2, 1014a15–
20): причины (1-1) единичные и (1-2) их род, (2-1) причины по
совпадению и (2-2) их род, (3-1) причины сплетенные и (3-2)
простые, причем каждый из шести вариантов существует как
динамически (в возможности), так и энергийно (в осуществлении), т.е. вообще у Аристотеля насчитывается двенадцать способов существования причин. А если учесть, что этими двена-
249
дцатью способами существует четыре вида причин, то в целом
окажется сорок восемь вариантов причин.
В 7-м доводе Аристотель имеет в виду различение причин на единичные и их роды. С логической точки зрения в качестве рода единичной причины могут выступать несколько
терминов разной степени универсальности, образующих ряд
убывающей универсальности. Буквенный пример, который
Аристотель приводит в данном фрагменте, имеет следующий
смысл:
мы допускаем АаВ, ВаГ, ГаD;
нам надо доказать АаD;
возможны два доказательства:
АаВ, ВаD├ АаD и АаГ, ГаD├ АаD.
Доказательство (АаВ, ВаD├ АаD) универсальнее доказательства (АаГ, ГаD├ АаD), ибо В ближе к А, т.е. причина В
универсальнее причины Г. Дж. Барнс [17, с. 186] отмечает, что
в обоих доказательствах присутствуют опосредованные посылки: в первом случае ВаD, во втором – АаГ. Отсюда он делает вывод, что Аристотель без аргументации допускает, что
лучше иметь неопосредованную бόльшую посылку, чем неопосредованную меньшую.
8-й довод в пользу универсального доказательства (86a
22–29). Имея предшествующую посылку, мы определенным
образом ведаем и последующую, а именно ведаем ее в возможности. Например, если кто-то ведает, что сумма внутренних углов всякого треугольника равна двум прямым, в возможности он ведает и то, что сумма внутренних углов равнобедренного треугольника равна двум прямым. Тот же, кто ведает только последующую посылку, предшествующую не ведает, ни в возможности, ни деятельно. В 8-й главе мы подробно разберем вопрос, касающийся аристотелевской дистинкции
разумения как способности (разумения в возможности) и как
деятельности. А пока лишь отметим, что этот довод тесно связан с 6-м. Аристотель считает его самым убедительным.
9-й довод в пользу универсального доказательства (86a
29–30) очень краток: универсальное мыслимо, а частное оканчивается чувственным восприятием.
Суть довода такова.Доказывающее знание мыслимо, а
значит, оно должно иметь дело с мыслимым. Надо отметить,
что вообще-то частное может быть разной степени частным.
Единичное по виду, будучи частным по отношению к роду,
250
само может быть мыслимым. И тем не менее в конечном итоге
частное сводится к чувственно воспринимаемому. Универсальное же доказательство имеет дело исключительно с мыслимым, поэтому оно лучше.
Таким образом, мы имеем девять доводов в пользу универсального доказательства. Из них самостоятельное значение
имеют 1-й довод (показывающий, что нечто присуще само по
себе, или же поскольку само, универсальному, а не частному),
2-й довод (решающий проблему бытия универсального подлежащего доказываемого заключения), 5-й довод (беспредельное не разумеется, частное же – беспредельно). Доводы же 3-й,
4-й, 6-й, 7-й и 8-й связаны друг с другом: в 3-ем доводе говорится о том, что первое универсально выступает в качестве
причины присущности предиката частным субъектам; в 4-м –
о том, что это предельная причина, а поиск всегда идет до
предела; в 6-м – о том, что, зная универсальное доказательство, мы знаем частное; в 7-м – о том, что первое универсальное по логическому объему ближе к предикату, присущность
которого доказывается; в 8-м все вышесказанное объясняется
через введение дистинкции разумения в возможности (как
способности) и деятельного. 9-й довод можно рассматривать
как приложение к 8-му или самостоятельно.
* *
*
Итак, при доказательствах Аристотель настоятельно рекомендует не ограничиваться суждениями типа «А присуща
всякой В», а стремиться переходить к суждениям типа «А присуща В, поскольку оно В». При буквенной записи АаВ эта разница не учитывается. Универсализация подлежащих доказываемых заключений может происходить как в границах той же
эпистемы, так и выходить за границы данной эпистемы, конституируя тем самым новую эпистему, с другой предметностью. В последнем случае речь идет о том, что в исходной
эпистеме, например, арифметике или геометрии, мы можем
встретиться с неким универсальным знанием, которое обнаруживается в исходной эпистеме (тех же арифметике или геометрии) частным образом. В пределе подобная универсализация знания приводит к теоретическому рассмотрению сущего
и единого, поскольку они сущее и единое, т.е. к конституированию первой философии (метафизики), эпистемы со своей
251
предметностью, со своим содержанием, со своими методами
постижения своего предмета.
Мы исходим из того, что Аристотель различает общее
(koinh>) и универсальное (kaqo>lou). Если общее есть как другое по роду или по виду, то универсальное есть на основании
многих. Общее противопоставляется своему в интенсиональном контексте, универсальное противопоставляется частному
в экстенсиональном контексте.
252
АНАЛИТИКА:
ПРИМЕНЕНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
В разделе «Эстетика» мы уже рассмотрели учение Аристотеля о чувственном восприятии, опыте и соотношении
опыта и ума. В разделе «Эссенциализм» мы говорили о подходе Аристотеля к разделению родов на виды на основании различий и к определению родов и видов. В разделе «Аналитика:
Обретение универсального знания» мы изучали аристотелевский подход к причинному объяснению. Теперь мы приступаем к последнему этапу познания, согласно Аристотелю, – применению универсального знания к частным случаям. Применённое знание Аристотель называет деятельным (энергийным)
знанием. Мы познакомимся с аристотелевским пониманием
деятельного знания на материалах An. Pr. II 21. О применении
универсального знания к частным случаям уже шла речь в
книге «Философский язык Аристотеля» § 8.4 [168, с. 299–307].
Ниже мы продолжим эту тему.
8. АРИСТОТЕЛЬ
ОБ УНИВЕРСАЛЬНОМ, ОБЫДЕННОМ
И ДЕЯТЕЛЬНОМ ЗНАНИИ
В «ПЕРВОЙ АНАЛИТИКЕ» II 21
Аристотель различает приобретение универсального
знания и применение универсального знания к частным
случаям. Нас в данной главе будет интересовать прежде всего
второе – применение универсального знания, что на языке
Аристотеля называется «деятельным знанием» (hJ ejpisth>mh wJv
ejnergei>a| – букв. знание как деятельность)36. О деятельном знании Аристотель ведет речь, в частности, в An. Pr. II 21. Существующие истолкования соответствующего фрагмента этой
36
В англоязычном аристотелеведении «деятельное знание» учитывается
как exercising knowledge.
253
главы и комментарии к нему нам представляются спорными.
Цель данной главы – уточнить аристотелевское понимание
«универсального» (kaqo>lou), «обыденного» (oijk-ei~n) и «деятельного» знания и внести соответствующие поправки к комментариям к фрагменту An. Pr. II 21, 67a8–67b11.
8.1. Аристотель о деятельном знании
за пределами An. Pr. II 21
Прежде чем приступить к An. Pr. II 21, 67a8–67b11,
вспомним, чтό вообще Аристотель говорит о деятельном знании. Из вторичной литературы широко известно, что Аристотель в своей онтологии разделяет сущее в возможности и сущее в действительности. Меньше внимания в той же вторичной литературе уделяется тому обстоятельству, что возможность присутствует у Аристотеля двояко, как возможность
возникновения (возможность как материя сущности, possibilitas) и как возможность-способность движения, или же изменения, уже возникшего (potentia). А.Ф. Лосев пишет по этому поводу:
Нельзя сказать, чтобы Аристотель дал вполне четкую формулировку этих двух совершенно различных моментов. Однако они у
него настолько ярко противопоставляются один другому и сопровождаются настолько ясными примерами, что смешивать их
значило бы просто не усваивать всей проблемы [144, с. 97]37.
С двоякостью возможности у Аристотеля мы встречаемся и в связи со знанием. Он пишет об этом в De An. II 5 и
Phys. VIII 4. Рассмотрим оба соответствующих фрагмента.
В De An. II 5 Аристотель ведет речь о чувственном восприятии
как способности (hJ memei) и как деятельности (hJ de< wJv
ejnergei>a|). Однако в этой же главе есть фрагмент, касающийся
эпистемы (знания, разумения). Мы рассмотрим именно его.
417a21–22: Нам надо произвести разделение возможности (duna>mewv) и действительности (ejntelecei>av), ибо ныне мы говорили о них просто.
417a22–29: Ибо, во-первых, есть нечто знающее (ejpisth~mo>n) так,
как мы бы назвали человека знающим (ejpisth>mona), потому что
человек из [рода] знающих и имеющих знание; во-вторых, [так],
37
Отметим, что В.Ф. Асмус [114] и А.Н. Чанышев [197] в своих изложениях философии Аристотеля двоякость «возможности» должным образом не
учитывают.
254
как мы называем знающим грамотного [человека, т.е. человека,
владеющего грамматикой]; в каждом из этих двух [случаев] возможность [присутствует] не тем же способом: в первом случае
[знание возможно], потому что род и материя [человека] таковы,
во втором же случае, потому что [человек], пожелав, способен
(dunato; но
один [становится знающим], превращаясь через обучение, т.е. часто изменяясь из [одного] уклада в противный; другой же, владеющий арифметикой или грамматикой, [становится знающим]
иным способом, [переходя] от недеятельного [владения тем или
иным знанием] к деятельному.
В этом фрагменте Аристотель разделяет знание в возможности (в двух вариантах) и знание в деятельности. Одно
дело, когда человек способен знать, потому что он способен
приобрести знание; другое дело, когда человек способен знать,
потому что он способен применить уже приобретенное знание;
и третье дело – деятельное знание, т.е. применение уже приобретенного знания [168, с. 70].
Схожее содержание имеет фрагмент Phys. VIII 4, 255a
33–b5:
255a33–34: Иначе [знает] в возможности учащийся, знающий [в
возможности], и тот, кто уже владеет [знанием], но деятельно его
не [применяет].
255a34–255b5: Всегда, когда действующее и претерпевающее
суть вместе, возможное становится деятельным, например учащийся из возможно знающего становится по-другому возможно
знающим (ибо владеющий знанием, но [теоретически] не созерцающий, есть каким-то образом знающий в возможности, но не
таким [способом], как до обучения); и когда [человек] так владел
бы [знанием, т.е. был бы уже обученным], если бы ничто не мешало, [становится] деятельным и [теоретически] созерцающим,
или он будет в противоречии [со своей способностью] и в неведении.
В этом фрагменте мы вновь встречаемся с аристотелевским разделением знания в возможности (в тех же двух вариантах) и деятельным применением знания. Обратим внимание
на глагол qewrei~n (созерцать), к корню которого (с точки
зрения словообразования) восходит современное слово «теория». В обоих вышеприведенных фрагментах мы перевели его
255
как «[теоретически] созерцать». В этих фрагментах Аристотель указывает этим глаголом на деятельное применение уже
имеющегося знания.
А теперь обратимся собственно к An. Pr. II 21. Нас будут
интересовать, прежде всего, гносеологические особенности деятельного знания.
8.2. Перевод и комментарий
An. Pr. II 21, 67a8–67b11
Вообще, в An. Pr. II 21 речь идет о возможных ошибках
при допущении силлогических посылок (66b18–19):
Иногда получается [так, что] как при постановке терминов ошибаемся, так и на основании допущения (kata< thlhyin)
возникает ошибка, ...38
Следует обратить внимание на то, что речь идет об
ошибке (hJ ajpa>th), а не о лжи (to< yeu~dov). Однако нас будут
интересовать не столько сами ошибки, сколько один пример,
который Аристотель рассматривает в качестве пояснения одного из вариантов подобных ошибок (67a8–30), а также часть
последующего текста, в котором говорится о «деятельном знании» (67a30–67b11).
Итак, Аристотель пишет в An. Pr. II 21, 67a8–67b11:
67a8–11: Ибо такая ошибка сходна [с тем], как ошибаемся касательно частного, например, если всему, чему [присуще] B, присуще A, B же всем Г, [то] A будет присуще всем Г.
67a11–12: Если же кто-то ведает, что A присуще всему, чему присуще B, [то он] ведает и [то], что [A присуще] Г.
67a12–14: Однако ничто не мешает не ведать, что Г есть [т.е. не
познать: есть ли Г], например, если A [означает] два прямых [угла], В же – треугольник, а Г – чувственно воспринимаемый треугольник.
67a14–16: Ибо если бы кто-то принял, [что] Г нет, ведая, что всякий треугольник содержит два прямых угла, то он то же вместе
и будет ведать (ei]setai), и не будет ведать (ajgnoh>sei).
67a16–19: Ибо вéдение [того, что углы] всякого треугольника
[равны] двум прямым, не есть простое; но, с одной стороны, это
[вéдение] благодаря обладанию кафолическим знанием, с другой
стороны, единичным.
38
Р. Смит справедливо указывает, что ошибки «при постановке терминов» Аристотель рассматривает также в An. Pr. I 33 [20, с. 213].
256
67a19–21: Так, с одной стороны, ведает Г ([т.е. ведает], что [у Г
углы равны] двум прямым) благодаря кафолическому [знанию]; с
другой стороны, не ведает – благодаря единичной; поэтому не
будет иметь противностей.
67a21–22: Сходно [следует истолковывать] довод в «Меноне»,
что учеба есть припоминание.
67a22–24: Ибо никогда не получается знать единичное заранее
[А Г], а [получается] принять знание о частном [А Г] вместе с
наведением [В Г], как бы узнавая [единичное] [В Г].
67a24–25: Ибо о некоторых сразу ведаем, например, что [углы
равны] двум прямым [А Г], если бы увидели, что [это] треугольник [В Г].
67a26: Сходно же и для иных.
67a27–30: [Ведая] кафолически, [теоретически] созерцаем частное, обыденно же [частное] не ведаем; таким образом можно и
ошибиться [относительно] него [т.е. частного], однако, не [впадая] в противность; но, имея кафолическое [знание], ошибаться
[относительно] частного.
67a30–33: Сходно и с вышеприведенными [посылками]; ибо ни
ошибка на основании среднего не противна знанию на основании
силлогизма, ни допущение на основании каждого из двух средних [не противно знанию на основании силлогизма].
67a33–37: Ничто не мешает, ведая, и что А присуще в целом В, и
опять же, что это [В] – Г, думать, что А не присуща Г, например,
что всякая самка мула бесплодна, и [что] это – самка мула, [и]
думать, что она зачала; ибо без совместного созерцания (sunqewrw~n) обеих [посылок] не разумеется, что А [присуще] Г.
67a37–39: Таким образом, ясно, что если одно ведает, а другое не
ведает, обманется; как [раз так] имеются кафолические [знания]
относительно знаний на основании части.
67a39–67b3: Ибо о чувственно воспринимаемом, вне чувственного восприятия оставшемся, ничего не ведаем, даже если бы нам
случалось чувственно воспринимать, разве что кафолически, и
имея обыденное знание, но не деятельно.
67b3–5: Ибо «знать» говорится трояко: или кафолически, или
обыденно, или деятельно, так что и ошибаться [можно] столькими [же способами].
67b5–7: В самом деле, ничто не мешает и ведать, и ошибаться относительно того же, однако не противно.
67b7–8: Так получается [у того, кто], ведая каждую из двух посылок, не рассмотрел [их] раньше [вместе].
67b8–11: Ибо он, принимая [допущение] «самка мула зачала», не
имеет деятельного разумения, но не из-за допущения ошибки,
противной эпистеме: ибо ошибка, противная кафолическому –
силлогизм.
257
Суть этого фрагмента сводится к строкам (67b3–5):
Ибо «знать» говорится трояко: или кафолически [т.е. универсально], или обыденно, или деятельно, так что и ошибаться [можно]
столькими [же способами].
Существующие переводы всех трех вариантов знания мы
представили в табл. 8.1.
Таблица 8.1
Переводчики
Дженкинсон
[19]
Фохт [80]
Микеладзе [88]
Смит [20]
An. Pr. II 21, 67b3–5
wJv th~| kaqo>lou wJv th~| oijkei>a| –
– универсально
обыденно
knowledge
knowledge of
proper to the
the universal
matter in hand
[знание] общее
частное
общее знание
частное
as knowing by
means
of universal
knowledge
knowing by
means of the
peculiar
knowledge of
something
wJv tw~| ejnergei~n
– деятельно
to exercise
such knowledge
действительное
знание
в действии
as knowing by
means
of exercising
knowledge
«Кафолически» значит универсально. Что значить «знать
универсально»? Это значит обладать универсальным знанием,
например, обладать умозаключением АаВ, ВаГ ├ АаГ (Г в данном случае обозначает универсальный термин). В 7-й главе мы
различали универсальные и частные доказательства. Эти доказательства различались тем, что в универсальных доказательствах меньший крайний термин был первой универсалией, а в
частных – просто универсалией. Здесь же знание (эпистема)
называется универсальным в другом смысле. Чтобы быть универсальным, знанию не обязательно быть на основании первой
универсалии, достаточно быть на основании просто универсалии. Мы еще вернемся к истолкованию универсального знания
в дальнейшем.
Что значит «знать деятельно»? Это значит применить
универсальное знание к частному случаю, например, сделать
умозаключение АаГ, Гg ├ Ag. Аристотель в разных фрагментах
обозначает заглавной буквой Г и универсальные термины, и
единичные. Мы же для наглядности, как и в [168, с. 299–307],
универсальные термины обозначаем заглавной буквой Г, а
258
единичные, входящие в логический объем универсальных,
строчной буквой g39.
Что значит «знать обыденно»? Это значит «знать» Ag без
всякого умозаключения, т.е. ведать об этом на основании обыденного опыта.
Ошибочным было бы знание «А не присуще g». Почему
это ошибка, а не ложь? Для АаГ ложью было бы АоГ, ибо
именно АоГ противоречит АаГ. «А не присуще g» не противоречит АаГ, потому что в этих суждениях субъекты разные.
Что значит «ошибаться можно столькими же способами»? Ошибочное знание «А не присуще g» можно получить
трояко:
1) применить к частному случаю ложное универсальное знание
(АеВ, ВаГ├ АеГ), т.е. умозаключить АеГ, Гg├ «A не присуще g»;
2) ошибиться при применении универсального знания, т.е. умозаключить АаГ, «Г не есть g» ├ «A не присуще g»;
3) ошибочно подумать без всякого умозаключения, т.е. обыденно,
что «A не присуще g».
Проиллюстрируем также наше истолкование этого положения аристотелевским примером из этой же главы (67a33–
37, 67b8–11):
Универсальное знание: всякая самка мула бесплодна.
Индуктивная посылка: вот это – самка мула.
Деятельное знание: если всякая самка мула бесплодна, а вот это –
самка мула, то она бесплодна.
Обыденное знание: эта самка мула бесплодна.
Ошибка универсального знания: не всякая самка мула бесплодна.
Ошибка деятельного знания: если всякая самка мула бесплодна, а
это – самка мула (а на самом деле это – ослиха), то она бесплодна.
Ошибка обыденного знания: эта самка мула зачала.
Возможна еще одна познавательная ситуация:
Не всякая самка мула бесплодна, а это – самка мула, и она зачала.
В данном случае мы имеем дело с первым вариантом
ошибки, т.е. с ошибкой универсального знания.
39
Далее мы обозначаем единичные термины двояко: если делается перевод Аристотеля и комментарий к нему, то обозначение повторяет аристотелевское (Г); если же мы поясняем что-либо от себя, то единичные термины обозначаются строчной буквой (g).
259
Аристотель различает универсальное знание (АаВ, ВаГ ├
АаГ) и частное, или же единичное, будь то деятельное (АаГ, Гg
├ Ag) или обыденное (Ag). Вот тут и возникают спорные комментарии. Так, Р. Смит считает, что Аристотель в данной главе ведет речь о двух дистинкциях: о знании универсальном и
частном (universal and particular), и знании имеющемся и применяемом (т.е. о знании в возможности и деятельности). Он
пишет [20, с. 215, прим. к 67a38–67b11]:
Эти две дистинкции независимы друг от друга: и универсальное
знание, и частное знание может быть или применяемым, или
имеющимся, но не применяемым..., –
У Р. Смита получается, что при применении универсального знания к частному случаю (АаГ, Гg ├ Ag), посылка Гg
оказывается деятельным частным знанием, а заключение Ag –
деятельным универсальным знанием, что представляется нам
спорным. Более того, Гg оказывается у него еще и обыденным
знанием.
Применительно к рассмотренному выше примеру с самкой мула у него получается:
Индуктивная посылка: вот это – самка мула, – оказывается примером деятельного частного знания (хотя тут же он называет его
чувственным восприятием: the actual perception of sensible objects – «деятельное чувственное восприятие чувственно воспринимаемых предметов»).
Деятельное знание: если всякая самка мула бесплодна, а вот это –
самка мула, то она бесплодна, – оказывается примером деятельного
универсального знания (the actual making of inferences – «деятельное умозаключение»).
Отметим, что и в русских переводах An. Pr. II 21 не различают знание о частном (АаГ, Гg ├ Ag), обыденное знание
(Ag) и вторую (индуктивную) посылку подстановочных силлогизмов (Гg). Это приводит к тому, что в русских переводах
«обыденное» (oijkei~on) переводят как «частное» (см. табл. 9.1).
Там, где Аристотель пишет:
[Ведая] кафолически, [теоретически] созерцаем частное, обыденно же [частное] не ведаем», –
З.Н. Микеладзе (сходно и Б.А. Фохт) дает перевод (67a27–28):
Таким образом, зная общее, мы усматриваем частное, но через
само знание частного (th~| d∆ oijkei>a|) мы его не знаем [88].
Более того, «деятельное знание» Б.А. Фохт истолковывает следующим образом [80, прим. 11 к An. Pr. II 21]:
260
Действительное [т.е. деятельное. – Е.О.] знание, по Аристотелю,
есть соединение знания общего со знанием частного (с чувственным восприятием). Это соединение знания общего (знания большей посылки) со знанием частного (знанием меньшей посылки)
происходит, говорит Аристотель, через средний термин.
В данном случае Б.А. Фохт называет «частным знанием»
вторую (индуктивную) посылку деятельного силлогизма, т.е.
посылку: вот это – самка мула.
Далее в данной главе мы рассмотрим, что есть «частное
знание» у Аристотеля, затем – что есть «обыденное знание».
И, наконец, – что собой представляет вторая (индуктивная посылка) подстановочного силлогизма.
8.3. Что есть частное и обыденное знание
и индуктивная посылка
В 7-й главе «Доказательства и “первые универсалии”»
мы уже писали, что у Аристотеля надо различать частное суждение (А присуща некоторым В) и частное доказательство (а
доказательство есть эпистема, т.е. знание). Частность и универсальность доказательства (и знания) не зависят от частности или универсальности заключения доказывающего силлогизма, они зависят от универсальности субъекта заключения.
Вообще, аристотелевское противопоставление «универсальное – частное» относительно. Если равнобедренный треугольник – частный по отношению к треугольнику вообще, то
равнобедренный треугольник вообще по отношению к единичному по числу чувственно воспринимаемому вот этому равнобедренному треугольнику – универсальный. Более того, выражения to< kata< me>rov (частное) и to< kaq∆ e[kaston (единичное) на языке Аристотеля могут означать «частное по числу,
по виду и по роду», «единичное по числу, по виду и по роду».
В An. Pr. II 21 Аристотель отождествляет знание о частном со
знанием о единичном, т.е. употребляет слово «частное» в смысле «частное по числу». Выражения «частная посылка» и «единичная посылка» означают у Аристотеля разное; а выражения
«эпистема о частном (по числу)» и «эпистема о единичном
(по числу)» означают с формально-логической точки зрения
одно и то же (единичную посылку), а с эпистемической точки
зрения – или заключение подстановочного силлогизма, или
единичное допущение без всякого силлогизма. Выражения,
261
указывающие у Аристотеля на «субъект» эпистемы о частном,
мы представили в табл. 8.2 и 8.3.
Таблица 8.2
torei, torov – частное
Переводчики
67a9
67a23-24
67a27
concerning
particulars
при частных [суждениях]
of the particulars
the particulars
о частном
частное
Микеладзе
[88]
в отношении
частного
частного
частное
Смит [20]
particular
premises
касательно
частного
of the
particulars
о частном
the
particulars
частное
Дженкинсон
[19]
Фохт [80]
Предлагаемые пер.
67a30
in apprehending
the particular
относительно
частного
[знания]
относительно
частного
about
the particular
[относительно] частной
[эпистемы]
Таблица 8.3
Переводчики
Дженкинсон
[19]
Фохт [80]
Микеладзе [88]
Смит [20]
Предлагаемые
пер.
to< kaq∆ e[kaston – единичное
67a18-19
67a20
with
of the
a
knowledge
of
particulars
the particulars
знание
через [знание]
о частном
частного
знание
зная частное
частного
in virtue of
as by means of
having
the particular
the particular
knowledge
knowledge
[благодаря
благодаря
обладанию]
единичной
единичной
[эпистеме]
[эпистемой]
67a22-23
the particular
единичное
единичное
the particular
единичное
При чтении An. Pr. II 21 мы считаем нужным отличать
«знание о частном» или же «единичную [эпистему]» от «обыденного знания». Как «обыденное» мы переводим аристоте-
262
левское oijkei~n. В «Греческо-русском словаре» А.Д. Вейсмана
[123] мы находим следующие переводы прилагательного oijkei~n (от сущ. oJ oi+kov – дом):
1) домашний, родственный, родной; собственный, свой, частный;
2) приличный, подобающий, свойственный.
Это общеупотребительные значения указанного прилагательного в естественном (для античных эллинов) древнегреческом языке. Нас же интересует употребительное значение
этой лексемы в философском языке Аристотеля. Слово oijkei~on желательно отличать от аристотелевских слов и выражений to< kata< me>rov (или to< ejn me>rei) (частное), to< kaq∆ e[kaston (единичное), к которым мы обратимся далее, а также от
i]dion (свое) и to< i]dion (свойство). Поэтому мы предлагаем
перевод «обыденное», который, отличаясь от вышеперечисленных слов, отчасти содержит смыслы «домашнее», «свойственное», и в то же время слово «обыденное» используется в
философском словаре при противопоставлении теоретического и обыденного познания. Аристотель, употребляя лексему
oijkei~on, имеет в виду нечто аналогичное именно этой гносеологической дистинкции. Перевод этот предлагается прежде
всего для An. Pr. II 21. В других главах «Аналитик» и других
работах Аристотеля этот перевод, возможно, будет неудобен
стилистически или по иным соображениям. Сами мы переводим oijkei~on в других местах как «свойственное» (но не
«свое»). Отметим, что английские переводы proper и peculiar
фактически не отличают «обыденное» (oijkei~on) от «своего»
(i]dion), которое на английский язык также переводят как
proper и peculiar. Существующие переводы oijkei~on (обыденное) мы представили в табл. 8.4.
Для истолкования «обыденного знания» полезно обратиться к фрагменту 67a27–30 (в котором подводится итог
предыдущего фрагмента 67a8–26):
[Ведая] кафолически, [теоретически] созерцаем частное, обыденно же [частное] не ведаем (Th~| melou qewrou~men ta<
ejn me>rei, th~| d∆ oijkei>a| oujk i]smen); таким образом можно и ошибиться [относительно] него [т.е. частного], однако, не [впадая] в
противность; (67a29–30) но, имея кафолическую [эпистему],
ошибаться [относительно] частной (ajll∆ e]cein mesqai de< th~| kata< me>rov [throv]).
Здесь требуется комментарий к редакции древнегреческого текста 67a29–30. Р. Смит указывает [20, с. 215], что в
263
этой фразе артикль ththn), отмечая, что глагол ajpata~sqai часто требует
однокоренное существительное как прямое дополнение (как в
An. Post. I 5, 74a6), т.е. он ведет речь об аккузативе внутреннего объекта (аккузативе содержания). Однако, считает Р. Смит,
это еще могло бы означать «частное знание» (по сравнению с
«кафолическим» несколькими словами ранее). Мы согласны с
Р. Смитом. В этом случае конъектура не требуется.
Таблица 8.4
Переводчики
Дженкинсон
[19]
Фохт [80]
Микеладзе
[88]
Смит [20]
Предлагаемые
пер.
oijkei~on – обыденное
67a27–30
67a39–67b3
by the kind of
the knowledge
knowledge
which is proper
which is proper
to the particular
to them
через само зназнание частноние частного
го
через само зназнание частноние частного
го
in virtue of their
peculiar
peculiar
knowledge
knowledge
обыденно
обыденное
знание
67b3–5
proper to the
matter in hand
частное
частное
peculiar
knowledge of
something
обыденно
Обратим внимание на противопоставление, которое делает Аристотель в этом фрагменте: с одной стороны, «[ведая]
кафолически» (соответствует способности к разумению в
смысле владения уже приобретенным знанием), «[теоретически] созерцаем частное» (соответствует деятельному разумению, т.е. применению уже приобретенного знания к частному
случаю), – с другой стороны, «обыденно же [частное] не ведаем». Получается, что Аристотель противопоставляет «обыденное вéдение» «теоретическому созерцанию» (т.е. применению
уже приобретенного знания к частным случаям). Дело в том,
что о частном (по числу) мы можем высказываться двояко:
или, владея уже приобретенной эпистемой, применить ее к
частному случаю и тем самым получить заключение о част-
264
ном, или, не владея никакой эпистемой, сделать допущение о
том же частном.
Например, доказав теорему о том, что сумма внутренних
углов всякого треугольника равна двум прямым углам, мы
можем применить ее (через индукцию и умозаключение) к вот
этому треугольнику; в этом случае мы будем, говоря словами
Аристотеля, «[теоретически] созерцать», что «сумма углов вот
этого (т.е. начерченного нами) треугольника равна двум прямым» (А g). Однако мы можем, не доказывая никакой теоремы,
аккуратно начертить треугольник и измерить с помощью транспортира его внутренние углы и тем самым с некоторой степенью точности сказать, что «сумма углов вот этого (т.е. начерченного нами) треугольника равна двум прямым» (А g). Однако это высказывание не будет эпистемой, если под эпистемой
иметь в виду некий силлогизм. Аристотель пишет в An. Post.
I 31, 87b34–37:
...Очевидно, что нет знания через чувственное восприятие, однако ясно, что если и воспринималось бы чувственно, что треугольник имеет углы, равные двум прямым, искали бы доказательство, а не знали бы [уже], как говорят некоторые...
В этом смысле Аристотель и пишет в 67a27–30, что то,
что мы теоретически созерцаем, обыденно не ведаем, т.е. обыденно не знаем («обыденно» – значит «без силлогизма», без
предварительно приобретенного знания).
В 67a27–28 «обыденное вéдение» упоминается лишь отрицательно («обыденно не ведаем»). Позднее же, в 67b2–3 и
b4, об «обыденном знании» говорится положительно: «имея
обыденное знание», «знать ... обыденно». Слова «знать», «знание» здесь используются Аристотелем с некоторой степенью
условности. Речь идет о высказываниях о частном, которые
мы допускаем без всякого предшествующего знания (силлогизма). Важно иметь в виду, что одно и то же высказывание о
частном, например Аg, может оказаться или заключением силлогизма (А Г, Гg ├ А g) (при теоретическом созерцании), или
единичным допущением (А g) безотносительно к какому-либо
силлогизму (при обыденном знании).
А теперь давайте обратимся ко второй индуктивной посылке подстановочного силлогизма, посредством которого
осуществляется деятельное знание. Как мы уже отмечали, с
формально-логической точки зрения обыденное знание (Аg),
вторая индуктивная посылка деятельного силлогизма (Гg) и
265
частное знание (Аg) (имеется в виду заключение деятельного
силлогизма АаГ, Гg ├ Аg) выглядят одинаково, как единичное
суждение. Однако для Аристотеля между ними есть разница.
В статье «К вопросу о «двух типах предикации» у Аристотеля» мы писали, что комментаторы различают у Аристотеля так называемую сильную (Сократ – человек) и слабую
(Сократ – белый) предикацию [166, с. 41]. С точки зрения Аристотеля, речь идет о двух разных типах высказываний, хотя
современным комментаторам эта дистинкция не всегда представляется убедительной. В трактате «Категории» эти два типа
предикации различаются так: слабый предикат называется качеством, а сильный предикат – качеством сущности, а далее
утверждается, что в случае качества сущности о подлежащем
говорится как имя вида (и рода), так и определение вида,
например, если Сократ человек, а «человек», допустим, «животное двуногое», то можно сказать, что Сократ есть животное
двуногое; в случае просто качества имя качества можно говорить о подлежащем, а определение имени – нет. Например,
если мы говорим, что Сократ белый, а «белое» определяем как
«цвет, рассеивающий зрение», то мы не можем сказать, что
Сократ есть цвет, рассеивающий зрение [166, с. 42]. Далее
дистинкция качества сущности и просто качества переходит у
Аристотеля в важнейшую для его системы мышления дистинкцию присущего в сути и сопутствующего. В свете этих дистинкций вторая посылка «подстановочных» силлогизмов Гg
содержит в себе сильную предикацию, а обыденное и частное
знание Аg – слабую предикацию.
С гносеологической точки зрения вторая посылка «подстановочного» силлогизма Гg представляет собой «узнавание».
В книге «Философский язык Аристотеля» мы писали, что Аристотель называет «узнаванием» (gnwri>zein) особый вид познания (gignw>skein) [168, с. 48–53]. Узнавание у Аристотеля
сопряжено с наведением (индукцией) (об этом мы писали также в 1-й главе данной книги). Ибо Аристотель, в отличие от
современных специалистов, называет индукцией (наведением – hJ ejpagwgh>) не только переход от единичного к универсальному, но и обратный переход от универсального к единичному.
Таким образом, с гносеологической точки зрения, вторая
посылка «подстановочного» силлогизма (Гg) представляет со-
266
бой узнавание, сопряженное с наведением, в то время как
обыденное «знание» (Аg) представляет собой допущение, а
частное знание (Аg) – силлогистический вывод.
8.4. Применение универсального знания
и апория Менона
В связи с применением универсального знания к частному случаю Аристотель вспоминает об апории Менона (67a2126):
Сходно [следует истолковать] довод в «Меноне», что учеба есть
припоминание. Ибо никогда не получается знать единичное заранее [А Г], а [получается] принять знание о частном [А Г] вместе с
наведением (th~| ejpagogh~|) [В Г], как бы узнавая [единичное] [В Г].
Ибо некоторые сразу ведаем, например, что [углы равны] двум
прямым [А Г], если бы увидели, что [это] треугольник [В Г].
Сходно же и для иных.
Фрагмент An. Pr. II 21, 67a8–30 является ключевым для
дискуссии, касающейся истолкования аристотелевской индукции. А данный фрагмент (67a21–26) наиболее информативен в
этом смысле. Индукция упоминается в 67a23. У.Д. Росс считает, что в этом фрагменте Аристотель использует имя «наведение» нетехнически. Д. Хамлин же берет этот фрагмент за основу понимания аристотелевской индукции [47, с. 170–171].
Т. Энгберг-Педерсен, вслед за У.Д. Россом, рассматривает использование в этом фрагменте имени «наведение» как нетехническое [39, с. 303–304]40. С нашей точки зрения, он допускает неточность. Р. Мак-Кирэхэн считает, что использование в
данном случае имени «наведение» технично, но это не единственный вариант понимания индукции у Аристотеля. Мы согласны с последней точкой зрения.
Обратим внимание на переводы в данном фрагменте выражения th~| ejpagogh~|. А Дженкинсон (оксфордский пер.) дает
перевод – along with the process of being led to see the general.
Д. Хамлин считает такой перевод излишним [47, с. 170].
Р. Смит (1989) уже переводит by means of the induction. Следует заметить, что Б.А. Фохт (1952) переводит «индукция», а
З.Н. Микеладзе (1978) – «наведение».
40
В прим. 8 [39, с. 318] он пишет, что индукция в An. Pr. II 21, 67a23
означает то же, что и в Met. I 8, 989а33.
267
Речь в данном фрагменте, как и ранее, идет о применении уже имеющегося универсального знания к частному случаю. Это применение осуществляется с помощью силлогизма:
бóльшая посылка – универсальная (универсальное знание) – сумма углов всякого треугольника равна двум прямым;
меньшая посылка – единичная и индуктивная (узнавание термина) – вот это – треугольник;
заключение – единичное (деятельное знание) – сумма углов вот
этого треугольника равна двум прямым.
Интерес в данном случае представляет тот факт, что в
этом фрагменте в явном виде указываются два момента деятельного разумения: «принять эпистему о частном [А Г] вместе», «вместе с наведением, как бы узнавая (ajnagnwri>zontav)
[единичное] [В Г]». То есть, во-первых, мы заранее владеем
универсальной эпистемой, во-вторых, мы узнаем, что вот
это – треугольник («вместе с наведением, как бы узнавая»), втретьих, мы умозаключаем («принять эпистему о частном вместе»). Узнавание и умозаключение происходят «вместе», и тем
не менее это два разных момента деятельного разумения.
Итак, у Аристотеля следует различать деятельное знание, универсальное и обыденное. При этом надо отличать вторую посылку «подстановочного силлогизма» как от частного
знания, так и от обыденного.
268
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Аристотелевское решение апории Менона и его обсуждение во вторичной литературе затрагивает фактически все
составляющие процесса эпистемического познания, поэтому
мы рассматриваем его как итог исследования аристотелевского учения о достоверном знании.
9. АРИСТОТЕЛЕВСКОЕ РЕШЕНИЕ
АПОРИИ МЕНОНА
Со кр а т . ...О том, что такое добродетель, я ничего не знаю (oujk
oi+da – не ведаю. – Е.О.) . И все-таки я хочу вместе с тобой
поразмыслить (ske>yasqai) и поискать (suzhth~sai), чтo она такое.
Ме но н. Но каким же образом, Сократ, ты будешь искать
(zhth>seiv) вещь, не зная (mh< oi+sqa) даже, что она такое (o[ti
ejsti>n)? Какую из неизвестных (oujk oi+sqa) тебе вещей изберешь
(proqe>menov) ты предметом исследования (zhth>seiv)? Или если
ты в лучшем случае даже натолкнешься на нее, откуда ты узнаешь (ei]sh|), что она именно то, чего ты не знал (oujk h]|dhsqa)?
Со кр а т . Я понимаю (manqa>nw), что ты хочешь сказать, Менон.
Видишь, какой довод ты приводишь – под стать самым завзятым
спорщикам! Значит, человек, знает (oi+de) он или не знает (mh<
oi+de), все равно не может искать (oujk … e]stin zhtei~n). Ни тот,
кто знает (oi+den), не станет искать: ведь он уже знает (oi+den), и
ему нет нужды в поисках; ни тот, кто не знает (mh< oi+den): ведь он
не знает (oujde< … oi+den), чтo именно надо искать (пер. С.А. Ошерова).
Платон. «Менон», 80dе [171].
В данной главе речь пойдет о затруднении (апории) Менона: знаем ли мы или не знаем то, что ищем, исследуем, изучаем? Платоновское решение апории известно: познание есть
припоминание. А как отвечает на это вопрос Аристотель?
В явном виде Аристотель упоминает апорию Менона в
An. Pr. II 21 и An. Post. I 1. Комментаторы исходят из того, что
Аристотель решает эту апорию прежде всего с помощью
269
дистинкции универсального знания и применения универсального знания к частным случаям, т.е. с помощью дистинкции
знания в возможности и в деятельности. Исключение составляет подход Д. Бронштейна41. Мы рассмотрели дистинкцию
универсального знания и применения универсального знания в
8-й главе (см. также [168, с. 299–307]). Это решение представляется комментаторам ясным и само по себе не привлекает
особого внимания. К аристотелевскому решению апории Менона они обращаются в связи с решением других проблем,
возникающих при изучении философии Аристотеля, а именно,
при истолковании начал доказательства и индукции.
В 1929 г. Ф. Солмcен (F. Solmsen) предложил определенную аргументацию в пользу того, что «Вторая аналитика» по
времени написания и содержанию предшествует «Первой аналитике». Ф. Солмсену возразил У.Д. Росс (1949). В обновленном
виде позицию Ф. Солмcена представил в 1982 г. Дж. Барнс [30].
Из полемики Ф. Солмсена и У.Д. Росса вытекает, в частности,
дискуссия, касающаяся истолкования начал доказательства у
Аристотеля: выступают ли все начала доказательства силлогистическими посылками или нет? М. Фереджон отмечает, что
возможны два крайних варианта решения этой проблемы [42,
с. 375–376]: аристотелевская аподиктика тесно связана с силлогистикой и является строго аксиоматико-дедуктивной системой (в этом случае все начала доказательства выступают в
качестве посылок силлогизма), сторонников этой позиции М.
Фереджон называет строгими силлогицистами; аристотелевская аподиктика вообще не основывается на силлогистике в
строгом смысле слова (в этом случае не все начала доказательства выступают в качестве посылок силлогизмов), сторонников этой позиции М. Фереджон называет антисиллогицистами.
Согласно М. Фереджону, Ф. Солмсен, полагая, что во время
разработки Аристотелем «Второй аналитики» силлогистика
еще не была создана, склонился к антисиллогицизму. В каче41
В 2008 г. появилось сообщение, что в Университете Торонто Д. Бронштейн защитил диссертацию на тему «Учеба и апория Менона во “Второй аналитике” Аристотеля» (D. Bronstein. Learning and Meno’s Paradox in Aristotle’s
«Posterior Analytics». University of Toronto, 2008), в которой обосновывал, что
аристотелевское решение этой апории вышеназванной дистинкцией не ограничивается. Однако, насколько нам известно, текст этой диссертации не публиковался (остался на правах рукописи), и нам он недоступен. Опубликована была
только одна статья [32].
270
стве исследователя, позиция которого по данному вопросу
приближается к строгому силлогицизму, он называет Я. Хинтикку [50], в качестве же антисиллогициста – Дж. Барнса [30].
М. Фереджон обращается к аристотелевскому решению
апории Менона в контексте именно этой дискуссии: все начала
доказательства выступают силлогистическими посылками или
нет? М. Фереджон считает, что обе крайние позиции, т.е. строгий силлогицизм и антисиллогицизм в истолковании аристотелевской эпистемы, ошибочны, а свою позицию по этому
вопросу он называет умеренным силлогицизмом [42, с. 377].
Согласно этой позиции, аристотелевская аподиктика является
по существу силлогистической, но отсюда не следует, что все
начала доказательства являются силлогистическими посылками. М. Фереджон считает, что аристотелевское доказательство
включает в себя две ступени и только вторая из них силлогистическая, некоторые же начала доказательства играют свою
роль на начальной, предсиллогистической, ступени доказательства, которая восходит к платоновскому методу диайресиса (diai>resiv).
М. Фереджон обращается к аристотелевскому решению
апории Менона для выяснения отношения двух названных
ступеней доказательства в статье «Парадокс Менона и знание
de re в аристотелевской теории доказательства» [43]. Обратим
внимание на выражение «знание de re». «Знание de re» автор
статьи противопоставляет «универсальному знанию» (merely
universal and de re knowledge) [43, с. 99]. Он считает, что
именно эта дистинкция имеет определяющее значение для
аристотелевского решения апории Менона. Вообще-то нам,
как читателям, известна дистинкция de re – de dicto, которая
привлекается, в частности, при анализе проблем модальностей
(см., например, [196, с. 33–46]). Дистинкция же «универсального знания» и «знания de re» несколько озадачивает. «De re»
буквально означает «о вещи». Все говорит за то, что М. Фереджон называет «знанием de re» знание о частном (или же
единичном), например: сумма углов вот этого треугольника
равна двум прямым.
Сам Аристотель в An. Post. I 1 говорит о дистинкции универсального (kaqo>lou – кафолического) знания и просто (aJplw~v) знания (или же знания вообще), имея в виду различие
высказываний «сумма углов всякого треугольника равна двум
271
прямым» (универсальное знание) и «сумма углов вот этого
треугольника равна двум прямым» (простое знание). «Просто
знанием» он называет здесь то, что в An. Pr. II 21 называет
знанием о частном. Если иметь в виду разницу между примененным универсальным знанием к частному случаю (теоретическое созерцание, деятельное разумение) и единичным допущением (обыденное «знание»), о которой мы писали в 8-й главе, то речь в данном случае идет о первом из этих вариантов.
Отметим, что в выражении «знание de re» не учитывается
упомянутая дистинкция «деятельного знания» (или же «простого знания») и «обыденного знания». Выражение «просто
знание», или же «знание вообще» в иных аристотелевских
контекстах может иметь и другое значение. «Просто знание»
указывает на знание о частном в тех контекстах, в которых оно
противопоставляется универсальному знанию.
М. Фереджона интересует не столько само решение апории Менона (которое ему представляется, вероятно, очевидным), сколько роль, какую играет в аристотелевской эпистемологии дистинкция, введенная в связи с решением этой апории. Он считает, что предсиллогистическая ступень доказательства (результатом которой являются посылки доказывающего силлогизма) состоит в переходе от универсального знания к знанию de re [43, с. 109], т.е. в применении универсального знания к частному случаю. Более того, он отождествляет
дистинкцию универсального знания и знания de re с дистинкцией значения и сути, т.е. он считает, что эта дистинкция играет ключевую роль в предложенном в An. Post. II 3–10 решении вопроса об отношении между определением и доказательством [43, с. 100] (о дистинкции значения и сути см. [168,
с. 272–281].
Как мы уже отметили в § 8.4, с проблематикой аристотелевского решения апории Менона также тесно связана дискуссия, посвященная истолкованию аристотелевской индукции.
Дело в том, что наиболее спорными в этой дискуссии оказываются фрагменты, в которых Аристотель связывает индукцию (наведение) с решением именно апории Менона. К истолкованию аристотелевской индукции обращаются Д. Хамлин
[47], Т. Энгберг-Педерсен [39], Р. Мак-Кирэхэн [58]. Все они
так или иначе отправляются от суждений по этому вопросу
У.Д. Росса [27]. Последнийотмечал, что несмотря на то, что
272
Аристотель многократно подчеркивает важную познавательную роль индукции, он нигде и никогда подробно ее не рассматривает. Исключение составляет An. Pr. II 23. Однако в
этой главе речь идет о «полной» индукции, т.е. об особом виде
индукции. У.Д. Росс считает, что у Аристотеля нет единого
понимания индукции; по крайней мере, у Аристотеля следует
различать два варианта ее понимания, один из которых связан
с логическим выводом, а другой нет. При этом У.Д. Росс считает, что наряду с техническим использованием имени ejpagwgh> (эпагогэ – наведение, лат. – индукция) и однокоренных
глаголов Аристотель употребляет эти лексемы и нетехнически
(в частности, он считает нетехническим упоминание «индукции» в An. Pr. II 21 и An. Post. I 1 [27, с. 47, 481–483], т.е.
именно в тех местах, где Аристотель в явном виде связывает
«наведение» с апорией Менона.
Д. Хамлин, считая, что аристотелевская индукция понимается комментаторами так, будто Аристотель сделал вклад в
«логику научного открытия» в попперовском смысле (с чем он
не согласен), предлагает рассматривать аристотелевскую индукцию в контексте аристотелевского решения апории Менона. Как мы уже писали (в § 8.4), за основу он берет фрагмент
из An. Pr. II 21, начинающийся с 67a21 (т.е. именно тот фрагмент, который У.Д. Росс относит, с точки зрения индукции, к
нетехническим), согласно которому индукция включена в процедуру применения универсального знания к частным случаям, но не обосновывает само знание [47, с. 170].
Т. Энгберг-Педерсен полемизирует прежде всего с У.Д. Россом, предлагая определенную аргументацию в пользу того, что
у Аристотеля есть единое понимание индукции, в An. Pr. II 23
речь идет об обычной (а не полной) индукции, и вообще Аристотель не связывает где-либо индукцию с логическим выводом (что характерно, с его точки зрения, для современных
концепций индукции). Он считает, что следует очень осторожно подходить к сравнению аристотелевской индукции с ее
современными вариантами. При этом у Т. Энгберг-Педерсена
получается (как и у У.Д. Росса), что в An. Pr. II 21 и An. Post. I
1 Аристотель упоминает «индукцию» нетехнически (тем самым он отвергает истолкование аристотелевской индукции,
предложенное Д. Хамлином).
273
Р. Мак-Кирэхэн, как и Т. Энгберг-Педерсен, предлагает
определенную аргументацию в пользу того, что у Аристотеля
есть единое понимание индукции. Однако он предлагает такой
вариант этого понимания, который в определенном смысле
примирил бы позиции Д. Хамлина и Т. Энгберг-Педерсена.
Подчеркивая, вслед за Т. Энгберг-Педерсеном, что аристотелевская индукция весьма и весьма далека от ее современных
концепций, Р. Мак-Кирэхэн считает, что аристотелевское понимание индукции включает в себя как переход от единичного
к универсальному, так и переход от универсального к единичному. Речь идет о том, что при чтении работ Аристотеля следует различать, где он имеет в виду узнавание универсального
в первый раз (переход от единичного к универсальному), и где
он имеет в виду «подведение единичного под универсальное»,
которое нам уже вéдомо (переход от универсального к единичному). Основное внимание Р. Мак-Кирэхэн уделяет An. Pr.
II 21 и An. Post. I 1. Он считает, что индукция в этих главах
упоминается технически. Позиция, занятая по аристотелевской индукции Р. Мак-Кирэхэном, представляется нам предпочтительной. Именно его истолкование аристотелевской индукции позволяет более широко посмотреть на аристотелевское решение апории Менона, т.е. не ограничиваться дистинкцией универсального и простого знания, что мы и собираемся
показать.
Хотя Аристотель, как уже было сказано, в явном виде
упоминает апорию Менона только в An. Pr. II 21 и An. Post. I 1,
принципиальное значение для истолкования аристотелевского
решения этой апории имеет An. Post. II 19, которую мы подробно проанализировали в 1-й главе «Аристотель об опыте и
уме во “Второй аналитике” II 19». Главу An. Pr. II 21 мы подробно проанализировали в 8-й главе «Аристотель об универсальном, обыденном и деятельном знании в “Первой аналитике” II 21». В данной главе мы проанализируем An. Post. I 1 и
подытожим наше истолкование аристотелевского решения
апории Менона в целом.
9.1. Перевод An. Post. I 1
Для начала мы предложим свой перевод An. Post. I 1, в
котором отчетливо укажем на дистинкцию «предпознания» и
274
«предшествующего знания». Эта дистинкция не учитывается
существующими русскими и английскими переводами, а она
играет важнейшую роль при истолковании аристотелевского
решения апории Менона. Мы исходим из того, что содержательно An. Post. I 1 распадется на три части, в которых идет
речь о предпознании, предшествующем знании и апории Менона.
Предпознание
71a1–2: Всякое обучение и всякая учеба, связанные с размышлением, возникают из предпознания.
71a2–4: Это же очевидно, [когда] рассматривают всякое [обучение и учебу], ибо математические эпистемы этим способом приобретаются и каждое из иных технических искусств.
71a5–9: Сходно же и для доводов, и для тех, что через силлогизмы, и для тех, что через наведение: ибо при обоих [типах доводов] обучение совершается через предпознаваемое; в одном случае принимаемое как от понимающих, в другом случае показывающее кафолическое через ясность единичного.
71a9–11: Так же и риторики уверяют: ибо или через парадигмы,
т.е. наведение, или через энтимемы, т.е. силлогизм.
71a11–17: Двояко же необходимо предпознавать: в одном случае
необходимо пред[-варительно] принять, что есть, в другом же
случае надо понимать, что есть называемое, в третьем же случае
[необходимо] и то, и другое; например, [1] что о всяком истинно
или сказывать, или отрицать, – что есть, [2] [в случае] треугольника же – что вот это означает, [3] [в случае] единицы – и то, и
другое, – и что означает, и что есть: ибо каждое из этого ясно
нам не сходно.
Предшествующее знание
71a17–19: Узнавать же [можно двояко]: одно прежде узнав, другое же – принимая вместе с познанием, например, случайно сущие [вещи], под[-чиненные] кафолическому, о котором [уже]
имеется познание.
71a19–21: Ибо, что всякий треугольник имеет [углы], равные
двум прямым, пред[варительно] ведал; а что вот это в полукруге
есть треугольник, вместе с наведением узнал.
71a21–24: (Ибо для некоторых этот способ изучения, и крайнее
узнается не через среднее, [а именно] единичное случайно сущее,
т.е. [сущее] не на основании какого-либо подлежащего).
71a24–26: Прежде же наведения или принятия силлогизма, судя
по всему, следует сказать, что знание одним способом есть, иным
же – нет.
275
71a26–27: Ибо [если] кто-то не ведал [бы] просто, есть ли [этот
треугольник], то как [же он] ведал [бы] просто, что [этот треугольник] имеет два прямых [угла]?
71a27–29: Однако ясно, как-то знают, [потому] что кафолически
знают, просто же не знают.
Апория Менона
71a29–30: Если же не [так], получится та апория, что в «Меноне»:
ибо или будет изучать, ничего не [ведая], или [будет изучать то],
что [уже] ведает.
71a30–31: Ибо же не следует говорить [так], как некоторые берутся анализировать (lu>ein) [т.е. преодолевать эту апорию].
71a31–32: Вéдомо ли тебе, что всякая двойка четная, или нет?
71a32–33: Сказавшему же [утвердительно], преподнесли какуюнибудь двойку, о которой [он] не думал, что [она] есть, так что
не [ведал, что она] четная.
71a33–34: Ибо анализируют [т.е. преодолевают эту апорию],
утверждая, что не ведают, что всякая двойка – четная, а [только
та], о которой ведают, что [она] – двойка.
71a34–71b5: Однако ведают [то], для чего имеют доказательство
и для чего приняли [доказательство]; приняли же не для всякого,
о котором бы ведали, что [вот это] треугольник или число, а
просто для всякого числа и треугольника: ибо ни одна посылка не
принимается такой, что [она относится только] к числу, которое
ты ведаешь, или [только] к прямолинейной [фигуре], которую ты
ведаешь, но на основании всего.
71b5–8: Но ничто (думаю) не мешает, [чтобы] то, что [кто-то] изучает, как-то знать, а как-то не ведать: ибо нет ничего неуместного, если [кто-то] как-то ведает то, что изучает, но [было бы неуместно], если [этот кто-то ведал] так, как и каким образом изучает.
9.2. Комментарий к An. Post. I 1
В этой главе мы имеем дело с обучением и учебой. В
книге «Философский язык Аристотеля» мы рассматривали
схожую проблематику в связи с поиском и доказательством
[168, с. 272–307]. В An. Post. I 1, как уже было отмечено, Аристотель в явном виде упоминает апорию Менона. Но прежде
чем обратиться к ней, он ведет речь сначала о предпознании, а
затем о предшествующем знании. Вопросы, касающиеся предпознания (и его отличия от предшествующего знания), крайне
важны для истолкования аристотелевского решения апории
Менона и начал доказательства у Аристотеля. Что включает в
276
себя предпознание? Выступает ли предпознаваемое в качестве
посылок силлогизмов или нет? И если нет, то чем оно отличается от посылок силлогизма и его доказанного заключения?
Комментаторы фактически не различают предпознание и
предшествующее знание. Правы ли они? Дело в том, что знанием (эпистемой) в строгом смысле слова Аристотель называет доказывающий силлогизм через причину. Далеко не всякое
познание оказывается у Аристотеля знанием. Соответственно
и не всякое предпознание выступает у Аристотеля в качестве
предшествующего знания. Мы уже обращались к дистинкциям
«познание» и «знание», «предпознание» и «предшествующее
знание» у Аристотеля в [168, с. 40–48]. Сейчас мы продолжим
рассмотрение этого вопроса.
9.2.1. Предпознание
В 71a1–11 читаем:
Всякое обучение и всякая учеба, связанная с размышлением, возникают из предпознания (ejk prou`parcou>shv … gnw>sewv). Это
же очевидно, [когда] рассматривают всякое [обучение и учебу],
ибо математические эпистемы этим способом приобретаются и
каждое из иных технических искусств. Сходно же и для доводов,
и для тех, что через силлогизмы, и для тех, что через наведение:
ибо при обоих [типах доводов] обучение совершается через предпознаваемое (proginwskome>nwn); в одном случае принимаемое
как от понимающих, в другом случае показывающее кафолическое через ясность единичного. Так же и риторики уверяют: ибо
или через парадигмы, т.е. наведение, или через энтимемы, т.е.
силлогизм.
О предпознании речь также идет в An. Post. II 19, а именно о том, что предпознание необходимо для возникновения
опыта; предпознанием в этом случае оказывается способность
к чувственному восприятию [см. 1-ю гл., с. 25].
В An. Post. I 1 говорится о том, что предпознание необходимо также для эпистем (71a3–4), искусств (71a4), диалектики
(71a5–9) и риторики (71a9–11). Фрагмент, начинающийся со
слов «сходно же и для доводов ...» относится к диалектике. В
Top. VIII 1 Аристотель говорит о том, что в диалектических
беседах помимо посылок, необходимых для диалектических
силлогизмов, надо приводить и другие посылки, в частности,
для наведения (индукции) собеседника на нужные посылки
(155b, 21–22, 34–35), «показывающие кафолическое через яс-
277
ность единичного», как пишет Аристотель в рассматриваемом
сейчас фрагменте.
Далее Аристотель заводит речь о предпознании, необходимом для доказывающих эпистем. Это предпознание, считает
он, двояко (71a11–17):
Двояко же необходимо предпознавать (proginw>skein): в одном
случае необходимо пред[-варительно] принять (prou`polamba>nein), что есть (o[ti e]sti), в другом же случае надо понимать,
что есть (ti> ejsti) называемое, в третьем же случае [необходимо]
и то, и другое; например, [1] что о всяком истинно или сказывать,
или отрицать, – что есть, [2] [в случае] треугольника же – что
вот это означает, [3] [в случае] единицы – и то, и другое, – и что
означает, и что есть: ибо каждое из этого ясно нам не сходно.
Фактически здесь идет речь о началах доказательства,
только без допущения неопосредованных посылок [168,
с. 290–299]. Даже примеры Аристотель здесь рассматривает те
же, что и в An. Post. I 10 [168, с. 290–299]. Получается, что к
предпознанию Аристотель относит здесь познание того, что в
An. Post. I 2–3 и I 7–10 он называет «неопосредованными
началами доказательств» и «началами каждого рода». И все же
мы еще раз укажем, какие начала, теперь в качестве предпознания, имеет в виду Аристотель.
Во-первых, речь в анализируемом фрагменте идет об аксиомах: ибо тезис «о всяком истинно или сказывать, или отрицать» есть аксиома. Таким образом, Аристотель относит к
предпознанию, необходимому для доказывающих эпистем,
прежде всего аксиомы. Возникает вопрос, а почему для аксиом, согласно 71a13–14, достаточно принять, что есть, не принимая, что это означает? Возможно, в данном случае имеется
в виду сущее как истина и не-сущее как ложь: если мы приняли, что «аксиома есть», то тем самым мы приняли, что «аксиома истинна». Возможен и другой ответ на этот вопрос: в An.
Post. I 10, 76b16–21 Аристотель пишет, что если что-то и так
ясно, оно не принимается; в качестве того, что и так ясно, он
называет, в частности, значение аксиомы. Наконец, возможно,
имеется в виду то, что в качестве значения для аксиомы выступает ее истинность, а истинность для нее тождественна бытию (что есть).
Во-вторых, речь идет о предпознании, необходимом для
геометрии. Начала геометрического рода, согласно Аристотелю, суть точка и линия. В геометрии мы принимаем бытие и
278
значения «точки» и «линии», а также значения самих по себе
состояний точки и линии (т.е. несоизмеримость и т.п.); бытие
же самих по себе состояний – показываем. В частности, мы
принимаем значение «треугольника» (предпознание) и показываем его бытие (An. Post. II 7, 92b15–16), а далее, например,
доказываем равенство его внутренних углов двум прямым.
В-третьих, речь идет о предпознании, необходимом для
арифметики. Начало арифметического рода, согласно Аристотелю, – единица. В арифметике мы принимаем бытие и значение «единицы», а также значения самих по себе состояний
числа (т.е. четного и нечетного и т.п.); бытие же самих по себе
состояний числа – показываем.
Итак, согласно An. Post. I 1, 71a1–17, предпознание включает в себя (1) аксиомы, (2) определения терминов и (3) гипотетическое принятие бытия начал рода.
Однако Аристотель говорит о «предпознании» (и «предпознаваемом») не только в связи с обучением и учебой (в An.
Post. I 1), но и в связи с доказательством (в An. Post. I 2). В An.
Post. I 2 «предпознаваемое» (и глагол «предпознавать») употребляются трижды, причем не только в связи с аксиомами и
принятием значений и бытия начала, но и в связи с допущением неопосредованных посылок доказывающих силлогизмов
(71b31–32, 72a28, 72a35). Получается, что можно говорить о
предпознании в узком смысле слова (An. Post. I 1, 71a11–17),
включающем аксиомы, определения и бытие начала, и в широком смысле (An. Post. I 2), включающем те же начала плюс
неопосредованные посылки. Мы будем далее употреблять
слово «предпознание» в узком смысле слова, различая тем самым (1) предпознание, (2) неопосредованные посылки и (3) доказанные заключения силлогизмов, которые могут выступать в
качестве предшествующего знания (о котором речь пойдет далее).
9.2.2. Предшествующее знание
Далее, в An. Post. I 1, 71a17–29 Аристотель переходит к
рассмотрению узнавания, предшествующего познанию данной
вещи, и узнавания, принимаемого вместе с ее познанием. Этот
фрагмент сходен по содержанию с фрагментом An. Pr. II 21,
67a8–30, который мы рассмотрели в 8-й главе «Аристотель об
универсальном, обыденном и деятельном знании в “Первой
279
аналитике” II 21». Для истолкования An. Post. I 1, 71a17–29,
как и в при истолковании An. Pr. II 21, 67a8–30, мы воспользуемся буквенными обозначениями, которые вводит сам Аристотель в 67a13–14:
A [означает] два прямых [угла],
В – треугольник,
Г – чувственно воспринимаемый треугольник.
Дело в том, что англо-американские комментаторы
(Т. Энгберг-Педерсен, Р. Мак-Кирэхэн), обозначают буквами
не термины, как Аристотель, а посылки, и используют при
этом латинские буквы, а не греческие:
«всякий треугольник имеет углы, равные двум прямым» – (А), а
не (А В);
«вот это в полукруге есть треугольник» – (B), а не (В Г);
«вот это в полукруге имеет углы, равные двум прямым» – (C), а
не (А Г).
Далее мы покажем, что эта разница в обозначениях имеет определенное «влияние» на истолкование. Несущественную
разницу составляет с соответствующим фрагментом в An. Pr. II
21 тот факт, что в An. Post. I 1 Аристотель говорит не о «чувственно воспринимаемом» треугольнике, а о «вот этом в полукруге» (Г). Мы предложим истолкование анализируемого
фрагмента из An. Post. I 1, вставляя в перевод в квадратных
скобках обозначения посылок, которые, с нашей точки зрения,
имеет в виду Аристотель (71a17–29):
Узнавать (gnwri>zein) же [можно двояко] [А В и А Г]: одно прежде узнав (pro>teron gnwri>santa) [А В], о другом же – принимая
вместе с познанием (a[ma lamba>nonta th|dei); а что вот это, в полукруге, есть треугольник [В Г],
вместе с наведением узнал (a[ma ejpago>menov ejgnw>risen). (Ибо
для некоторых этот способ изучения, и крайнее узнается не через
среднее, [а именно] единичное случайно сущее, т.е. [сущее] не на
основании какого-либо подлежащего). Прежде же наведения [В
Г] или принятия силлогизма [А В, В Г ├ А Г], судя по всему, следует сказать, что знание одним способом есть [А В], иным же –
нет [А Г]. Ибо [если] кто-то не ведал [бы] просто, есть ли [этот
треугольник] [В Г], то как [же он] ведал [бы] просто, что [этот
треугольник] имеет два прямых [угла] [А Г]? Однако ясно, как-то
знают, [потому] что кафолически знают [A В], просто же не знают
[А Г].
280
Судя по всему, познавательная ситуация, рассматриваемая Аристотелем в An. Post. I 1, 71a17–29 в качестве примера,
возникает при доказательстве теоремы о том, что вписанный в
полуокружность угол – прямой. Аристотель рассматривает эту
теорему в качестве примеров также в An. Post. II 11, 94a27–36
и Met. IX 9, 1051a21–33. В последнем из указанных фрагментов в явном виде говорится, что высказывание «сумма углов
всякого треугольника равна двум прямым» является заключением доказывающего силлогизма, и что это заключение используется при доказательстве последующей теоремы о вписанном в полуокружность угле.
Аристотелеведы по-разному истолковывают An. Post. I 1,
71a17–29, поэтому дадим некоторые пояснения. Прежде мы
узнали (а17), что (А В) «всякий треугольник имеет углы, равные двум прямым». Это положение фактически никем не
оспаривается. Узнать же о Г, что (А Г) «вот это в полукруге
имеет [углы] равные двум прямым», можно, принимая эпистему вместе с познанием вот этого в полукруге. Истолкование
этого положения уже проблемно. Ибо у самого Аристотеля
читаем только следующее: «...о другом же – принимая вместе
с познанием» (a[ma lamba>nonta thmenov ejgnw>risen) (a21). Если во втором случае
речь идет о (В Г) (что бесспорно), то, может быть, и в первом
случае речь идет о том же? Ибо в обоих случаях говорится о
чем-то, что мы узнаем, предварительно ведая универсальную
эпистему. Мы считаем, что для уяснения различия двух аристотелевских выражений и вместе с тем двух моментов познания («принимая вместе с познанием» и «вместе с наведением
узнал») полезно обратиться к сходному фрагменту An. Pr. II
21, 67a8–30, который мы истолковали в 8-й главе, а именно к
строкам a23–24:
… а [получается] принять эпистему о частном [А Г] вместе с
наведением, как бы узнавая [единичное] [В Г]
a[ma th~| ejpagwgh~| lamba>nein throv ejpisth>mhn
w[sper ajnagnwri>zontav.
Как мы показали в 8-й главе, в этом предложении речь
идет о двух моментах познания – (В Г) и (А Г): в An. Post. I 1
выражение «принимая вместе с познанием» (а18) соответству-
281
ет в An. Pr. II 21 выражению «принять эпистему о частном
[А Г] вместе», а выражение «вместе с наведением узнал» (а21)
соответствует выражению «вместе с наведением, как бы узнавая [единичное] [В Г]». Таким образом, речь в An. Post. I 1а18
идет о (А Г), а не (В Г).
А теперь давайте проанализируем истолкования An. Post.
I 1, 71a17–29, предложенные Т. Энгберг-Педерсеном и Р. МакКирэхэном. Что касается истолкования, предложенного Р. МакКирэхэном, то сразу отметим, что наши разночтения с ним носят, как мы считаем, несущественный характер. Более того, в
главном мы сами следуем за Р. Мак-Кирэхэном. Мы отметим
некоторые «разночтения» с ним лишь для того, чтобы они не
«сбили с толку» при сравнении предлагаемого подхода с соответствующим подходом Р. Мак-Кирэхэна. Он пользуется английским переводом Дж. Барнса. Начало интересующего нас
фрагмента (An. Post. I 1, 71a17–18):
]Esti de< gnwri>zein ta< meteron gnwri>santa,
tw~n de< kai< a[ma lamba>nonta thsei taujto>n.
Ибо если бы кто-то принял, [что] Г [т.е. чувственно воспринимаемого треугольника] нет, ведая, что всякий треугольник содержит
два прямых угла, то он то же вместе и будет ведать, и не будет
ведать.
Каким познавательным ситуациям соответствуют эти два
предложения? – тождественным или нет? И как Аристотель
выходит из этих ситуаций? – одним и тем же способом или
нет?
В An. Post. II 7, 92b17–18 речь идет о том, что человек
ведает значение нарицательного имени (термина), т.е. понимает его, но не ведает, есть ли поименованное? Именно таково
предпознаваемое (в узком смысле слова): мы принимаем значение имени (термина), не ведая, есть ли поименованное. В
An. Post. II 7 Аристотель задается вопросом: можно ли какимлибо образом показать (т.е. как-то обосновать) определение,
причем сути (а не значения)? Ведающему суть надо ведать,
есть ли то, суть чего он ведает. Если же мы имеем дело с несущим, то мы можем лишь понимать значение его имени, но
ведать его суть не можем. Вот здесь-то Аристотель и выражает недоумение посредством обсуждаемого предложения: «Ктото, ведая через определение “что есть”, “есть ли” не будет ведать». В An. Post. II 7 остается безответным вопрос: можно ли
показать, что есть и есть ли, посредством одного и того же
логоса?
Искомый ответ содержится в An. Post. II 8. В этой главе
Аристотель, во-первых, определяет уже не сущность (как в
предшествующих главах), а сопутствующее, и, во-вторых,
291
предлагает давать определения иначе, а именно, определение
сопутствующего должно указывать не значение его имени, а
причину его присущности [168, с. 272–281]. Определение присущего через его причину (логос сути присущего) фактически
соответствует посылке силлогизма. Таким образом, выход из
недоумения, выраженного в 92b17–18, Аристотель видит в переходе от предпознания (в узком смысле слова) к посылкам
доказывающего силлогизма (этот выход касается только присущего сущности, но не самой сущности). О переходе в данной ситуации от значения терминов к посылкам силлогизмов
пишет и М. Фереджон. Спорным остается вопрос, имеет ли
отношение к этому переходу дистинкция универсального знания и применения универсального знания к единичному?
В An. Pr. II 21, 67a14–16 речь идет о том, что человек
уже имеет универсальную эпистему, но не ведает – есть ли
нечто единичное, подпадающее под нее, а потому не ведает –
присуща ли ему (т.е. единичному) универсальная эпистема. В
данной ситуации проблем с бытием универсальной эпистемы
вообще нет. Эти проблемы были решены еще в ходе доказательства, заключением которого и выступает данная универсальная эпистема. Таким образом, применение универсальной
эпистемы к частным случаям не выступает в качестве обоснования ее бытия. Более того, бытие частного случая (бытие вот
этим) не выступает в качестве основания бытия универсальной эпистемы.
Как видим, в 92b17–18 и 67a14–16 речь идет о разных
познавательных ситуациях, и Аристотель выходит из них разными путями. Дистинкция универсальной эпистемы и применения универсальной эпистемы к единичному не имеет отношения к проблеме значения и бытия (или же значения и сути),
которую Аристотель рассматривает в An. Post. II 3–10. Неточность М. Фереджона проистекает, судя по всему, из-за того,
что он не учитывает разницу между предпознанием и предшествующим знанием.
И тем не менее аристотелевское решение апории Менона
имеет отношение к переходу от значения к сути. Надо только
учитывать, что дистинкция универсальной эпистемы и применения универсальной эпистемы к единичному не единственная дистинкция, которую Аристотель вводит для решения этой апории. Выше мы уже назвали дистинкции, которые
292
соответствуют аристотелевскому решению апории Менона
применительно к опыту, доказательству и применению уже
доказанной эпистемы к частным случаям. При этом применительно к доказательству в качестве предпознания были названы, во-первых, аксиомы, понимание терминов и гипотетическое принятие бытия начала рода, подлежащего доказательству (т.е. то, что не выступает в качестве посылок силлогизма), во-вторых, допущенные неопосредованные посылки. Сейчас мы можем детализировать этот переход.
Доказательство состоит из двух переходов: (1) допущения неопосредованных посылок (предсиллогистическая ступень) – в качестве предпознания выступают аксиомы, понимание терминов и гипотетическое принятие бытия начала рода,
подлежащего доказательству (именно этот переход соответствует переходу от значения к сути); (2) умозаключения (собственно силлогистическая ступень) – в качестве предпознания
выступают неопосредованные посылки.
Таким образом, аристотелевское решение апории Менона имеет отношение к переходу от значения (присущего) к его
сути, но не в качестве дистинкции универсального знания и
знания de re, а в качестве дистинкции предпознания (в узком
смысле слова) и неопосредованных посылок доказывающих
силлогизмов.
9.3. Заключение
Мы считаем, что свое итоговое решение апории Менона
Аристотель дает в An. Post. I 1, 71b5–8:
Но ничто (думаю) не мешает, [чтобы] то, что [кто-то] изучает,
как-то знать, а как-то не ведать: ибо нет ничего неуместного, если
[кто-то] как-то ведает то, что изучает, но [было бы неуместно],
если [этот кто-то ведал] так, как и каким образом изучает.
Это решение апории Менона дается в общем плане, т.е.
оно не привязывается исключительно к дистинкции знания
универсального и простого, которая в явном виде называется
при явных упоминаниях апории Менона (в An. Pr. II 21 и
An. Post. I 1).
Аристотелевское решение апории Менона включает в
себя несколько уровней. Решения, предлагаемые Аристотелем
на всех уровнях, аналогичны: в начале каждой ступени и каждого метода познания познаваемое нам как-то ведомо, а как-то
293
нет, причем оно ведомо нам не так, как мы хотим его познать
на данном уровне и данным методом. Однако аналогичность
этих решений не означает их тождества (по виду).
В 1-й главе «Аристотель об опыте и уме во “Второй
аналитике” II 19» мы показали, что для опыта в качестве предпознания выступает чувственное восприятие (или же способность к чувственному восприятию). Результатом познания на
этом уровне становится первое универсальное в душе (узнавание термина) или единичное допущение.
При доказательстве в качестве предпознания выступают,
во-первых, аксиомы, понимание терминов и гипотетическое
принятие бытия начала рода, подлежащего доказательству (т.е.
то, что не выступает в качестве посылок силлогизма), вовторых, допущенные неопосредованные посылки. Доказательство включает в себя два перехода: (1) допущение неопосредованных посылок (предсиллогистическая ступень) – в качестве
предпознания выступают аксиомы, понимание терминов и гипотетическое принятие бытия начала рода, подлежащего доказательству (этот переход соответствует переходу от значения к
сути); результат познания – неопосредованная посылка;
(2) умозаключение (собственно силлогистическая ступень) – в
качестве предпознания выступают неопосредованные посылки; результатом познания на этом уровне становится доказанное заключение.
Доказанное заключение силлогизма (т.е. универсальная
эпистема) может быть использовано в дальнейшем познании
как предшествующее знание. Предшествующее знание может
использоваться и как посылка в доказывающих силлогизмах, и
как универсальная эпистема, применяемая к частным случаям. Сам Аристотель в явном виде упоминает апорию Менона в
связи именно с последним вариантом: приступая к познанию
единичного и чувственно воспринимаемого, мы уже имеем
предшествующее знание (универсальную эпистему); результатом познания в данном случае становится простое знание.
Предпознание, необходимое для построения доказательства, является целью эпистемического поиска, но сами стадии
эпистемического поиска предполагают свое предпознание.
294
БИБЛИОГРАФИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Aristoteles. De partibus Animalium / Ed. by P. Louis. Aristote. Les
parties des animaux. Paris: Les Belles Lettres, 1956.
Aristoteles. De Xenophane, de Zenone, de Gorgia / Ed. I. Bekker //
Aristotelis opera. Berlin: Reimer, 1831. Vol. 2. (repr. De Gruyter,
1960).
Aristotelis Analytica priora et posteriora / Ed. by W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1964.
Aristotelis de generatione animalium / Ed. by H.J. Drosaart Lulofs.
Oxford: Clarendon Press, 1965 (repr. 1972).
Aristotle on Science: The Posterior Analytics (Proceeding of the Eighth
Symposium Aristotelicum) / Ed. by E. Berti. Padua: Antenore, 1981.
Aristotle. Categories / Tr. by E.M. Edghill// [71]. Vol. 8. P. 5–24.
Aristotle. Categories and De Interpretatione / Tr. with Notes by J.L. Ackrill. Oxford: Clarendon Press, 1963.
Aristotle. De Anima: Books II and III (with passages from book I) /
Tr. and Notes by D.W. Hamlyn. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1993
(repr. 2001).
Aristotle. De memoria et reminiscentia / Ed. by W.D. Ross // Aristotle. Parva naturalia. Oxford: Clarendon Press, 1955 (repr. 1970).
Aristotle. De Partibus Animalium I & De Generatione Animalium I
(with passages from II. 1–3) / Tr. with Notes by D.M. Balme. Oxford: ClarendonPress. 1972. 2nd ed., 1992 (repr. 2001). (Ссылки в
книге делаются на репринтное издание 2001 г.).
Aristotle. Metaphysics / Tr. by D.W. Ross // [71]. Vol. 8. P. 499–630.
Aristotle. Metaphysics: Book Q / Tr. With an Int. & Comm. by S. Makin. Oxford: Clarendon Press, 2006.
Aristotle. Metaphysics: Books G, D, and E / Tr. With notes by Ch. Kirwan. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1993 (repr. 1998).
Aristotle. Metaphysics: Books VII–X / Tr. by M. Furth.Indianapolis:
HPC, 1985.
Aristotle. Nicomachean Ethics / Tr. by D.W. Ross// [71]. Vol. 9. P. 339–
444.
Aristotle. On the Generation of Animals / Tr. by A. Platt // [71]. Vol. 9.
P. 5–24.
Aristotle. Posterior Analytics / Tr. with Comm. by J. Barnes. Oxford: ClarendonPress, 1975; 2nd ed. 1994.
Aristotle. Posterior Analytics / Tr. by G.R.G. Mure // [71].Vol. 9. P. 97–
142.
Aristotle. Prior Analytics / Tr. by A.J. Jenkinson // [71]. Vol. 8. P. 39–96.
Aristotle. Prior Analytics / Tr. with Intr., Notes, and Comm. by R. Smith.
Indianapolis-Cambridge: Hackett Publishing Company, 1989.
295
21. Aristotle. History of Animals / Tr. by D’A.W. Thompson // [71]. Vol. 2.
P. 7–160.
22. Aristotle. Rhetoric / Tr. by W. Rhys Roberts // [71]. Vol. 9. P. 593–675.
23. Aristotle. Topics / Tr. by W.A. Pickard-Cambridge // [71]. Vol. 8. P. 143–
226.
24. Aristotle’s Categories and Propositions / Tr. with Comm. by H.G. Apostle. Grinnell (Iowa): The Peripatetic Press, 1980.
25. Aristotle’s Metaphysics / Tr. with Comm. by H.G. Apostle. Grinnell
(Iowa): The Peripatetic Press, 1979.
26. Aristotle’s Metaphysics: Books M and N / Tr. with Intr. and Notes
by J. Annas. Oxford: Clarendon Press, 1976 (repr. 1999).
27. Aristotle’s Prior and Posterior Analytics: A Revised Text with Intr.
and Comm. by W.D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1949, corrected ed. 1965.
28. Balme D. Aristotle's Use of Division and Differentiae // [63]. P. 69–89.
29. Baracchi Cl. Aristotle’s Ethics as First Philosophy. N. Y.: Cambridge
University Press, 2008.
30. Barnes J. Proof and the Syllogism // [5]. P. 17–59.
31. Boethii commentaria in Porphyrium a se translatum // PL. T. 64. Col. 71–
158.
32. Bronstein D. Meno’s Paradox in Posterior Analytics I.I // Oxford
Studies in Ancient Philosophy / Ed. by B. Inwood. Vol. 38. 2010.
33. Burnyeat M.F. Aristotle on Understanding Knowledge // [5]. P. 97–
139.
34. Charles D. Aristotle on Meaning and Essence. N. Y.: Clarendon Press,
2000.
35. Cherniss H. Aristotle’s Criticism of Plato and Academy. Baltimore,
1944. Vol. I.
36. Cooper J. Hypothetical Necessity and Natural Teleology // [63]. P. 243–
274.
37. Devereux D.T. Particular and Universal in Aristotle’s Conception of
Practical Knowledge // The Review of Metaphysics. Vol. XXXIX,
N 3. 1986. P. 483–504.
38. Dialectica sive Capita philosophica (recensio fusior) / Ed. B. Kotter
// Die Schriften des Johannes von Damaskos. Vol. 1: Patristische
Texte und Studien 7. Berlin: De Gruyter, 1969. S. 47–95, 101–142.
39. Engberg-Pedersen T. More on Aristotelian Epagoge // Phronesis.
1979. N 24. P. 301–319.
40. Essays on Aristotle’s De Anima / Ed. by M.C. Nussbaum and A.O. Rorty. Oxford: Clarendon Press, 2003 (repr.).
41. Euclidis elementa: Vol. 1–4 / Ed. E.S. Stamatis (post J.L. Heiberg).
2nd ed. Leipzig: Teubner, 1969–1973.
42. Ferejohn M. Definition and Aristotelian Demonstration // Review of
Metaphysics. 1982. N 36. P. 375–395.
43. Ferejohn M. Meno’s Paradox and De Re Knowledge in Aristotle’s
Theory of Demonstration // History of Philosophy Quarterly. 1988.
N 5. P. 99–117.
44. Fragmenta / Ed. M.L. West // Iambi et elegi Graeci. Oxford: Clarendon Press, 1972. Vol. 2. P. 44–45. Frr. 672–673.
296
45. Fragmenta varia / Ed. V. Rose // Aristotelis qui ferebantur librorum
fragmenta. Leipzig: Teubner, 1886 (repr. Stuttgart: 1967).
46. Fragmentum / Ed. by D.L. Page // Poetae melici Graeci. Oxford: Clarendon Press, 1962. Repr. 1967 (1st ed. corr.): 444 p. Fr. 1.
47. Hamlyn D.W. Aristotelian Epagoge // Phronesis. 1976. N 21. P. 167–
184.
48. Heath T. Mathematics in Aristotle. Bristol: Thoemmes Press, 1998
(repr. from the 1949 ed.).
49. Hintikka J. Aristotelian Induction // Revue internationale de philosophie. 1980. N 133–134. P. 422–439.
50. Hintikka J. On the Ingredients of an Aristotelian Science // Nous.
1972. Vol. 6. P. 55–69.
51. Hintikka J. Time, Truth and Knowledge in Aristotle and Other Greek
Philosophers // Knowledge and the Known: Historical Perspectives
in Epistemology. Dordrecht – Holland; Boston – USA: D. Reidel,
1974. P. 50–79. – Рус. пер. Никифорова А.Л. Время, истина и познание у Аристотеля и других греческих философов // Логикоэпистемологические исследования: сб. избр. ст. М.: Прогресс,
1980. С. 392–429.
52. Hippocrates. De natura hominis / Ed. É. Littré // Oeuvres complètes
d'Hippocrate. Paris: Baillière, 1849. Vol. 6. (Repr. Amsterdam:
Hakkert, 1962).
53. Jaeger W. Aristotle: Fundamentals of the History of his Development / Tr. by R. Robinson. Oxford: Clarendon Press, 1948.
54. Kahn Ch. The Role of Nous in the Cognition of First Principles in
Posterior Analytics II 19 // [5]. P. 385–414.
55. Lennox J. Divide and Explain: The «Posterior Analytics» in Practice
// [63]. P. 90–119.
56. Lloyd G.E.R. Aspects of the Relationship between Aristotle’s Psychology and Zoology // [40]. P. 147–167.
57. Logic, Science, and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy
/ Ed. by M. Nussbaum. Ithaca (New York): Cornell University Press,
1986.
58. McKirahan R. D. Aristotelian Epagoge in Prior Analytics 2.21 and
Posterior Analytics 1.1 // Journal of the History of Philosophy. 1983.
Vol. XXI.P. 1–13.
59. Meyer J.B. Aristoteles Thierkunde: ein Beitrag zur Geschichte der
Zoologie // Physiologie and alten Philosophie. Berlin, 1855.
60. Nussbaum M.C. Essay 4: Practical Syllogism and Practical Science
// Nussbaum M.C. Aristotle’s «De Motu Animalium». Princeton: Princeton University Press, 1978. P. 165–220.
61. Owen G.E.L. Logic and Metaphysics in Some Earlier Works of Aristotle // [57]. P. 180–199.
62. Owen G.E.L. Tithenai ta phainomena // [57]. P. 239–251.
63. Philosophical Issues in Aristotle’s Biology / Ed. by A. Gotthelf & J. Lennox. Cambridge: Cambridge University Press, 1987.
64. Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium: Isagoge sive quinque voces / Ed. A. Busse // Commentaria in Aristotelem
Graeca 4.1. Berlin: Reimer, 1887: 1–22.
297
65. Quine W. Method of Logic. N.Y., 1961.
66. Ryle G. Dialectic in the Academy // Aristotle on Dialectic. The Topics.
Proceedings of the third Symposium Aristotelicum / Ed. by G.E.L. Owen.
Oxford, 1968. P. 69–79.
67. Ryle G.Plato’s Progress. Cambridge, 1966.
68. Smith R. What is Aristotelian Ecthesis? // History and Philosophy of
Logic. 1982. N 3. P. 113–127.
69. Sorabji R.R.K. Necessity, Cause and Blame: Perspectives on Aristotle’s Theory. Duckworth, London, 1980.
70. Taran L. Speusippus of Athens. A Critical Study with a Collection
of the related Texts and Commentary. Leiden, 1981.
71. The Works of Aristotle: Vol. 1–2 // Great Books of Western World.
Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc. 1952.Vol. 8–9.
72. Theophrastus. Historia plantarum / Ed. A. Hort. // Theophrastus. Enquiry into plants, 2 vols. Cambridge, Mass.: Harvard University
Press, 1916 (repr. 1:1968; 2:1961).
73. Wright G.H. Practical Inference // Philosophical Review. 1963. Vol. 72.
P. 154–79.
74. Wright G.H. Explanation and Understanding. London, 1971a.
75. Wright G.H. The Varieties of Goodness. London, 1971b.
76. Аристотель. Метафизика / Пер. и ком. А.В. Кубицкого. М.; Л.:
Соцэкгиз, 1934.
77. Аристотель. О частях животных / Пер. с греч., вступ. стат. и
прим. В.П. Карпова. [Б. м.]: Биомедгиз, 1937.
78. Аристотель. Категории [С приложением «Введения» Порфирия
к «Категориям» Аристотеля] / Пер. А.В. Кубицкого. М., 1939.
79. Аристотель. О возникновении животных / Пер. с греч., вступ.
ст. и прим. В.П. Карпова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940.
80. Аристотель. Аналитика первая и вторая / Пер. и ком. Б.А. Фохта. М.: Госполитиздат, 1952.
81. Аристотель. Об искусстве поэзии / Пер. В.Г. Аппельрота. М.:
Гос. изд-во худ. лит-ры, 1957.
82. Аристотель. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1975–1984.
83. Аристотель. Метафизика / Пер. М.И. Иткина; ком. А.В. Сагадеева // [82]. 1975. Т. 1. С. 63–367.
84. Аристотель. О душе / Пер. П.С. Попова (1937), заново сверенный с греческим оригиналом М.И. Иткиным // [82]. 1975. Т. 1.
С. 369–448.
85. Аристотель. Риторика: Книга III / Пер. С.С. Аверинцева // Аристотель и античная литература. М.: Наука, 1978. С. 164–229.
86. Аристотель. Категории / Пер. З.Н. Микеладзе // [82]. 1978. Т. 2.
С. 51–90.
87. Аристотель. Об истолковании / Пер. З.Н. Микеладзе // [82].
1978. Т. 2. С. 91–116, 605–614.
88. Аристотель. Первая аналитика / Пер. З.Н. Микеладзе // [82].
1978. Т. 2. С. 117–254.
89. Аристотель. Вторая аналитика / Пер. З.Н. Микеладзе // [82].
1978. Т. 2. С. 255–346.
298
90. Аристотель. Топика / Пер. М.И. Иткина// [82]. 1978. Т. 2. С. 347–
531, 644–661.
91. Аристотель. О софистических опровержениях / Пер. М.И. Иткина // [82]. 1978. Т. 2. С. 533–593.
92. Аристотель. Физика / Пер. В.П. Карпова, прим. И.Д. Рожанского //[82]. 1981. Т. 3. С. 59–262, 559–573.
93. Аристотель. Метеорологика / Пер. Н.В. Брагинской, прим.
И.Д. Рожанский // [82]. 1981. Т. 3. С. 441–556, 585–599.
94. Аристотель. Никомахова этика / Пер. Н.В. Брагинской // [82].
1984. Т. 4. С. 53–293, 687–752.
95. Аристотель. Большая этика / Пер. Т.А. Миллер // [82]. 1984.
Т. 4. С. 295–374, 752–759.
96. Аристотель. Политика / Пер. С.А. Жебелева // [82]. 1984. Т. 4.
С. 375–644.
97. Аристотель. Поэтика / Пер. М.Л. Гаспарова // [82]. 1984. Т. 4.
С. 645–680, 779–788.
98. Аристотель. Рассказы о диковинах / Пер., вступ. стат. и ком.
Н.А. Поздняковой // Вест. древней истории. 1987. № 3. С. 236–
252. № 4. C. 229–251.
99. Аристотель. Метафизика: Кн. XIII–XIV / Пер. и ком. А.Ф. Лосева // [146]. 1994. С. 633–712.
100. Аристотель. История животных / Пер. В.П. Карпова; под ред. и
с прим. Б.А. Старостина М.: Изд. центр РГГУ, 1996.
101. Аристотель. Этика: Политика: Риторика: Поэтика: Категории.
Минск: Литература, 1998.
102. Аристотель. Этика (к Никомаху) / Пер. Э.Л. Радлова // [101].
1998. С. 139–408.
103. Аристотель. Риторика / Пер. Н. Платоновой // [101]. 1998. С. 739–
1012.
104. Аристотель. Поэтика / Пер. Н.И. Новосадского// [101]. 1998.
С. 1013–1112.
105. Аристотель. Категории / Пер. А.В. Кубицкого // [101]. 1998.
С. 1131–1140.
106. Аристотель. Риторика: Поэтика. М.: Лабиринт, 2000.
107. Аристотель. Риторика / Пер. О.П. Цыбенко // [106]. 2000. С. 5–
148, 181–189.
108. Аристотель. Евдемова этика: Кн. III / Пер. Т.В. Васильевой //
Вопр. философии. 2002. № 1. С. 153–164.
109. Аристотель. Протрептик: О чувственном восприятии: О памяти / Пер. Е.В. Алымовой. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2004.
110. Аристотель. О памяти / Пер. Е.В. Алымовой // [109]. 2004.
С. 137–151, 163–179.
111. Аристотель. О памяти и припоминании / Пер. С.В. Месяц //
Вопр. философии. 2004. № 7. С. 158–168.
112. Аристотель. Метафизика: Кн. I–V / Пер. П.Д. Первова и В.В. Розанова; ком. В.В. Розанова. М.: Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.
113. Аристотель. Евдемова этика / Пер. Т.В. Васильевой, Т.А. Миллер, М.А. Солоповой. М.: Канон. 2011.
299
114. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высш. шк., 2001.
115. Ахманов А.С. Логическое учение Аристотеля. 2-е изд. М.: Едиториал УРСС, 2002.
116. Ахутин А.В. Античные начала философии. СПб.: Наука, 2007.
117. Барбашина Э.В. Особенности англоязычной рецепции философии И. Канта // Гуманитарные науки в Сибири. 2005. № 1.
С. 63–70.
118. Бартон В.И. Логика. Минск, 2001.
119. Бессонов А.В. Предметная область в логической семантике. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985.
120. Боннар А. Греческая цивилизация. М.: Искусство, 1992.Т. 3: От
Еврипида до Александрии.
121. Бочаров В.А.Аристотель и традиционная логика. М.: Изд-во
Моск. ун-та, 1984.
122. Василевич В.И. Что считать естественной классификацией // Философские проблемы современной биологии. М.: Наука, 1966.
123. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь. М.: «Греко-латинский
кабинет» Ю.А. Шичалина (репр. 5-го изд. 1899), 1991.
124. Виленский Д.Г. История почвоведения в России. М.: Советская
наука, 1958.
125. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. М.,
1956.
126. Гиппократ. О природе человека / Пер. В.П. Карпова // О природе человека. Изд 2-е, стереотип. М.: КомКнига, 2007. С. 9–27.
127. Горан В.П. Необходимость и случайность у Демокрита. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984.
128. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2 т. М.: Гос.
изд-во иностранных и национальных словарей, 1958.
129. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.: Русский язык,
1986.
130. Диллон Д. Наследники Платона: Исследование истории Древней
Академии (347–274 гг. до н. э.) / Рус. пер. с англ. Е.В. Афонасина [Dillon J. The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347–
274 B. C.). Oxford: Clarendon Press, 2003]. СПб.: Изд-во СПбГУ,
2005.
131. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов / Пер. М.Л. Гаспарова. М.: Мысль, 1979.
132. Докучаев В.В. Избр. соч.: В 3 т. М.: Сельхозгиз, 1954. Т. 3.
133. Докучаев В.В. Картография русских почв // [132].
134. Докучаев В.В. Классификация почв // [132]. С. 375–380.
135. Досократики V. Софисты: Вып. 1 / Пер. А. Маковельского. Баку: Изд. НКП АзССР, 1940.
136. Евклид. Начала: В 3 т. / Пер. и ком. Д.Д. Мордухай-Болтовского
при участии И.Н. Веселовского. М.; Л.: Гос. изд-во техн.-теор.
лит-ры. 1948–1950.
137. Зубов В.П. Аристотель. М.: Изд-во АН СССР, 1963.
138. Кант И. Критика чистого разума // Сочинения: В 6 т. М.: Мысль,
1964. Т. 3.
300
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
Карпов В.П. Аристотель и его научный метод // [77]. С. 9–28.
Касымжанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. М.: Мысль, 1982.
Кондаков Н.И. Логический словарь. М.: Наука, 1971.
Лебедев С.А. Основные линии развития классической индукции
// Индуктивная логика и формирование научного знания / Отв.
ред. Б.Н. Пятницына. М.: Наука, 1987. С. 107–120.
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука // Лосев А.Ф.
Бытие. Имя. Космос. М.: Мысль, 1993. С. 61–612.
Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя
классика. М.: Искусство, 1975.
Лосев А.Ф. Комментарии к Мет. XIII–XIV // [99]. С. 678–712.
Лосев А.Ф. Критика платонизма у Аристотеля // [147]. С. 527–
712.
Лосев А.Ф. Миф. Число. Сущность. М.: Мысль, 1994.
Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Мысль,
1993.
Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 1993.
Лосев А.Ф. Учение Аристотеля о единстве // [143]. Прим. 36. С. 355–
361.
Лосев А.Ф. Имя: Сочинения и переводы / Сост. и общ. ред.
А.А. Тахо-Годи. СПб.: Алетейя, 1997.
Лосский Н.О. Логика: Ч. 1. Пб., 1922.
Лукасевич Я. Аристотелевская силлогистика с точки зрения современной формальной логики / Пер. с англ. Н.И. Стяжкина и
А.Л. Субботина. М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1959.
Лурье С.Я. Демокрит: Тексты: Перевод: Исследования. Л.: Наука, 1970.
Майоров Г.Г. Философия как искание абсолюта: Опыты теоретические и исторические. М.: Едиториал УРСС, 2004.
Макеева Л. Б. Философия Х. Патнэма. М., 1996.
Микеладзе З.Н. Основоположения логики Аристотеля // [82].
1978. Т. 2. С. 5–50.
Микеладзе З.Н. Примечания к «Первой и второй аналитике» Аристотеля. [82]. 1978. Т. 2. С. 614–644.
Милль Дж.С. Система логики силлогистической и индуктивной
/ Пер. с англ. (с 10-го изд. Лондон, 1879); под ред. В.Н. Ивановского. 2-е изд., вновь обр. М.: Изд. Г.А. Лемана, 1914.
Мифологический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1991.
Мордухай-Болтовской Д.Д. Из прошлого пятой книги «Начал»
Евклида // [162]. С. 192–212.
Мордухай-Болтовской Д.Д. Философия: Психология: Математика. М.: Серебряные нити, 1998.
Мочалова И.Н. Метафизика ранней академии и проблемы творческого наследия Платона и Аристотеля // AKADHMIA: Материалы и исследования по истории платонизма. Вып. 3. СПб.: Издво СПб. ун-та, 2000.
Неретина С.С., Огурцов А.П. Пути к универсалиям. СПб.: РХГА,
2006.
301
165. Орлов Е.В. Индуктивный силлогизм у Аристотеля // Вероятностные идеи в науке и философии. Новосибирск: Ин-т философии и права СО РАН; Новосиб. гос. ун-т, 2003. С. 38–40.
166. Орлов Е.В. К вопросу о «двух типах предикации» у Аристотеля
// Гуманитарные науки в Сибири. 2005. № 1. С. 41–46.
167. Орлов Е.В. Кафолическое в теоретической философии Аристотеля. Новосибирск: Наука, 1996.
168. Орлов Е.В. Философский язык Аристотеля. Новосибирск: Издво СО РАН, 2011.
169. Панова Н. С., Шрейдер Ю. А. О знаковой природе классификации // Научно-техническая информация: Сер. 2. 1974. № 12.
С. 3.
170. Платон. Государство/ Пер. А.Н. Егунова // [172]. 1994. Т. 3.
С. 79–420, 529–593.
171. Платон. Менон / Пер. С.А. Ошерова // [172]. 1990. Т. 1. С. 575612.
172. Платон. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1990–1994.
173. Платон. Теэтет / Пер. Т.В. Васильевой. [172].1993. Т. 2. С. 192–
274.
174. Платон. Федр / Ред. греч. и рус. текстов, вступ. ст. и ком. Ю.А. Шичалина. М.: Прогресс, 1989.
175. Платон. Софист / Пер. С.А. Ананьина // [172]. 1993. Т. 2. С. 275–
345, 482–497.
176. Поздняков А.А. Онтологический статус таксонов с традиционной точки зрения // Линнеевский сборник / Ред. И.Я. Павлинов:
Сб. тр. Зоол. музея МГУ. М.: Изд-во МГУ, 2007. Т. 48. С. 261–
304.
177. Попов П.С., Стяжкин Н.И. Развитие логических идей от античности до эпохиВозрождения. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1974.
178. Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1.
179. Прокл. Комментарий к первой книге «Начал» Евклида: Введение / Ред. гр. текста, рус. пер., вступ. стат. и ком. Ю.А. Шичалина. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1994.
180. Рассел Б. История западной философии. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
181. Родин А.В. Математика Евклида в свете философии Платона и
Аристотеля. М.: Наука, 2003.
182. Рожанский И.Д. Анаксагор. М.: Мысль, 1983.
183. Розова С. С. Классификационная проблема и современная наука. Новосибирск: Наука, 1986.
184. Сагадеев А.В. Комментарии к Met. и De An. // [82]. 1975. Т. 1.
С. 453–506.
185. Сергеенко М.Е. Феофраст и его ботанические сочинения // [193].
С. 276–298.
186. Симанов А.Л. Предмет и структура философии науки: начало
неклассического периода // Гуманитарные науки в Сибири.
2005. № 1. С. 8.
187. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981.
188. Солопова М.А. Александр Афродисийский и его трактат «О
смешении и росте». М.: Наука, 2002.
302
189. Старостин Б.А. Аристотелевская «История животных» как памятник естественнонаучной и гуманитарной мысли // [100]. С. 7–68.
190. Старостин Б.А. Примечания / [100]. С. 413–503.
191. Строгович М.С. Логика. М.: Госполитиздат, 1949.
192. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М.:
Прогресс, 1986–1987. 1986. Т. 1.
193. Феофраст. Исследование о растениях. Рязань: Александрия,
2005.
194. Фрагменты ранних греческих философов: Ч. I / Изд. подг. А.В. Лебедев. М.: Наука, 1989.
195. Хлебалин А.В. Проблема индивидуации референтов терминов
естественных видов // Гуманитарные науки в Сибири. 2005.
№ 1. С. 23–28.
196. Целищев В. В. Понятие объекта в модальной логике. Новосибирск: Наука, 1978.
197. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учеб. для вузов. М.:
Высш. шк., 1999.
198. Черепанов С.К. Философия неопределенности: неопределенность и парадоксы. Новосибирск: Нонпарель, 2004.
199. Шичалин Ю.А. Два варианта платоновского «Федра» // [174].
С. VIII–LXXIII.
200. Щетников А.И. Пифагорейское учение о числе и величине. 6-е
изд. Новосибирск: Артель «Напрасный труд», 2006.
201. Якушин Б.В. Классификация // Философская энциклопедия. М.:
Сов. энциклопедия, 1962. Т. 2.
Тематический план
выпуска изданий СО РАН
на 2013 г., № 106
Научное издание
Орлов Евгений Викторович
АРИСТОТЕЛЬ
О НАЧАЛАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМЕНИЯ
Монография
Редактор В.И. Смирнова
Художник Н.Б. Быковская
Оригинал-макет подготовлен автором
Подписано в печать 19.12.13. Формат 60х90/16.
Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,5. Уч. изд. л. 18,0. Тираж 550 экз.
Заказ № 327
Издательство СО РАН
630090, Новосибирск, Морской просп., 2
E-mail: psb@sibran.ru
тел. (383)330-80-50
Отпечатано в Издательстве СО РАН
Интернет-магазин Издательства СО РАН
http://www.sibran.ru
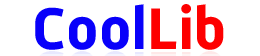
Последние комментарии
20 часов 21 минут назад
1 день 4 часов назад
1 день 19 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 23 часов назад
1 день 23 часов назад