Идёт мальчишка по дороге [Владимир Любимов] (fb2) читать онлайн
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
ВЛАДИМИР ЛЮБИМОВ
«ИДЁТ МАЛЬЧИШКА ПО ДОРОГЕ»
Отсканировано и обработано: https://vk.com/biblioteki_proshlogo
Памяти
моей матери
ИДЕТ МАЛЬЧИШКА ПО ДОРОГЕ
Глава первая
Уже почти год идет война.
А небо сегодня такое светлое, такое голубое, будто
его кто-то нарочно вымыл, как перед праздником.
Солнце словно улыбается ясной широкой улыбкой.
Высоко-высоко, теряясь в сверкающей голубизне,
звонко и весело заливаются жаворонки.
Но я голоден, и мне ничто не мило.
Я вижу небо, солнце, слышу песню жаворонка. Но не они привлекают мое внимание: я остановился среди гона и смотрю на Сапана, которому мать принесла обед.
Сапан с чугунком на коленях сидит на краю поля в реденькой прозрачной тени зеленеющей березки. В одной руке у него деревянная обгрызенная ложка, в другой — кусок хлеба. Он с аппетитом хлебает зеленоватый суп, вылавливая скользкие капустные листья и облизывая ложку. Потом маленькими кусочками откусывает хлеб и долго-долго жует. Я смотрю на него и не могу оторваться. Чувствую — неудобно так смотреть ему в рот, надо бы отвернуться, а не могу.
Но я все-таки пересилил себя, отвернулся и пошел в овраг нарвать травы для Томаса — лошади, на которой я бороню.
Вот кому сейчас хорошо — это лошадям. Есть трава, и они сыты.
Я рву траву и нет-нет да и суну в рот сочный молодой листок щавеля. Во рту приятно кислит, но разве травой наешься!
Когда мать Сапана собралась уходить, я попросил:
— Тетя Онисья, скажи там дома, чтобы принесли чего-нибудь поесть...
— Ладно, скажу, сынок, — ответила тетя Онисья и пошла по склону оврага, неся в руке узелок с пустым чугунком и позвякивая украшениями на кистях шымакша1.
Далеко-далеко, до самого горизонта, уходит вспаханное поле. Один на другой громоздятся тяжелые вывернутые плугом рваные пласты земли. Если наклонишься и посмотришь на них снизу, то они кажутся целыми горными хребтами с гладкими блестящими обрывами и глубокими пропастями.
С одной стороны от меня боронят Сапан, Япык, Онтон и меленький Петюк, с другой — Алик. Вдали, у леска, виднеются лошади двух приятелей — Миклая и Кориша. Миклай и Кориш старше всех нас и поэтому держатся вместе. Нам-то всем по тринадцать-четырнадцать лет, Миклаю — пятнадцать, а Коришу уже шестнадцать.
Какое жаркое сегодня солнце! Я с трудом передвигаю ноги, идя за бороной, то и дело спотыкаюсь о комья земли. Они почему-то все чаще и чаще попадаются под ноги.
Вдруг слышу за спиной тоненький голосок Нинки, моей младшей сестренки:
— Вить, я тебе поесть принесла.
Услышав эти слова, я сразу остановил Томаса и обернулся. Сестренка протягивает мне что-то завернутое в старую чистую рубаху.
В свертке оказались две большие теплые картофельные лепешки. Я впился зубами в чуть сыроватую вязкую мякоть.
Наверное, нет ничего на свете вкуснее картофельных лепешек! Правда,
они испечены из картошки, всю зиму гнившей в поле и превратившейся в крахмал, но, честное слово, по вкусу они ничуть не хуже овсяных блинов.
Нинка стоит рядом и робко смотрит мне в рот. Наконец она не выдерживает и тихонько говорит:
— Вить, оставь мне немножко...
— Разве ты дома не ела?
— Ела, но мамка дала всего один кусочек...
Ничего не поделаешь, как-никак родная сестренка — жалко ее. Я разломил оставшуюся лепешку пополам, половину отдал Нинке, половину съел сам.
После еды стало веселее. Теперь я бодро шагал за бороной и на ходу то напевал, то насвистывал песни.
— Эй, ребята! — крикнул Миклай. — Покурим?
— Покурим, — отозвался Япык. — Да и коням пора дать отдых.
Япык отпряг свою Серку и пустил пастись по меже. Остальные сделали то же самое. Я не поленился, принес Томасу охапку сочной, немятой травы из оврага.
Мы все восьмеро сели на краю поля на траву. Подмигнув и пригладив рукой жесткие кудрявые волосы, Миклай достал из кармана плоскую баночку из золотистой жести, открыл крышку и похвастался:
— Сегодня курева хватит, а вот бумаги маловато.
— У меня есть, — сказал Алик, вынимая из фуражки свернутую гармошкой газету.
— А у меня — трут. Не трут — порох, — говорит Япык.
Миклай с силой ударил кресалом по кремню, колючие искры посыпались во все стороны. Несколько искр попало на трут, и он затлел.
Мы свернули цигарки и задымили, будто паровозы.
Вдруг Алик подавился дымом и закашлялся. Он сделался красным, как кумач, на глазах показались слезы. Он что-то хочет сказать, но у него ничего не получается, и вместо слов выходит какое-то кваканье. Алик квакает, кашляет, а мы смеемся.
— Эх, ты! Разве так затягиваются? Смотри, как надо! — сказал Миклай. Он затянулся, потом, вытянув губы вперед, выпустил дым ровной сизой струйкой. — Учись. А то табак зря переводишь.
Миклай таскает табак у своей бабки. Та ругает его: «Не кури, мал еще, легкие испортишь», но он все ее слова пропускает мимо ушей.
С цигаркой во рту Миклай совсем похож на взрослого парня, и мы, когда курим, чувствуем себя взрослыми.
Алик откашлялся, потянул еще два раза и отбросил окурок далеко в сторону.
— Ничего, — ободрил его Миклай, — научишься.
Я тоже бросил окурок и сплюнул жгучую горькую слюну. За мной и Япык с Онтоном выбросили свои цигарки и Сапан, а Петюк даже и не курил — только измусолил папиросу.
Теперь мы сидим и ждем Миклая с Коришем, которые, докурив одну цигарку, свернули по второй.
— Сегодня поиграем в войну после работы? — спросил Алик. — Я захватил веревку для стремян.
— Что ж, поиграем, — согласился Сапан.
Алик вскочил с места и, подхватив валявшуюся на земле палку, взмахнул ею как саблей:
— Эскадрон! В атаку! За Родину! Бей фашистов!
— Много ты побьешь их своей саблей, — усмехнулся Миклай. — На лошади против танков не попрешь. Нынче твоему эскадрону на войне делать нечего.
— Вот и есть что! А как же Доватор воевал под Москвой? — горячо возразил Алик и с увлечением принялся рассказать про то, как воевали под Москвой кавалерийские части генерала Доватора.
Я тоже думаю, что танки — танками, а кавалерия — кавалерией. Одно другому не мешает. Для партизан кони, может быть, даже нужнее, чем танки.
Отдохнув, мы снова стали боронить. Я шел за бороной и думал о Доваторе.
Мне представлялось огромное поле — повсюду рвутся снаряды, все вокруг окутывает дым, бегут солдаты, стреляют, кричат «ура-а», и я несусь во весь опор на моем верном Томасе с блестящей шашкой в руке: «Вперед! Смерть фашистским захватчикам! У-ра-а!» Мне весело, и война в моем воображении представляется совсем не страшной. «Взяли бы меня на фронт, — думаю я. — Уж я бы показал, как кавалерии нечего делать на войне...»
Я замечтался и не заметил, как оставил огрех.
— Виктор, не видишь, что ли? — окликнул меня Сапан. — Огрехи оставляешь.
Я резко дернул правую вожжу, но Томас упрямо тянется влево, к пахучим кустикам полыни.
Уже близится вечер! Я обернулся, посмотрел назад. Уходящее за горизонт пробороненное поле кажется огромным листом тетради, расчерченным аккуратными частыми линейками. Любо-дорого посмотреть! Потом взглянул на солнце, которое, став больше и краснее, клонилось к западу.
Я заметил, что и Алик с Сапаном тоже нет-нет да и поглядят на солнце.
— Четыре пальца осталось, — сказал Сапан, сощурившись и прикидывая на пальцах вытянутой руки расстояние между солнцем и горизонтом. — Скоро домой.
Он улыбается, улыбаюсь и я. По правде сказать, я устал, и опять захотелось есть.
Наконец солнце коснулось горизонта.
— Шабаш! — громко крикнул Миклай.
— По ко-оням! — подхватил Алик.
Мы вмиг распрягли лошадей, распустили постромки. Я перебросил концы постромок через спину Томаса, связал их у него под животом, потом, подпрыгнув, забрался на коня и уперся в них ногами, как в стремена. Тут ко мне подскакал Алик и осадил своего Буяна, чуть не столкнувшись со мной.
С криком, размахивая палками и нещадно колотя пятками в тощие бока лошадей, мы поскакали по редкому леску. Когда-то здесь был густой еловый лес, потом его вырубили, и теперь вырубка заросла молодыми березками и осинками.
Мы промчались через всю вырубку, сшибая на ходу палками, как саблями, тонкие ветки. Повернули обратно и промчались еще раз.
Потом Алик остановился и поднял руку:
— Ребята, так играть неинтересно. Носимся как угорелые, и всё. Давайте сыграем в войну по-настоящему.
— А как? — спросил Петюк.
— Разделимся на два отряда и будем воевать отряд против отряда.
— Правильно! — закричал Миклай и замахнулся блестящей, очищенной от коры палкой на Сапана. — Сейчас я тебя зарублю!
Сапан пригнулся и подставил навстречу удару свою палку-саблю.
— Это мы еще посмотрим!
Завязалась самая настоящая схватка. Лошади топтались на месте, задевая друг друга боками, а Сапан с Миклаем размахивали саблями.
Мы окружили их и, не спуская глаз, следили за боем.
Вот Миклай начал теснить менее поворотливого Сапана.
— Сапан! Сапан! Не поддавайся! — кричат одни.
— Миклай, вперед! — кричат другие.
Миклай уже несколько раз задел палкой Сапана, а один раз так вытянул по спине, что Сапан даже охнул.
— Ах, ты так!.. Ты так! — сквозь зубы бормочет Сапан и, не обращая внимания на сыплющиеся на него удары, упрямо старается стукнуть Миклая по голове.
— Стойте! Стойте! — закричал Алик. — Так вы всерьез подеретесь!
— Стой, Миклай! — поддержал Алика Кориш. — Еще не хватает, чтобы вы друг другу головы разбили. Потом отвечай за вас.
Миклай и Сапан нехотя разъехались.
— Воевать будем четверо на четверо, — сказал Алик. — Как дотронешься до противника саблей, так считается, что он ранен. В первый раз — легко ранен, во второй — тяжело, а в третий — убит. Понятно?
— Понятно! Понятно! — закричали мы. — Давай играть!
В наш отряд вошли Алик, я, Сапан и Петюк, а Миклай, Кориш, Япык и Онтон — наши противники.
Отряды разъехались в разные стороны: мы — к ельнику, они — к оврагу за осинник.
Укрывшись в елках, мы устроили военный совет.
— Я знаю Миклая, он обязательно придумает какую-нибудь хитрость, — говорит Алик. —Только и мы не лыком шиты. Будем действовать по всем правилам военной науки. Предлагаю такой план действий...
— Ну давай, — говорю я, — только скорей...
— У Миклая отряд сильнее нашего, — начал Алик.
— Конечно, — сказал Сапан, — у нас Петюк, а у них Кориш.
— Миклай будет стараться ударить в лоб, — продолжал Алик, — значит,
нам надо уклониться от атаки, обойти его и ударить с тыла. Виктор останется здесь, в ельнике, и будет отвлекать на себя внимание противника, а мы объедем вырубку стороной и, когда Миклай пойдет в атаку на Виктора, выскочим сзади.
Алик, Сапан и Петюк ускакали, я остался в ельнике.
Сначала все было спокойно. Потом вижу — на другой стороне поляны шевельнулись кусты: их разведчик, понял я. Я как будто ничего не замечаю, стронул Томаса с места и высунулся из-за елки. Разведчик меня увидел и быстро пополз обратно, только ветки над ним закачались.
Через несколько минут слышу — скачут. На поляне показался вражеский отряд в полном составе: Миклай, Кориш, Япык и Онтон.
— Ура-а! — закричал Миклай. — Мы вас обнаружили! Выходите драться!
«Эх, только бы наши успели! — притаившись в ельнике, думаю я. — Только бы успели!»
— Эй, вы, выезжайте на поляну! — кричит Миклай. — Струсили?
Я молчу.
— Все равно выгоним вас из леса! — кричит Миклай.
Тут я увидел за его спиной Алика, Сапана и Петюка, скачущих по вырубке. Миклаю и его отряду наших не видно.
— Это мы струсили? — громко крикнул я и ударил Томаса в бока. — В атаку! Ура-а!
Я поднял саблю и помчался навстречу Миклаю.
Вижу, Миклай скачет ко мне, а остальные что-то медлят. Наверное, они заранее договорились, кому с кем сражаться, и теперь ждут, когда из леса покажутся Алик, Сапан и Петюк.
— Алик, Сапан, Петюк, за мной! — скомандовал я.
Моя хитрость удалась: Кориш ударил пятками коня и помчался за Миклаем, Япык и Онтон — за ним.
Мы встретились с Миклаем на самой середине поляны. Я почувствовал, как моя сабля ткнулась в него, и в тот же момент ощутил, что и его сабля коснулась моей руки.
— Ты ранен, ранен! — закричал Миклай.
— И ты ранен!
— Я не ранен!
— Ранен! — крикнул я и еще два раза подряд ударил Миклая по плечу. — Теперь убит!
— Сам ты убит!
Кориш, Онтон и Япык подскакали к нам и окружили меня. Но в это время сзади их послышалось громкое «ура», и наши противники даже не успели повернуть коней, как все оказались сраженными.
— Мы победили! — объявил Алик.
— Победили! Победили! — радовался Петюк и кричал громче всех. — Мы победили!
— Чего разорался, победитель? — сердито оборвал его Миклай. — Сопли сначала утри.
— Все равно мы победили! — не унимался Петюк.
Миклай схватил его за рукав и дернул изо всех сил. Петюк взмахнул другой рукой и полетел прямо под ноги лошадям.
— Ой, мамочка! — испуганно закричал Петюк, и в следующую минуту послышался его отчаянный рев.
Мы все очень испугались: ведь лошадь могла ненароком зашибить его и даже ударить копытом в висок.
— Что с тобой? — бросился к Петюку Алик. — Вставай скорее!
— Ой, мамочка! — причитал Петюк. — Ой, больно! Ой, мамочка!..
Правда, скоро выяснилось, что Петюк только ушибся и ревел просто от страха, но настроение у нас было испорчено и играть мы больше не стали.
Глава вторая
Частенько, собирая после ужина посуду со стола и отворачиваясь от наших голодных глаз, мать вздыхает:
— Всю нашу жизнь порушил Гитлер проклятый. Мы-то ладно, живем в тихом месте. А каково нашему отцу?.. Может, и не вернется... — Она смахивает набежавшую слезу и вздыхает еще глубже. — Там-то, на фронте, ни дома, ни крыши... И постель и перина — сырая земля. Да и еда, небось, не каждый день бывает...
Мы слушаем мать и тоже вздыхаем.
Бои на фронте усиливаются. Я читаю в газетах все, что пишут о войне, читаю о подвигах наших героических солдат, о партизанах, о том, что не только взрослые бесстрашно борются против врага, но и дети. Иной раз я думаю с сожалением: «Жаль, что я живу не в прифронтовой полосе. Жил бы я там, где идет война, я бы тоже помогал Красной Армии или партизанам».
Думаю, думаю... и о чем только не передумаю!
Вот я становлюсь невидимым, пробираюсь в Берлин и убиваю Гитлера. Потом представляю себя партизаном. Я действую храбро, умело. Летят под откос вражеские поезда, взрываются склады с боеприпасами — это все дело моих рук. Меня представляют к награде и доверяют мне командование отрядом...
В конце концов после таких размышлений я решил пробраться на фронт.
Одному, конечно, ехать на фронт не годится, дорога дальняя, трудная, надо искать товарища. Кого позвать с собой? Об этом я долго не думал: конечно, Алика.
Со дня на день я собирался поговорить с ним, да все не было удобного случая.
Сегодня с утра моросит дождь, и я сижу дома, плету себе про запас лапти.
Мать глянула в окно и говорит:
— Теплый дождик, грибной... Виктор, лапти вечером доплетешь, а сейчас сходил бы грибов поискал...
Я с радостью отложил недоконченный лапоть и мигом собрался в лес. По пути зашел за Аликом.
Когда мы подошли к лесу, дождь почти перестал. Мы идем, разговариваем о том о сем. Больше всего, конечно, о войне.
— Я бы хотел стать летчиком, — говорит Алик. — Вот был такой герой летчик Виктор Талалихин...
— Знаю, читал. Это тот, который своим ястребком протаранил немецкий бомбардировщик...
— Жалко, что он погиб. Правда?
— Правда.
Я остановился и взял Алика за руку.
— Ты что? — Он посмотрел на меня вопросительно.
— Ты мне друг?
— Друг.
— Слушай, я тебе как другу говорю. Я ухожу на фронт. Хочешь, идем вместе!
Алик недоверчиво засмеялся.
— Ты это серьезно?
— Не веришь? Думаешь, шучу? Если боишься, так и скажи. А я один все равно уйду. Вот увидишь, совершу какой-нибудь подвиг.
Алик перестал смеяться, а я, видя, что он колеблется, быстро заговорил:
— Возьмем с собой хлеба, картошки напечем.
— Мать не пустит...
— А мы не скажемся.
— Значит, убежим?
— Убежим!
— В тот же день хватятся, сообщат в милицию, и нас вернут.
Тут уж я задумался.
— А знаешь, мы скажем, что пошли в город, в гости. У меня в Йошкар-Оле тетка живет.
— У нас тоже там есть родственники.
— Вот и здорово!
После того как мы решили бежать на фронт, нам уж было не до грибов, и мы не столько глядели под елки, сколько говорили о предстоящем побеге, о фронте.
Мы условились бежать через две недели.
— Смотри, не проговорись! — предупредил я Алика.
— Ну что ты! Разве я не понимаю?..
Мать удивилась: чего это я вдруг захотел к тетке. Но я сказал, что, мол, хочу посмотреть город — в городе-то я никогда не был.
Алик так же сказал своей матери. Нас отпустили.
И вот настал назначенный день. Мы с Аликом сложили в холщовые сумки хлеб, картошку; кроме того, мать дала мне десяток вареных яиц.
Мать стала подробно объяснять, как найти в городе тетку, но я все ее объяснения пропустил мимо ушей: зачем мне это, когда я вовсе не к тете собираюсь.
«Прощай, мама, теперь мы не скоро увидимся, — думал я. — Если бы ты знала, куда мы едем...»
— Да ты запиши адрес, — говорила мать.
— Не надо, я так запомнил, — отмахнулся я.
Мать с Нинкой проводили нас до околицы, дальше мы с Аликом зашагали одни. Когда деревня скрылась за лесом, мы остановились, достали из мешков самодельные пистолеты и переложили их в карманы: оружие всегда должно быть под рукой.
Мы вышли на шоссе. Слышим, догоняет машина. Алик поднял руку, но машина не остановилась. Вторая тоже не остановилась, и третья. Мы прошли километра два с половиной, когда нас нагнала еще одна машина. Тогда мы оба замахали руками.
На этот раз шофер попался добрый и посадил нас в кузов.
Ух и весело же мчаться на машине! Бегут мимо поля, мелькают перелески, вот позади осталась какая-то деревня. Ветер свистит в ушах.
— Здо́рово! — кричу я Алику.
— Здо́рово! — кивает он мне в ответ. — Обязательно пойду в летчики!
— А я буду кавалеристом или танкистом!
...Я знаю, Алик давно уже решил стать летчиком. Мы и подружились-то с ним из-за самолета. Случилось это еще в пятом классе, до войны.
Как-то раз я сделал самолет. Из полена вытесал фюзеляж, из доски выпилил крылья, гвоздем прибил жестяной пропеллер, потом приладил свой самолет на крыше сарая. Когда дул ветер, пропеллер вертелся.
— Посмотри-ка, какой я самолет сколотил, — похвалился я Алику. — Вон как пропеллер вертится, того гляди, улетит.
А ветер в тот день был сильный, и пропеллер вертелся, аж гудел.
Алик посмотрел немного и отвернулся.
— Хороший, — говорит, — самолет, только не летает.
— Так он же не настоящий! — возразил я.
— Все равно, можно сделать, чтоб летал. Ты слышал про летающие модели?
— Слышать-то слышал, а вот как их делают, не знаю.
— А я видел в школьной библиотеке книжку, в ней рассказывается, как делать летающие модели самолетов. Я ее возьму, и давай сделаем с тобой такой самолет, чтобы летал.
— Давай! — обрадовался я.
На другой день Алик принес книгу. Каких только там не было самолетов! И без мотора — такой самолет называется планер, и с моторами — с резиновым и с бензиновым. Мы выбрали самолет с резиновым мотором. Конечно, лучше бы построить с бензиновым, но у нас не было моторчика и достать его было невозможно. Резины у нас тоже не было, но ее все-таки достать легче.
Алик перерисовал из книжки все чертежи на лист бумаги.
— Я, — говорит, — буду авиаконструктор, а ты — мой помощник.
Толковый он парень, Алик, сразу понял, что к чему, и мы в тот же день начали строить модель.
Через неделю летающая модель была почти готова, оставалось только поставить мотор. Но резины у нас все еще не было. В сельпо она не продавалась, в райцентре тоже.
Правда, в нашей деревне у одного мальчишки была резина, как раз такая, какая нам нужна, но, как говорил дедушка: «Есть-то есть, да не про нашу честь».
Резина была у Миклая, уж не знаю, откуда он ее достал. Просить у него было бесполезно — не даст, такого другого жмота по всей деревне не сыщешь.
Однажды вечером я сидел возле своего дома, вижу — идет Алик и ведет с собой Миклая.
— Ну, что у вас за модель? Показывайте, — насмешливо сказал Миклай. — Эта, что ли?
Он взял нашу модель в руки, повертел ее, посмотрел.
— Вообще-то похоже на самолет. Только полетит ли?
Уловив в голосе Миклая зависть, я довольно улыбнулся, а Алик говорит:
— Полетит, конечно. Только у нас нет резины. Я слыхал, у тебя есть.
— Есть. А вам-то что?
— Дай нам.
— Ишь какие хитрые! А вы мне дадите позапускать ваш самолет?
— Дадим.
Миклай нахмурился и засопел. Он долго молчал, наконец проговорил:
— Ладно, будет вам резина.
Он сбегал домой и принес моток крепкой черной резины. Мы быстро приладили ее к модели и пошли за деревню на выгон пробовать, как она летает.
Пока мы шли по деревне с белокрылым самолетом, за нами увязалась целая толпа.
Пришли на выгон. Алик закрутил пропеллер и подбросил самолет вверх. Самолет сначала как будто бы начал падать, но потом выровнялся и пошел вверх.
— Летит! Летит! — кричали ребята.
Самолет пролетел весь выгон и у леса плавно опустился на землю.
— Молодец, Алик, ты — настоящий авиаконструктор! — сказал я.
— Так мы же вместе делали, — ответил Алик. — Значит, ты тоже молодец.
— А резина чья? — вмешался Миклай. — Моя. Без резины ваш самолет не полетел бы. Значит, я тоже имею право на самолет. Давай теперь я буду запускать — как договорились.
Без резины наш самолет, конечно, не полетел бы. Но мне очень не хотелось отдавать нашу модель в руки Миклаю.
— Давай-давай, — торопит он, — а то отберу резину.
Ничего не поделаешь, пришлось дать.
Мы договорились, что модель будет находиться у всех нас по очереди: день — у Алика, день — у меня, день — у Миклая.
До самой темноты мы запускали самолет, а потом Миклай унес его к себе домой.
На следующий вечер мы с Аликом, как сговаривались, пришли на выгон, чтобы опять запускать модель. Миклая там не было. Мы долго ждали его, но он так и не пришел.
Целую неделю Миклай не отдавал самолет, а потом отдал без резины и с поломанным крылом...
За то время, пока строили модель, мы с Аликом крепко подружились. Так и дружим до сих пор.
...На краю Йошкар-Олы возле большого деревянного моста шофер остановил машину и ссадил нас.
— Ну, герои, приехали. Знаете, куда идти?
— Знаем.
— Вы зачем в город-то? Посмотреть?
Мы с Аликом переглянулись.
— Да так, в гости... Спасибо, дяденька.
Мы перешли мост и очутились на длинной улице, по обеим сторонам которой стояли большие каменные дома, а вдоль домов тянулись дощатые тротуары.
Какая-то бабушка показала нам, как пройти к вокзалу.
Мы идем, смотрим вокруг. И я и Алик впервые видим такие большие дома. Я нахлобучил фуражку поглубже на голову, чтобы не свалилась, и иду, задрав голову. Алик, заглядевшись на что-то, споткнулся и шлепнулся носом в пыль. Прохожие засмеялись, а Алик насупился и, засовывая ногу в свалившийся лапоть, сказал:
— Пошли скорее на вокзал, мы же не город смотреть приехали.
— Пошли, — согласился я, и мы зашагали, нигде больше не задерживаясь.
На вокзале было полно народу. Мы потолкались в зале ожидания,
постояли возле очереди у
кассы.
Высокий костлявый
старик со злым и усталым
лицом цепко схватил
меня за плечо и повернул
к двери:
— Во-он где конец-то
очереди. Люди по пять
суток ждут, а вы сразу
билет хотите?
Мы отошли, тем более что билетов брать не собирались, потому что у нас не было денег.
Мы пошли бродить вокруг вокзала. На путях стояли товарные составы, туда и обратно катался маленький маневровый паровозик. Возле перрона стояли девять пустых пассажирских вагонов, все двери в них были заперты.
— Наверное, это поезд на Казань, — догадался Алик.
— Наверное, — согласился я. — В нем и поедем.
— Боязно без билетов.
— А мы, как пойдет контролер, залезем под лавку. Я в книжке читал, безбилетники всегда так делают.
Под вечер началась посадка. Мы с Аликом правильно догадались: те пустые вагоны как раз и были казанским поездом.
Люди бегут по перрону, тащат мешки, толкаются.
«Ну, — думаю, — в этой суматохе мы запросто проберемся в вагон».
Мы к дверям вагона, а там проводник:
— Куда лезете! Билеты есть?
— Дяденька, нам в Казань надо, к сестре едем, — жалобно говорю я ему.
— Без билетов не пущу! Пошли отсюда! Не загораживай дорогу!
Делать нечего, мы отошли от вагона, стали советоваться что теперь делать. Видать, на поезд нам не сесть, ведь у каждой двери стоит проводник и проверяет билеты.
И вот поезд тронулся.
Настроение у нас сразу упало, хоть плачь. У Алика, вижу, губы дрожат. Ну что стоило проводнику посадить нас? Ведь мы же не играть едем, а на фронт бить врага.
— Ладно, Алик, — сказал я, — не дрейфь. Завтра еще попробуем: поезда каждый день ходят.
Алик кивнул головой:
— Попробуем.
Молча брели мы по городским улицам. Уже темнело. Я еле волочил ноги — ведь как-никак весь день на ногах, устал и есть хочется и спать. Но я стараюсь не показывать виду. Наверное, Алик чувствует себя не лучше моего, но и он не жалуется.
Вот тут-то я пожалел, что не записал теткиного адреса. Город не деревня, и люди здесь какие-то не такие. В деревне можно было бы попроситься переночевать в любую избу, а тут как-то боязно.
— И я не знаю, где тут живет наша родня, — сказал Алик.
Мы шли, посматривая на сараи во дворах, — может быть, банька какая, развалюшка, попадется. Но, так и не решившись никуда зайти, вновь вышли на край города к большому мосту.
За мостом вдалеке виднелся большой стог сена. Не сговариваясь, мы молча направились к нему. Разрыли сено и забрались в теплую мягкую нору.
Проснулись мы, когда солнце стояло уже высоко. Поели картошки, съели по паре яиц и опять пошли в город, на вокзал.
Но и на этот раз нам не повезло — сесть на поезд не удалось.
— Может быть, завтра уедем, — неуверенно сказал я.
Алик махнул рукой.
— Все равно не посадят. Было бы поближе, дошли бы пешком, а фронт далеко — не дойдешь...
— Как же быть?
— Придется возвращаться домой.
Я совсем повесил голову.
— Ничего, — утешал меня Алик. — Поработаем в колхозе, заработаем побольше трудодней, будут деньги на билет...
Закинув на плечи пустые котомки, мы прошли через город и вышли на шоссе.
Глава третья
Сентябрь начался дождями. Целые дни льет и льет как из ведра, перестанет ненадолго и снова зарядит на многие часы. Под порывами холодного ветра летят и летят с деревьев листья. На грязных дорогах стоят серые лужи. Холодно и тоскливо.
Да, видать, пришла осень, а там и зима не за горами.
Ничего хорошего от наступающей зимы я не жду.
Алик идет учиться в восьмой класс. В нашем селе только семилетка, и ему теперь придется ходить за девять километров.
Раньше мы с ним вместе учились, два года даже на одной парте сидели, но я еще прошлой зимой бросил школу. Все равно больше приходится в колхозе работать, чем учиться: то на картошку посылают, то солому возить, и погулять тоже надо. Придешь вечером домой, никакая учеба не лезет в голову.
Мать меня уговаривала:
— Сынок, ведь ученому жить легче, уж как-нибудь доучился бы, хоть бы семилетку кончил...
— После войны доучусь, сейчас работать надо, — отговариваюсь я.
— Смотри, потом меня не вини: мол, учиться не посылала, на себя пеняй...
Алик, конечно, тоже работает, и погулять ему охота, но он все-таки кончил седьмой класс, сдал экзамены и вот теперь поступил в восьмой.
— Для чего тебе учиться? — говорю я ему. — В колхозе работать и шести классов хватит.
А он смеется:
— Хочу ученым быть. И тебе советую идти опять в школу.
— А ну ее!
Несмотря на ненастную погоду, на полях роют картошку. Рабочих рук не хватает, поэтому начало учебного года в старших классах перенесли с первого сентября на первое октября. Так что пока еще мы с Аликом и работаем вместе, и гуляем, а как будет потом — не знаю.
Наступил октябрь. Алик сначала каждый день ходил из школы домой, девять километров туда, девять — обратно. Потом стал оставаться в школе на неделю.
В деревне его прозвали «инженер Лепешкин», потому что он набирает с собой в школу картофельных лепешек и всю неделю только их и ест.
Алик не обижается. «Все равно, говорит, буду инженером-авиаконструктором».
Мы с ним теперь видимся редко. Он приходит домой только на воскресенье и весь день сидит за уроками.
Таких упорных ребят, как он, которые не бросили учебы, всего пять человек на всю деревню, а остальные, как и я, не учатся. Не учатся Миклай, Сапан, Онтон — всех и не припомнишь сразу.
Мы работаем, а когда нет работы, шатаемся по деревне, не зная, куда деться от скуки.
В один ясный солнечный день я набрал в карманы картошки и пошел в лес. «Испеку, — думаю, — ее на костре».
В лесу пусто и тихо. Медленно падают последние листья, под ногами шуршит мягкая подстилка из опавшей листвы. Изредка донесется одинокий крик какой-то птицы, и снова тишина.
Я сложил костер, разжег его и сижу возле огонька один, как Робинзон Крузо.
Вдруг слышу, за спиной затрещали сучья — уж не зверь ли какой бродит? Оборачиваюсь, за мной стоит Миклай с ружьем в руке.
— Я уж думал, на дезертира наскочил, испугался, — с облегчением вздохнув, говорит Миклай. — А это, оказывается, наш, деревенский. Ты чего тут?
— Да так, — отвечаю. — Садись, гостем будешь. Сейчас картошка испечется.
Миклай положил ружье на землю и присел на корточки рядом со мной.
У Миклая вид заправского охотника: и ружье, и кожаная сумка с застежкой на боку.
— А ты чего ходишь с ружьем? Охотишься?
— Вот сороку подстрелил, — говорит Миклай, открывая сумку.
Костер прогорел, и картошка, должно быть, уже испеклась. Я выгреб из золы несколько картофелин и кивнул Миклаю:
— Бери, ешь.
Обжигаясь, мы принялись есть пахнущую дымком, кое-где обуглившуюся картошку.
— Вкусно, — сказал Миклай. — Никогда не думал, что может быть такая сладкая картошка.
Он весь вымазался в золе и саже; доест одну картофелину и тут же принимается за другую.
Мы съели всю картошку и закурили.
— Значит, охотишься? — говорю.
— Охочусь. Хочешь посмотреть, как я стреляю?
Миклай поднял ружье и прицелился в пролетавшую над поляной ворону. Бу-ух — пронесся по лесу выстрел. Бу-ух! — громыхнуло эхо. Ворона с громким испуганным карканьем взвилась вверх и улетела.
— Дай-ка я постреляю.
— А ты умеешь?
— Попробую.
Миклай перезарядил ружье и дал мне.
— Нажимай на курок.
Я взял в руки ружье. Впервые в жизни я держу в руках настоящее ружье. И радостно и боязно: сейчас нажму на курок, и оно выстрелит.
Но мне не хочется стрелять просто так, и я оглянулся вокруг, ища, во что бы мне выстрелить.
— Вон сорока сидит, — тихо шепчет Миклай. — Только далеко, не попадешь.
Мы стали потихоньку подкрадываться к сороке.
— Стреляй! — шепчет Миклай.
Прицеливаюсь, нажимаю курок. Выстрел! За белым дымом я ничего не вижу перед собой.
Когда дым рассеялся, сороки на дереве не было, ее черно-белые крылья уже мелькали вдалеке между голыми стволами деревьев.
Промазал!
Мы с Миклаем пошли бродить по лесу. Он дал мне еще раз стрельнуть, а потом говорит:
— Приходи сегодня вечером на конный двор, в пристройку для конюхов.
— Зачем?
— Там увидишь. Придешь?
— Не знаю.
— Приходи.
Вечером я пошел на конный двор. Захожу в пристройку, в которой зимой греются конюхи, там сидят за столом Миклай, Сапан, Япык и играют в карты.
— Садись с нами, — позвал меня Миклай, — играть в подкидного дурака.
— Да я не умею играть.
— А ты приглядывайся и научишься.
Я стал играть в паре с Миклаем, а Сапан и Япык — против нас. Первый кон мы остались в дураках.
Сапан и Япык смеются, а меня заело.
— Давай, — говорю, — второй кон.
— Ничего, отыграемся, — подбадривает меня Миклай.
На второй кон мы опять остались дураками, но зато третий и четвертый — выиграли. Тут уж смеяться пришел наш черед.
Мы сыграли конов десять. Я так увлекся игрой, что про все позабыл: и про то, что пора идти домой, и про то, что хочется есть.
Потом в пристройку пришел Кориш. Он посмотрел-посмотрел на нашу игру и говорит:
— Ну что это за игра? Давайте лучше сыграем в очко.
— Давай, — обрадовался Миклай. — Я банкую. В банке полтинник.
Он собрал карты и долго их перетасовывал. Тем временем ребята достали из карманов деньги и положили их на стол перед собой. У меня денег не было, поэтому я хотел было идти домой, но Миклай уговорил меня остаться посмотреть.
Весь остаток вечера я простоял за спиной Миклая.
Очко показалось мне еще интереснее, чем подкидной дурак. Вот выигрывает Япык. Выигрывает раз, другой, третий. Ну и везет же ему! У Сапана не осталось ни копейки, но он не ушел домой, а стал, как и я, смотреть на игру.
Уже наступила ночь, когда Миклай объявил:
— Играем последний кон.
В ту ночь мне все время снились карты — тузы, короли, десятки, шестерки. Они складывались одна к другой, и все время получалось очко. Утром я проснулся с мыслями о картах, о вчерашней игре. Мне очень хотелось самому поиграть в очко. Но где взять денег? Мать на игру, конечно, не даст...
Когда мать ушла на работу, а Нинка еще спала, я открыл крышку сундука и принялся рыться в старых отцовских рубашках. Я сам видел, как мать, завернув деньги в платок, убирала их в сундук.
Роюсь, а сердце бьется часто-часто.
Вог он, сверток. Разворачиваю, в свертке рублевки, трешки, несколько пятерок. Взять? И мне кажется, что кто-то говорит: «Возьми!», а другой голос останавливает: «Не тронь! Нехорошо брать без спросу!»
Конечно, нехорошо, я сам это знаю. А сыграть хочется. Может быть, выиграю, как Япык. А-а, была не была! Я взял два рубля, но потом, подумав немного, один положил обратно. Может быть, мать не заметит, что денег стало на рубль меньше.
Я сложил рубахи, как они лежали прежде, и захлопнул сундук.
Громко хлопнула крышка, я вздрогнул и оглянулся на печку. Слава богу, Нинка не проснулась. Наверное, крышка хлопнула не так уж сильно, как мне показалось.
Теперь рубль у меня в кармане. А на сердце тревожно, как будто я украл этот рубль.
Нет! Я его просто взял, ведь рубль-то наш, да и мать ничего не узнает.
Вечером на конном дворе опять шла игра. Сначала поиграли в дурачка, потом начали играть на деньги.
Чтобы не проиграть сразу все, я пошел на двадцать копеек. У меня сердце замирало, когда Миклай сдавал мне карты. Ну, думаю, прощай мой двугривенный!
Но я выиграл!
После этого я стал играть по гривеннику. Играю, а денежки все идут ко мне. Помаленьку, но накапливаются.
— Везет же Виктору, — с завистью говорит Япык. — Счастливый!
Может, я и вправду счастливый? Бабушка всегда говорила, что я родился в сорочке.
— Он хитрый, — кивнул на меня Миклай, — на много не идет, а по копейке не проиграешься.
Чувствую, что он поддразнивает меня, но не поддаюсь.
— Хватит играть, — говорю, — уже поздно, пора спать.
— Ишь какой хитрый! — дружно закричали ребята. — Сам выиграл, а теперь хочет уйти!
Оказывается, у игроков есть такой закон: если выигрываешь, то не имеешь права выходить из игры, пока другие не отпустят.
Ну что ж, раз так, давайте играть. Мы продолжали игру. Я опять все время выигрывал.
Не знаю, сколько бы мы так играли, да пришел дед Петруш — сторож скотного двора — и прогнал нас.
Веселый, радостный шел я домой. В кармане звенит мелочь, и мой рубль цел.
Дома мать спрашивает:
— Где ты был?
— На конном дворе.
— А чего так поздно?
— Дед Петруш сказки рассказывал, — ответил я и отвернулся, чтобы мать не догадалась, что я вру.
Но мать больше ничего не стала спрашивать, а я сразу лег спать.
Я хотел положить рубль обратно, но на следующий день не сумел, а к вечеру после игры у меня осталось всего семьдесят копеек.
Мать не заметила, что в сундуке стало на рубль меньше.
Глава четвертая
Время идет, как в реке вода течет. Только вода всегда одинакова, а день ото дня чем-нибудь да отличается.
Однажды утром я проснулся, и мне показалось, что в доме стало светлее, чем всегда. Я вылез из-под старой шубы, которой покрывался на ночь, и выглянул в окно.
Все вокруг белым-бело. Землю, крыши, деревья — все покрыл белый пушистый, как гусиный пух, снег.
Пришла зима!
Я смотрю в окно и не могу сдержать улыбки, и сердце наполняет беспричинная радость.
«Ну, теперь лошади легче работать, — подумал я, припомнив поговорку, которую любил повторять дедушка: «Зимою лошадь сани на хвосте увезет».
С наступлением зимы работы не стало меньше: то ездим в лес за дровами, то возим корма для скотины, то навоз на поля. В общем, дела хватает. Иной раз утром проснешься— темно, холодно, так неохота вставать, а приходится.
Отец, уходя на фронт, наказывал мне:
«Ты, Виктор, останешься один мужик в доме, смотри, помогай матери, от работы не бегай».
Я стараюсь, выполняю отцовский наказ, за любое дело берусь, ни от какого наряда не отказываюсь — в лес так в лес, на поле так на поле.
Курить я стал всерьез. Однажды конюх дед Петруш посмеялся:
«Ты, говорит, Витька, стал заправским мужиком, все дымишь да дымишь, как паровоз...»
Меня его слова, честно признаться, обрадовали.
Мать, бывало, ругает меня за курение, но я курить не бросаю, потому что я теперь мужик, сам себе хозяин: что хочу, то и делаю.
В карты мы играем каждый день. Я так пристрастилсяк игре, что, кажется, дня бы без карт не прожил. Иногда мы играем даже на работе, отойдем куда-нибудь в сторонку и перекинемся разок-другой.
Зима между тем завернула не на шутку. Только выйдешь на улицу, мороз сразу хватает за нос, щиплет за щеки, пробирает до самых костей. Старая одежонка греет плохо.
На всех окнах намерзло льду на палец. Утонувшие в сугробах дома кажутся подслеповатыми стариками, пригнувшимися к земле под тяжестью лет и немощей. Посмотришь на них — и становится их жалко.
Из-за сильных морозов вот уже третий день нас, возчиков, бригадир не наряжает на работу.
Я сидел-сидел дома, заскучал и вышел на улицу. Улица совсем пуста, даже ребятишки все сидят по домам, и я тоже вернулся в избу.
Мать села прясть. Мелькают ее быстрые руки, жужжит прялка, тянется нитка. Я смотрю на мать и удивляюсь: всегда у нее в руках какая-нибудь работа, и чего только она не умеет — даже топором работает, как настоящий плотник!
В избе темновато, только у самого окошка еще что-то видать.
А все-таки, если правду сказать, скучновато без учебы.
Я залез на полати и достал оттуда свои книги. Среди старых учебников у меня там был роман Шкетана2 «Эренгер». Когда-то, еще в школе, я начал его читать и не дочитал.
Читать я люблю. Бывало, когда учился, всегда брал книги из библиотеки.
Я сел с книгой к окошку. Сижу, читаю. Вдруг слышу в сенях чьи-то шаги. Скрипнула дверь, и в избу вошел окутанный морозом Миклай.
— Чем занимаешься, Виктор?
— Читаю. Очень интересная книга — «Эренгер». Вот кончу и дам тебе почитать. Хочешь?
— Да нет, не надо. Неохота читать. Пойдем лучше на конный двор, все ребята там, — сказал Миклай и потихоньку, чтобы не услышала мать, добавил: —В карты сыграем.
— У меня денег нет.
— Я тебе займу. Выиграешь — отдашь.
Что-то добрый стал Миклай: то у него копейки не выпросишь, а тут сам предлагает. Сыграть, конечно, хорошо, да боязно брать у него деньги. Если опять проиграюсь, чем отдавать? Я вздохнул и говорю Миклаю:
— Нет, не пойду. Я лучше книгу почитаю.
— Потом почитаешь. Книжка от тебя никуда не уйдет, и я тебя научу, как всех обыгрывать.
— А ты сам-то умеешь?
— Сегодня научился. Пошли, по пути расскажу. Одевайся.
Миклай взял у меня из рук книгу и забросил на полати. Мне очень хотелось научиться выигрывать, и я стал одеваться.
— Куда вы в такой мороз? — спрашивает мать. — Сидели бы дома...
— Мы, мама, на конный двор.
— Опять сказки слушать?
Миклай хотел что-то сказать, но я ему подмигнул: молчи!
— Сказки. Дед Петруш опять обещал рассказывать.
— Ну ладно, иди — кивнула мать. — Да смотри не поморозься.
Я быстро оделся, и мы с Миклаем вышли на улицу.
— Ну, — тороплю я Миклая, — выкладывай скорее.
— Не погоняй, — отвечает Миклай, — тут дело такое: прежде чем говорить, сообразить надо.
— А кто тебя научил?
— Никто, я сам узнал. Мой дед сегодня соседу рассказывал, как и в прежние времена в карты играли, а я подслушал. Вот тогда играли так играли! По тыще рублей проигрывали. И на лошадь играли, и на корову.
— Не может быть! — не поверил я.
— Ей-богу! Дед рассказывал, что он сам один раз на ярмарке выиграл лошадь с телегой.
— Здорово ему повезло!
— Повезло! — засмеялся Миклай. — Он безо всякого везенья выиграл.
— А как же?
— Хитростью. Давай и мы сегодня попробуем играть, как дед.
— А сумеем?
— Сумеем, это очень просто. Ты будешь смотреть в карты того, кто играет против меня, и показывать мне условными знаками, сколько очков он набрал. А я буду тебе показывать.
— Какими знаками?
— Если у него шестнадцать очков, ты себя берешь за нос, если семнадцать, дотронешься до уха, если восемнадцать — до правого глаза, девятнадцать — до левого, а двадцать — почешешь в затылке. Понятно?
— Понятно. Только ребята нас за такое дело поколотят.
— Вот дурак! Они ничего не узнают. Дед всю жизнь так играл и ни разу не попался. Вот мы сегодня всех объегорим! — радуется Миклай.
На конном дворе игра уже шла вовсю.
— А ну дайте мне карту! — весело говорит Миклай.
— И мне, — тихо говорю я.
Когда Миклаю подошла очередь банковать, он подмигнул мне: мол, гляди в оба и помни уговор.
Первым начал набирать карты Сапан. Мне хорошо видны его карты. Вот он набрал семнадцать очков. Теперь набирает карты Миклай. Набрав шестнадцать очков, он остановился, как бы раздумывая, брать ему еще карту или не брать, а сам поглядывает на меня.
Я быстро дотронулся до кончика носа и сразу же отдернул руку. Мне показалось, что все ребята заметили этот знак. Но никто ничего не заметил. Миклай взял еще одну карту и выиграл.
Первый добытый хитростью гривенник перешел от Сапана к Миклаю.
Хитрость удалась на славу, мы с Миклаем выигрываем чаще всех. Ребята раззадорились, им тоже хочется выиграть, а Миклай смеется:
— Кончай играть, а то я все деньги у вас выиграю!
— Ты небось жулишь! — сердито сказал Сапан.
— Ничего не жулю, просто надо уметь играть.
Мы играли до тех пор, пока не начало темнеть, и, чтобы разглядеть карту, приходилось подносить ее к самым глазам.
Я собрался идти домой, но Миклай остановил меня:
— Виктор, поди-ка сюда.
Мы с ним пошли за конюшню.
Там стояли, видимо ожидая нас, Кориш, Сапан и Япык.
— Вот что, Виктор, — говорит Миклай, — хочешь выпить?
— Чего?
Кориш засмеялся и, задрав подбородок, щелкнул себя по горлу:
— Как — чего? Того самого.
Я растерялся:
— Нет, не хочу... Мы же не мужики, пить водку...
— Денег жалеешь? — спросил Миклай.
— Денег не жалко, да... — Я замялся, стараясь придумать какую-нибудь отговорку. Я никогда не пил водку и, по правде говоря, боялся пить.
— Ну и жмот же ты! — усмехнулся Сапан. — Всех обыграл, а несколько рублей жалеешь.
— Присоединяйся к компании, — сказал Кориш.
Миклай первым вынул из кармана две трешки. За ним стали выкладывать деньги другие, и я тоже дал пятерку.
Кориш убежал и вскоре вернулся с двумя поллитровыми бутылками, заткнутыми тряпочными пробками. Даже сквозь пробки чувствовался тяжелый дух самогонки.
— А где будем пить? — спросил я.
— Не беспокойся, не впервые, — подмигнул Миклай. — Пойдем на мельницу к Семону Фомину, с ним всегда можно договориться. Поднесем ему стопку — и все в порядке.
С тощим, беспрерывно кашляющим мельником Семоном Фоминым мы действительно сразу договорились. Он даже обрадовался нашему приходу, засуетился, достал железную кружку, на закуску дал пару луковиц и соленых огурцов.
Миклай откупорил и разлил первую бутылку. Кружку он подал мельнику, один стакан взял сам, другой протянул мне:
— Пей, Виктор! Только не тяни, а сразу.
— Сам знаю, — ответил я, стараясь держаться так же уверенно, как Миклай и другие ребята.
Я поднес стакан ко рту. От густого, тяжелого запаха, шедшего от самогона, меня начало мутить, но я зажмурился и отхлебнул сразу полстакана.
Рот и горло обожгла противная горечь, я задохнулся и широко раскрыл рот, глотая воздух.
— Молодец! — послышался одобрительный возглас Миклая. — Крепкий парень. Закусывай скорей.
Я сунул в рот половину соленого огурца. Ядреный рассол немного заглушил горечь. Вдруг чувствую, все вокруг меня поплыло, голова сделалась какой-то легкой-легкой, мне стало весело.
Мельник, выпив свою кружку, сразу опьянел. Он вылез из-за стола и пошел плясать, топчась на одном месте и размахивая руками. Ребята засмеялись:
— Давай-давай пляши, Семон!
А Семону это нравится, он старается еще больше — то притопывает по-марийски, то скачет по-русски вприсядку и сам себе напевает «Барыню»:
— Барыня ты моя, сударыня ты моя! Э-эх!
Ни русской, ни марийской пляски у него не получается, но для пьяного все сойдет. Ему, наверное, кажется, что он пляшет очень хорошо.
Потом на помощь Семону вышел Кориш. Мы смеемся-заливаемся, а они стараются один перед другим. У Кориша развязалась оборка на лапте. Мельник как-то наступил на нее, Кориш шлепнулся на пол, задрав вверх ноги. Мы чуть не лопнули со смеху.
Только поздней ночью мы ушли с мельницы.
Идем через овраг к деревне, орем песни, падаем, хохочем — смешно ведь!
Но, когда я подошел к дому, веселость моя начала проходить. Потихоньку, чтобы не разбудить мать, я вошел в избу. Потихоньку стараюсь пробраться к своей лавке, но по пути споткнулся о прислоненный к печке ухват.
Ухват с грохотом свалился, и я тоже грохнулся на пол.
— Чего ты там шумишь? — крикнула с полатей мать.
— Да так... и-ик... ничего, — заикаясь и еле ворочая языком, говорю я. — Просто так... И-ик!
— Да ты, никак, пьян!
Мать спустилась с полатей и засветила лампу.
— Вправду напился... — удивленно сказала она.
Я пытался встать, но обледеневшие лапти скользили по полу, как коньки по льду. Кое-как поднялся и стою, покачиваюсь посреди избы.
Мать подошла ко мне и с размаху влепила пощечину.
— У-у, пьяная рожа! От горшка два вершка, сопли сам утереть не можешь, а напился, бессовестный!
Я молчу, а мать меня ругает:
— С кем пил? Где денег взял? Что молчишь? Вот сейчас возьму сковородник да отколочу как следует!
— Меня ребята напоили... Пристали и напоили сило́м...
— Что, у тебя своей головы нет? А если они тебя заставят в огонь лезть, и в огонь полезешь? Отец на фронте воюет, кровь свою проливает, а ты...
Вижу — на глазах у матери слезы, я тоже всхлипнул и заплакал:
— Мама, я больше не буду... Никогда не буду пить... Честное слово, мамочка...
Мать помогла мне разуться, и я стал карабкаться на лавку.
Вдруг у меня к горлу подкатил комок. Чувствую, сейчас меня вырвет, зажал рот ладонью. Мать быстро подставила мне помойное ведро.
— Будешь знать, как пьянствовать, зеленая твоя голова! — с укором приговаривала мать.
Когда я проснулся на следующее утро, то мне было стыдно смотреть матери в глаза. Голова трещит, но я не смею пожаловаться, только пью и пью холодную воду. Вот оно, оказывается, какое бывает похмелье!
Так, с головной болью, я пошел на конный двор. В тот день у нас был наряд возить солому.
Когда я запрягал Томаса, ко мне подошел Миклай:
— У тебя голова не болит?
— Болит немного.
— А у меня здорово болит.
Кориш и Сапан с Япыком ничего не говорили, но по их хмурому виду можно было догадаться, что им тоже не по себе после вчерашней пьянки на мельнице.
Молча подъехали мы к гумну.
— Эй, женихи, что припозднились? — встретила нас насмешливым вопросом бойкая черноглазая Настуш.
Я покраснел, а Миклай не растерялся:
— Всю ночь вы, невесты, снились, просыпаться не хотелось.
Девушки засмеялись. Ну и молодец же Миклай: никогда за словом в карман не лезет, всегда у него на языке какая-нибудь шутка. Я, по правде сказать, всегда завидую его бойкости.
С шутками и прибаутками девушки принялись грузить солому на сани, мы стали им помогать. Настуш, смеясь, толкнула Миклая, и он, дрыгая ногами, скатился с высокой скирды вниз.
Миклай вскочил, взлетел, как белка, на скирду и обхватил плечи Настуш, стараясь ее повалить. На помощь девушке бросились ее подруги. Они облепили Миклая со всех сторон. Тогда я ринулся выручать товарища, оттолкнул в сторону румяную толстушку Ануш, схватил за руку Олюк и стал тянуть ее к себе. Но нас двое, а девушек человек пятнадцать, да и старше они нас и сильнее. Ануш с Олюк повалили меня, сунули головой в солому и давай щекотать.
— Ой, ой! — кричу я и заливаюсь хохотом. — Ой, пустите!
Глядя на нашу веселую возню, улыбались и женщины-солдатки.
— Нельзя же все время горевать, — сказала Орина, жена Элексана. — Приходите, девушки, сегодня ко мне. Посидим вместе. Надоело все одной да с детьми.
— Ладно, придем, тетя Орина, — ответила Настуш.
— А нас ты не зовешь? — повернулся к Орине Миклай.
— Приходите, приходите, веселей будет, — согласилась Элексаниха.
— Ну уж если ребята придут, только будут мешать прясть, — сказала Настуш.
— А мы вам будем не мешать, а помогать! — крикнул Сапан.
Ишь ты, тоже считает себя парнем, напрашивается на посиделки!
— И ты, Виктор, приходи, — зовет меня Миклай. — Будем в карты играть.
Но мне как-то неудобно идти на девичьи посиделки. Еще мал.
— Нет, не пойду, — отвечаю, — неохота.
Но вечером ребята зашли за мной и уговорили пойти.
В сенях нас встретила Элексаниха. Она приоделась по-праздничному: надела свой самый красивый шымакш. Ее лицо сияет, как весеннее солнышко.
— Проходите, проходите, парни, — приглашает она нас в избу, сверкая зубами и приглаживая и без того гладко причесанные русые волосы.
Мы вошли в избу. На столе, плавая в плошке с керосином, горел маленький, как мышиный глаз, огонек. Вдоль стен на лавках сидели девушки, тихо жужжали прялки. Девушки тихо переговаривались и пересмеивались.
Мы прошли прямо к столу и сели играть в карты.
Элексаниха уложила своих детей спать и тоже села за прялку.
Девушки приумолкли.
— Что вы, девушки? Спойте, что ли... — сказала Орина.
Настуш тоненьким голоском завела грустную старинную песню.
Почему большинство марийских песен такие грустные? Слушаешь, и прямо за душу берет. А в такое трудное, тяжелое время они особенно трогают сердце.
Девушки поют о милом, ушедшем на войну, о том, как подружка ждет его и грустит.
Кончилась песня, и наступила тишина, только слышатся тихие вздохи. И Элексаниха тоже вздыхает. В каждый дом заглянула война, оттого-то и растревожила всех эта песня.
Вдруг Орина провела ладонью по лицу, как будто стирая с него грусть, и, сверкнув белыми зубами, громко сказала:
— Хватит, девушки, грустить. Давайте веселую! Ну, Ануш!
Смешливая розовощекая Ануш засмущалась и стала еще розовее. Но она бросила взгляд в нашу сторону и запела:
Много есть парней на свете,
Но глупее наших нет:
Ходять мимо и не видят,
Что цвету, как маков цвет.
И посыпались частушки, одна другой задорнее и озорнее.
Глава пятая
Однажды утром мать разбудила меня раньше обычного:
— Сынок, сегодня, говорят, будут собирать подарки на фронт. Что пошлем?
— Давай пошлем яиц.
— Какие яйца! Болтаешь невесть что, как маленький, — махнула рукой мать. — Говорят, надо посылать теплую одежду. А у нас из теплой одежды ничего лишнего нет. Эх, жизнь!
Мать принялась проклинать войну, Гитлера, а я думал: что бы все-таки послать на фронт?
Я ходил в отцовских почти новых валенках, а мои, залатанные, валялись за печкой. Я достал их, осмотрел, обул— вполне можно носить. Правда, вид не такой, как у новых, но ничего, зиму как-нибудь прохожу. А на будущую, глядишь, справим новые.
— Вот, пошлем валенки, — говорю я матери. — Валенки новые, хорошие.
— А в чем же ты будешь ходить?
— Старые обую.
— Правильно, сынок. Может, отцу попадут...
В правлении было полно народу. Кто принес шубу, у кого в руках теплая шапка, у кого варежки.
Счетовод Качыри на большом листе бумаги записывает, кто что принес, и складывает все в большой, уже наполовину заполненный ящик.
Запыхавшись, к столу пробилась Макариха и положила на стол сверток.
— У тебя что? — спрашивает ее Качыри.
— Пиши: варежки, — отвечает ей Макариха.
Качыри взяла сверток. Но тут из свертка вывалилась большая желтая репа.
— А это что? — удивленно спросила Качыри.
— Как — что? Не видишь разве — репа, — затараторила Макариха. — Мой Макар страсть как любит репу. Бывало, дома ничего ему не надо, только репу подавай, сырую ли, пареную — ему все одно. Вот стала я посылку собирать и думаю: положу-ка репы, порадую моего Макара. Ты не вытряхивай ее, клади обратно. Клади обратно, кому говорю?
Люди вокруг засмеялись.
— Тетенька, неудобно посылать репу, да и померзнет она в пути, — говорит Качыри.
— Почему неудобно? — упрямится Макариха. — Может, и не померзнет. Клади, клади, не сомневайся.
— А мой Иван любил морковь, — задумчиво проговорила тетя Верук.
Женщины стали вспоминать былую, довоенную жизнь, мужей, сыновей, сражающихся сейчас на фронте, что они любили, да что говорили, да какие песни пели...
Но мне некогда было слушать, у меня наряд: возить навоз со скотного двора в поле.
В обед на скотный двор пришла наш бригадир тетя Наталий и говорит:
— Ребята и девушки, сегодня вечером все приходите в правление, будет открытое комсомольское собрание.
— А некомсомольцам тоже приходить? — спросила Верук.
— Всем, — ответила Наталий. — Я же сказала, собрание открытое.
— По какому вопросу будет собрание? — поинтересовалась Ануш.
— Придете — узнаете.
Мы с Миклаем выехали со скотного двора: Миклай впереди, я — за ним. За полевыми воротами Миклай привязал вожжи за оглоблю — лошадь сама знает, куда идти — и подошел ко мне.
Он достал свою коробку с табаком, мы свернули цигарки.
День стоит теплый, тихий. Ярко сияет солнце, сверкает снег. Даже как будто пригревает.
— Ты не знаешь, чего нас всех на комсомольское собрание зовут? — спросил я.
— Небось станут уговаривать вступать в комсомол, — ответил Миклай, сплевывая в снег. — Только я не думаю туда записываться, проживу без комсомола.
— Почему? Ведь комсомол, как говорится, передовой отряд. Вон на фронте комсомольцы какие подвиги совершают.
— То на фронте, а то в колхозе. Тут какой героизм покажешь? С девчатами, что ли, драться?
— Почему с девчатами? Мы же работаем, фронту помогаем, — говорю я.
— Чего ты ко мне пристал? Подумаешь, агитатор! Я и так могу работать, без комсомола. Хочешь — вступай, а у меня своя голова есть.
Вижу, Миклай начинает злиться, но я все-таки не отстаю от него:
— Ну, а все-таки скажи, почему ты не хочешь вступать в комсомол?
— Потому что вступишь, потом с ума сойдешь: чуть ли не каждый день ходи на собрания. Погулять там, побаловать — не смей. У них на этот счет строго, я уж знаю. В комсомоле в карты сыграть не придется, там за игру на деньги по головке не погладят.
Слова Миклая заставили меня задуматься, и вечером, вместо того чтобы идти на собрание, я опять пошел с Миклаем к Элексанихе играть в карты.
На следующий день, когда мы с матерью и Нинкой сидели в избе и ели картошку с капустным рассолом, в избу вошел почтальон дед Еремей. Мать обрадованно поднялась ему навстречу: письмо от отца!
Но Еремей, не глядя на мать и еле поздоровавшись, тяжело вздохнул и, протягивая матери бумажку, сказал:
— Вот, за каким-то извещением вызывают в райвоенкомат...
Мать побледнела, у меня забилось и сжалось, замерло сердце.
— Может, еще и не похоронная, — тихо проговорил Еремей.
...Мать вернулась из военкомата в слезах. Войдя в избу, она упала на лавку ничком и зарыдала:
— Как же будем теперь жить? Погиб отец-то... Погиб!
В этот вечер мы легли спать без ужина. В доме было холодно и тоскливо, как на кладбище. Я плакал, закрывшись с головой на своей лавке, и сам не заметил, как заснул.
Мне снилось, будто я на фронте и встречаю отца.
«Как же ты, сынок, попал сюда? — спрашивает отец. — Как вы там, дома, живете?» — и ласково, как бывало раньше, до войны, гладит меня по голове.
С этим я и проснулся. Оглянулся — лежу в избе, вокруг темно — ни фронта, ни отца.
Неужели отец погиб? Мне не хочется верить в это и не верится. Он все время стоит перед моими глазами живой.
Утром я говорю матери:
— Может, отец не погиб... Может, он жив, вернется еще...
— Все может быть, — тихо отвечает мать, — бывает, и после похоронной люди возвращаются...
После получения извещения о смерти отца мать заметно постарела, вокруг глаз у нее появились морщинки. Каждый день она плачет, старается скрыть это от нас, но мы все равно знаем.
— Теперь, Виктор, ты хозяином в доме вместо отца остался, — говорит мать. — Будь таким, как твой отец. Его все в деревне поминают добрым словом...
А какой из меня хозяин? Меня до сих пор еще тянет поиграть с ребятами, погонять по улице в казаки-разбойники или в войну, и иной раз, не выдержав, я ввязываюсь в их игру. Но слова матери заставляют меня призадуматься.
Я теперь очень часто думаю об отце, вспоминаю, каким он был, как жил, как работал, что говорил. Только я вспоминаю об отце лишь хорошее не потому, что он умер, он и вправду был такой — добрый, веселый, ласковый. За всю мою жизнь он ни разу меня не ударил. Бывало, нашкодишь, он посадит рядом с собой, посмотрит в глаза и скажет: «Ну, рассказывай, что ты натворил?» И как-то язык не поворачивается соврать или скрыть что-нибудь. Рассказываешь, а сам от стыда готов сквозь землю провалиться и думаешь: «Больше никогда-никогда не буду». Отец, видимо, понимал это и даже не ругал, только скажет: «Больше так не делай, это плохо». А я уж сам все понял и уж в другой раз ни за что так не сделаю.
Да, я хотел бы быть таким, каким был мой отец...
Глава шестая
Долго, очень долго тянулась зима со злыми буранами и трескучими морозами. Но вот и она подходит к концу. Наступил март. Днем под теплыми солнечными лучами с крыш струится капель, а вечерами на них повисают длинные, похожие на девичьи косы, сосульки.
— Слава богу, зиму прожили, — говорит мать и вздыхает. — Как-то теперь до лета доживем?.. Картошки, наверное, опять на семена не останется...
Картошка в подполье тает, как снег под весенним солнцем, куча уменьшается прямо на глазах. С наступлением весны есть почему-то хочется больше. Видно, оттого, что дни стали длиннее. Зимой хоть картошки было вдоволь, а теперь мать считает каждую картофелину.
С начала посевной работающим в колхозе начали выдавать печеный хлеб. Мы с матерью выходим на работу вдвоем.
В нашем-то колхозе с питанием еще ничего, в соседнем — хуже.
А жизнь идет своим чередом. В тихие весенние вечера над деревней запевает гармонь, девушки и ребята, как ведется исстари, выходят на гулянье к полевым воротам. Я тоже каждый вечер, как только услышу гармонь, не могу сидеть дома.
Девушки и ребята постарше пляшут, поют, а мы, подростки, дурачимся, дразним их. Они злятся на нас, ругаются, гоняют. А нам только этого и надо — расходимся еще пуще.
Однажды на гулянье Миклай отозвал меня в сторону и шепотом говорит:
— Виктор, я тебе скажу одну вещь, только ты — молчок, никому не проболтайся.
— Говори.
— И тебе польза от этого будет.
— Ну говори, говори!
— У вас хлеба нет, у нас тоже, вон и у Кориша с едой плохо. Ведь правда хорошо бы хлебца поесть досыта?
— Ага, — согласился я, глотая слюну.
Миклай придвинулся к моему уху и зашептал:
— Мы с Коришем решили как-нибудь ночью слазить на мельницу за мукой. Иди в компанию.
— Что ты?! — отшатнулся я от него. — Что ты говоришь? Чем воровать, я лучше с голоду подохну!
— Дурак ты! Чего боишься? Ты будешь только на плотине стоять и смотреть, не идет ли кто, а мы с Коришем залезем в склад. У Кориша есть ключ, он в кузне сделал. Мельник Семон, говорят, спит как мертвый. Да если и проснется, все равно нас не догонит — куда ему! Не бойся, не попадемся...
— Ой, Миклай, и не зови, не пойду. Если мать узнает, повесит меня вниз головой.
— Эх ты, зайчишка-трусишка, матери испугался. Я вот никого не боюсь. Пошли, сыты будем!
— Нет, не пойду.
— Не пойдешь? — Миклай приблизил свое лицо к моему, и я увидел, что при свете луны его глаза сверкнули желтыми зловещими огоньками. — А не пойдешь, так если попадемся, все равно скажем, что ты был с нами. И матери твоей расскажу, как ты у нее деньги стащил...
Я растерялся, стою, не зная, что ответить. Даже неохота думать о том, что будет, если мать узнает, как я потихоньку залез в сундук и утащил рубль. Как же мне быть? Может, правда, пойти с Миклаем? Да и наесться досыта хлеба хорошо бы...
— А тебя мать за такие дела не заругает? — спросил я Миклая.
Миклай усмехнулся:
— Она ничего не узнает. Возьмем муку, отнесем к Коришу, у него испечем хлеба. Кориш не то что ты — он геройский парень. Это он придумал залезть на мельницу.
— Чего ж тут геройского?
— А думаешь, воровать надо мало смелости?
— Да, конечно, немало, — согласился я.
— Ну как, надумал? Идешь?
— Не знаю, — неуверенно проговорил я. — Я еще подумаю.
— Ну ладно. Тогда завтра с вечера приходи ко мне.
Вернувшись домой, я долго не мог заснуть, лежал и все думал о предложении Миклая. В конце концов я решил — будь что будет, схожу с ними один разок.
Я уже видел перед собой большой душистый теплый каравай с хрустящей, поджаристой корочкой, ощущал ни с чем не сравнимый медовый запах свежего хлеба.
На следующий вечер я сказал матери, что пойду ночевать к Миклаю.
— Зачем людей стеснять, как будто своего дома нет! — пыталась она меня отговорить.
— Да Миклай один в доме остался, у него все в Пюнчерсолу поехали.
У Миклая и бабка и мать зачем-то ушли в соседнюю деревню, поэтому мать еще поворчала, но отпустила меня.
Мы с Миклаем пошли к Коришу.
— В избу не будем заходить, подождем в березнячке за огородом, — говорит Миклай. — Мы с ним так условились.
Вскоре пришел и Кориш. Увидев меня, он недовольно сказал:
— Витьку зачем привел?
— Он будет на плотине сторожить. Если кто пойдет, предупредит.
Кориш недоверчиво посмотрел на меня:
— Да он, если кого увидит, сам первый задаст стрекача и про нас забудет. Вот увидишь.
«Сейчас прогонят. Только бы не прогнали!» — подумал я, и так мне вдруг стало обидно, что я позабыл, как мне раньше не хотелось идти на мельницу.
— Я не убегу. И никого не побоюсь! — набиваю я себе цену, стараясь показать свою храбрость перед Коришем и Миклаем.
Кориш махнул рукой:
— Ладно уж. Раз пришел, так пошли вместе. Только смотри, сторожи лучше. Ведь и мы в первый раз идем на такое дело.
Кориш вздохнул, и мне даже показалось, что ему не особенно хочется идти воровать муку.
Я никогда прежде не замечал за Коришем особого геройства. Парень он тихий, работящий, вечно чем-нибудь занят, даже на гулянки не ходит. Да и некогда ему ходить: он один мужик в доме. Семья у них большая — он, мать и еще трое маленьких детей. Отец на фронте. Мать как раз тем летом, когда началась война, упала с воза и растянула сухожилия на руке. Дома-то она кое-как копается по хозяйству, а к настоящей колхозной работе с тех самых пор стала не способна. Кориш у них один работник.
Тут же в березнячке мы договорились, как будем действовать. Мне велели стоять на плотине и в случае опасности три раза пролаять по-собачьи.
По деревне пропели первые петухи. И снова наступила тишина. Мы посидели еще немного и потом, спустившись к речке, берегом пошли к мельнице.
Вода в реке черная и блестящая, как деготь. Узенький серпик луны еле светится. Тускло мерцают звезды, словно вбитые в небо медные гвозди. В деревне тихо, не слышно даже лая собак.
Впереди над плотиной показался большой черный силуэт мельницы.
Миклай и Кориш оставили меня на плотине, а сами, пригибаясь по-кошачьи, крадутся к дверям мельничного амбара.
Я уже пригляделся, и мне теперь видны мельница, стена амбара, широкая дверь и даже большой черный замок на двери. Кориш и Миклай подошли к двери и остановились, прислушиваясь.
Щелкнул замок. Опять тишина. Потом чуть слышно скрипнула дверь, раскрылась, как пасть какого-то огромного зверя, проглотила Кориша с Миклаем и снова закрылась.
Я стою, вытягиваюсь, кручу во все стороны головой и слушаю, слушаю. Но вокруг ни звука. Тишина на мельнице, тишина в деревне.
Все спят и не знают, что мы тут крадем колхозный хлеб! А вдруг нас заметят? Что тогда будет? Но об этом даже страшно подумать, и я, махнув рукой, решил: «Если сегодня не попадусь, больше на такое дело ни за что не пойду».
Вдруг на мельнице что-то стукнуло, как будто открылось окошко. Я хотел залаять, но у меня перехватило дыхание, и я не мог издать ни одного звука. Я хотел бежать, но ноги приросли к земле — всё! Я закрыл глаза, ожидая, что сейчас меня схватят.
Но вокруг было тихо. Я открыл глаза. Все также безмолвной громадой чернела мельница, чернел амбар, не слышалось ни голосов, ни шагов, никто не выходил из мельницы.
«Наверное, просто ветер стукнул плохо закрытой ставней», — понял я.
Кориш и Миклай что-то застряли в амбаре. Когда же они выйдут? Почему так долго?
Но вот дверь амбара приоткрылась, и на пороге показались черные тени. Это они!
До меня донесся тихий дрожащий голос Кориша:
— Виктор, иди сюда!
Я оглянулся кругом и, тоже пригибаясь, сбежал с плотны к ним.
— Помогай, — сказал Миклай.
Мы вытащили из амбара тяжелый белый мешок, и Кориш снова запер тяжелую дверь.
Ах, какая вокруг тишина! Громко вздохнешь и то слышно. А сердце колотится, колотится, того гляди, выскочит из груди.
Миклай взвалил мешок себе на спину, мы с Коришем поддерживали мешок с боков. Стараясь не шуметь, мы быстро побежали по плотине к деревне.
Задами пробрались на огород к Коришу и спрятали муку на сеновале.
К обеду по деревне разнеслась весть: с мельницы украли мешок муки. Все только об этом и говорили. Ругали воров, гадали, кто бы мог решиться на такое гнусное дело. Если бы кто-нибудь посмотрел на нас повнимательнее, то заметил бы, как мы волнуемся: то бледнеем, то краснеем. Но, к счастью, на нас не обращали внимания. Называли много имен, но своих мы не услышали.
— Какой же это мельник! — ругали люди Семона. — Даже хлеб у себя на мельнице не может укараулить!
Что верно, то верно: здоровье у Семона никуда, кожа, да кости, и к тому же не переставая кашляет. Ему бы не работать, а сидеть на печке, да куда денешься — в доме пятеро детей, их кормить надо.
Как только не ругают люди вора, как только не клянут!
А у меня в голове разные мысли: с одной стороны, радостно, что мы так ловко сумели украсть и не попались, а с другой — душа болит. Утешая себя, я оправдываюсь: «Если бы не эта проклятая война и если бы у нас был хлеб, ни за что не пошел бы воровать. Все война виновата...»
Война войной, а все равно как-то не по себе.
Вечером Кориш увел нас с Миклаем к себе в огород и вынес каравай хлеба. Он разломил хлеб пополам и протянул нам:
— Ешьте досыта.
Мы набросились на хлеб, как голодные волки. Сначала мы кусали, жевали, глотали, спеша, давясь и не говоря ни слова. Потом, когда мы немного наелись, нам сделалось очень весело.
— Вот как здорово получилось, все шито-крыто, — сказал Миклай. — Кориш в амбаре говорит: «Давай возьмем немного», а я ему говорю: «Брать так брать, возьмем, сколько унесем». Теперь нам муки недели на три хватит. Держись, Витька, меня, со мной
не пропадешь!
Похвальба Миклая раззадоривает
меня, я тоже хочу показать, что и я
кое-что стою.
Я уже не вспоминал, как
замирало сердце, когда я стоял
на плотине и прислушивался к
каждому шороху, как мне было
страшно и неприятно. Теперь и я
чувствовал себя вроде бы героем.
— Когда вы вошли в амбар, — говорю я, — то слышу, на мельнице шевелится кто-то, вроде бы окно открывает. Я хотел залаять, а потом думаю: «Нет, надо подождать, выяснить, что это. Убежать всегда успеем».
Миклай перестал жевать и посмотрел на меня насмешливо:
— Вот небось перепугался!
— Сам ты перепугался, — обиделся я. — Я нарочно выжидал, а то убежали бы без муки.
— Ладно-ладно, — успокоил меня Миклай. — Рассказывай дальше.
— Ну и все. Подождал, посмотрел — никого нет. Это, оказывается, Семон забыл закрепить ставню, она и хлопнула.
— Молодец, — похвалил меня Миклай. — А все-таки здорово мы дельце обтяпали. Теперь-то уж не найдут.
— Не хвались, печенка лопнет, — говорю я.
А Миклай доел последний кусок и похлопал себя по животу:
— Попробуй, отыщи здесь!
Поев, мы пошли на улицу, откуда уже доносились звуки гармони.
— Ты чего сегодня такой веселый? — спросил меня Сапан.
— Я всегда такой, — отвечаю я, а сам улыбаюсь.
Ох, как много значит, когда полон живот! Вот наелся, и сразу же стало жить веселей.
Глава седьмая
Весну сменило лето. Куда ни глянешь, везде цветы. Зацвели сады, зацвели луга и леса, и даже небо голубеет, как незабудки возле речки.
Красивое лето, да мало от этого радости. Уже почти все в деревне подъели хлеб, доели картошку, а до нового урожая ох как долго!
Хорошо хоть подросли борщевик, крапива, щавель. Мы их кладем в щи. Едим также хвощ и всякую другую траву.
— Как-нибудь дотянуть бы до нового хлеба, — говорит мать, — а там бы мы уж вздохнули...
Каждый вечер мы с Миклаем ходим к Коришу в огород и там, присев на корточки среди высокой белесой, как будто припорошенной мукой лебеды, тайком едим хлеб. А потом — на гулянье.
С вечера наешься, и утром не так хочется есть. Мать, заметив, что по утрам я мало ем, забеспокоилась:
— Виктор, ты не заболел ли?
— Нет, мама, просто что-то по утрам аппетита нет.
Не могу же я сказать ей, что каждый вечер наедаюсь ворованным хлебом.
В школах кончился учебный год. Алик теперь все время в деревне и каждый день выходит на работу. Я встречаю его то в поле, то на конном дворе, но прежней дружбы между нами нет.
Как-то не по себе мне с ним. Хоть он, наверное, и не догадывается, что я участвовал в воровстве колхозного хлеба, но все равно стыдно мне перед ним. Встретимся: «Здравствуй», — «Здравствуй», — и все.
Сегодня утром иду я по улице, вдруг слышу он окликает меня:
— Виктор, постой!
Я остановился.
— Куда едешь?
— На конный двор.
— Мне тоже туда. Пойдем вместе.
Мы пошли с ним рядом.
— Как поживаешь? — спрашивает Алик.
— Да так... Ничего...
— Почему не заходишь ко мне?
— Некогда, — отвечаю я.
— Вот оно что! — протянул Алик и замолчал.
Так, молча, мы дошли с ним до конного двора. Я вздохнул с облегчением, когда дед Петруш зачем-то позвал Алика и он ушел в конюшню.
В обед возвращаюсь я на конный двор и вижу возле конюшни в холодке сидят все наши ребята с дедом Петрушем вокруг Алика, а он что-то рассказывает.
Я распряг лошадь, отвел в конюшню и подошел к ребятам.
Никто на меня не обратил внимания. Я встал за спиной у Япыка и тихонько его травинкой по шее. Он поежился, но даже не повернулся. Тогда я ткнул его пальцем в бок.
— Ну чего тебе? — недовольно шепнул Япык. — Отстань! А то дам сдачи, что не обрадуешься!
Я оставил Япыка в покое и стал слушать, что рассказывает Алик.
— И вот он начал рыть подкоп под стену, — рассказывал Алик. — Роет день, роет второй, уже целую неделю роет и вдруг слышит впереди какой-то шорох, как будто кто-то роет ему навстречу.
— А кто это был? — не выдержав, спросил Япык.
— Слушай — узнаешь, — ответил Алик. — Значит, роет он и слышит впереди шорох. «Что это такое? — подумал граф Монте-Кристо. — Может быть, мыши?» Он прислушался и слышит чей-то тихий голос: «Кто там?»
Я не знал, что было прежде, кто роет подкоп, зачем, но рассказ Алика меня сразу заинтересовал.
— «А вы кто?» — спрашивает Монте-Кристо. «Я — несчастный узник», — отвечает тот. «О боже, значит, я попал не на волю, а в соседнюю камеру!» — воскликнул Монте-Кристо в отчаянии. «Не теряйте присутствия духа» — произнес тихий голос. Тогда Монте-Кристо...
Но в это время я почувствовал, что кто-то тянет меня за рукав. Смотрю — Миклай подошел.
— Рот закрой, — говорит он. — Смотри, комар влетит.
А у меня такая привычка — забудусь и открою рот.
Кое-кто из ребят засмеялся, другие закричали на них и на Миклая:
— Не мешайте рассказывать!
— Иди куда шел!
Миклай сплюнул и говорит:
— Больно вы мне нужны! Уйду, конечно. Пошли, Витька.
Я покачал головой.
— Я слушать буду.
— Пошли, дело есть.
— Какое дело?
— Пошли, скажу.
Тут уж ребята и на меня напустились:
— Кончай болтать!
А Миклай тянет меня за рукав, не отстает:
— Не пойдешь, потом сам пожалеешь...
Мне не хотелось уходить, я хотел послушать, чем же кончится эта история с Монте-Кристо, но все-таки пошел за Миклаем.
Мы вышли на улицу.
— Ну, какое дело?
— Да так, дела никакого... А чего там слушать-то? Начитался Алик всяких сказок и врет, а они, дураки, уши развесили... Ты думаешь, он спроста треплется? Как бы не так! Работать не хочет.
— Зря ты на него наговариваешь, — вступился я за Алика. — От работы он не бегает, а что много читает, так это хорошо.
— Заступайся не заступайся, все равно он с тобой больше дружить не будет. Он сознательный, комсомолец, а ты кто?
Я молчал.
— То-то, молчишь... — продолжал Миклай. — Плевал он теперь на тебя!
Миклай вытащил из кармана кусок хлеба, разломил его пополам. Я подумал, что он хочет угостить меня, и сглотнул слюну, но Миклай один кусок убрал обратно в карман, а другой принялся есть, громко чавкая.
— Только ты не тушуйся, — продолжал Миклай, жуя хлеб. — Мы и без него обойдемся. Он картофельные лепешки ест, а мы хлебушек. Вот кончится мука, еще достанем. Ты молодец, здорово тогда нам помог. Это только дураки не воруют. Помнишь дядю Ти́моша? Вот человек — жил так жил!
Тимоша я хорошо помнил. Он у нас в начале войны был бригадиром. Такой длинный, белобрысый, с маленькими поросячьими глазами. Потом он куда-то уехал из деревни.
Всего год бригадирствовал у нас этот Тимош, а память по себе такую оставил, что, кого ни спроси, никто о нем доброго слова не скажет.
Помню, кончились у нас дрова, пошла мать к Тимошу лошадь просить, а он говорит: «Нет свободных лошадей, все на работе, не могу дать. Приходи в другой раз». Пришла мать в другой раз, а он опять: «Эх, чего ж ты раньше не приходила! Теперь уж другим людям отдал». Походила-походила мать, и все без толку, так и пришлось нам на себе таскать из ольшаника хворост.
А у самого Тимоша за амбаром в черемухе, наверное, воза три дров было свалено, он их тайком на колхозной лошади навозил. Эти дрова я сам видел, когда мы в той черемухе в войну играли.
Бывало, начнет кто жаловаться, что, мол, и сена нет, и дров, Тимош глаза свои поросячьи прищурит, руки разведет и говорит: «У меня самого сеновал пустой, в дровянике ни полена...» Только сразу видать, что врет.
И вдруг Миклай показался мне чем-то похожим на Тимоша.
Да, точно, похож! Так же глаза бегают, и голос такой же — он говорит, как будто бы все правда, а ни одному слову его не веришь.
Раньше я этого почему-то не замечал. А может быть, как станешь вором, так и глаза становятся такими? Неужели у меня тоже такие глаза?
Мне даже страшно стало от этой мысли.
Глава восьмая
Наверное, нет на свете такого мальчишки, который не любил бы ездить в ночное. Может быть, где-нибудь и найдется такой, а у нас — только скажи, все едут с радостью.
Собирается нас человек двадцать, и мы гоним лошадей пастись на всю ночь на вырубку, поросшую мелким березнячком, километра за три от деревни.
Каждый раз, давая нам лошадей, старый конюх дед Петруш строго-настрого наказывает:
— Коней не гоните, они весь день работали, устали.
Но какое там! Только мы за околицу — все предупреждения из головы вон. Сначала начнем подгонять лошадей потихоньку, потом один кто-нибудь вырвется вперед, остальным обидно, и они тоже тянутся за ним. В конце концов, пустив лошадь галопом, мы скачем к березняку наперегонки.
Один во весь голос горланит песню, другой свистит, третий кричит что-то, четвертый командует — в общем, каждый развлекается, как ему больше нравится.
К вырубке мы приехали в полной темноте, пустили коней и принялись устраиваться на ночь.
Мы с Миклаем наломали веток и устроили себе место для спанья под большой развесистой елью.
Вскоре загорелся костер, и все собрались к огоньку.
Летняя ночь коротка, с воробьиный клюв, но всеравно пока еще спать не хочется. У костра начинаются разговоры.
Последним подходит к костру дед Петруш. Он проверял, хорошо ли стреножены лошади.
Дед Петруш уселся на обрубок бревна, неторопливо набил свою трубку махоркой, выкатил палкой уголек из костра, прикурил и обвел всех взглядом.
Горит, пляшет огонь, освещая лица ребят, густую, похожую на охапку кудели, седую бороду деда Петруша.
Мы знаем, что старый конюх посидит, покурит, а потом заведет какую-нибудь сказку. Дед любит поговорить, особенно, когда перед ним ребята, которые ловят каждое его слово.
Дед Петруш погладил корявой ладонью бороду и говорит:
— Вот раньше чего только не случалось в ночном! Однажды, помню, из лесу вышел леший. Кони перепугались, да и мы, ребята, перетрусили. А леший куролесит — то замычит, как теленок, то завизжит свиньей. У коней уши торчком, фыркают, на месте не стоят. У нас, понятно, душа в пятки, похватали свое барахлишко, на лошадей — и скорее домой. А леший за нами гонится. Нам-то его не видать, а кони беспокоятся. Ведь лошадь сразу чует опасность, лучше человека.
Дед Петруш рассказывает, как артист: когда надо, меняет голос, жестикулирует, таращит глаза, показывая, как они тогда перепугались. Мы слушаем, и нам становится страшновато. Кое-кто уже оглядывается в темноту с опаской.
— Дедушка Петруш, а почему же теперь не появляются лешие и приведения? — спрашивает Алик.
— Сам удивляюсь, почему нынче про леших вроде не слыхать, — разводит руками конюх. — Вот мой отец рассказывал, как он один раз повстречался с лешим. Иду, говорит, мимо мольбища, вдруг из рощи выходит старик. Старый-старый и весь белый. Идет и молчит. Отец перепугался, потом опомнился, стал читать молитву, а старик уже совсем близко. Тогда он ударил его левой рукой по плечу, и старик исчез. Глядит отец, а там, где стоял старик, валяется кусок белой бересты.
Дед Петруш замолчал. Мы тоже молчали, прислушиваясь к глухому шуму черного леса. Из чащи неслись какие-то таинственные звуки, будто кто-то глубоко вздыхал.
— Это ветер, — сказал Алик и пошевелил палкой угли. — Зря ты, дедушка пугаешь. Никаких леших, никаких чертей никогда не было, это люди их выдумали.
Дед Петруш помолчал немного, глубоко затянулся и выпустил изо рта большой белый клуб дыма. Его глаза лукаво поблескивали из-под густых нависших бровей.
— Выдумали, говоришь? Не-ет, не в том дело. Это правда, раньше было больше всякой нечисти. Но и сейчас есть лешие, только их мало, потому что перевелись на белом свете знахари, колдуны и волшебники... Да-а, совсем мало стало леших. Так мало, что они уже больше никому и не являются. — Старый конюх хитровато подмигнул и добавил:
— Может быть, и совсем их не стало. Точно не знаю, а врать не хочу.
От последних слов деда мы повеселели, шум ветра в чаще перестал казаться чьими-то вздохами.
А дед Петруш достал из своей полотняной торбы старую волынку и поднес ее к губам. Надулся пузырь, узловатые желтые пальцы старика ловко забегали по ладам, раздались тихие, чуть хриплые звуки, полилась мелодия старинной марийской свадебной песни.
В умелых руках волынка поет так заразительно, весело, что просто никаких сил нет усидеть на месте, и ноги сами просятся в пляс.
Первым не выдержал Онтон.
Он сбросил с плеч длинную, латанную-перелатанную отцовскую шубу и, хлопнув в ладоши, заиграл плечами, как дружка на свадьбе.
Мы засмеялись, а Онтон, приплясывая, пошел по кругу. За ним выскочил в круг Аркаш, потом Сапан, потом Миклай.
Шум, топот, хлопанье в ладоши — совсем как на настоящей марийской свадьбе
Ори-ори-оп!
Ори-ори-оп!
Где такая родилась?
Где такая выросла?
И отца веселей,
И матери веселей!
Ори-ори-оп!
Ори-ори-оп! —
раздается старинная свадебная песня.
Мы хлопаем в ладоши в такт песне и тоже подпеваем:
Веселей!
Веселей!
Ори-ори-оп!
Лишь под утро, когда тьма начала рассеиваться и над вырубкой поднялся белый прозрачный предутренний туман, наплясавшись и устав, мы пошли спать.
Укладываясь на мягком лапнике под елкой, Миклай спросил меня:
— Тебе хочется меду?
— Хочется.
— А знаешь, у кого в селе самый хороший мед?
— Конечно, знаю — у деда Арпика.
— Правильно. Значит, надо наведаться к нему за медком.
— Он не даст.
— Ясное дело, не даст. А мы сами возьмем. Я, Кориш и ты...
— Нет, нет! Я больше не пойду воровать! И вы не ходите! Нехорошо ведь!
— Ну, подумаешь! Мед — не хлеб, это можно!
— Все равно воровство.
— Да ну, что ты! — принялся уговаривать меня Миклай. — Послушаешь взрослых, все они в детстве лазили по чужим садам и огородам. Это и воровством не считается. Вот мне отец рассказывал...
Но я так и не услышал, что рассказывал Миклаю его отец, потому что заснул.
Проснулся я от холода. Было уже совсем светло. Поеживаясь, я подошел к костру. Возле него уже сидело несколько ребят.
— Ой, Виктор, какой ты красивый! — смеясь, воскликнул Алик. — Ну и накрасился — прямо артист!
Я провел рукой по лицу, и она стала черной: пока я спал, кто-то вымазал мне лицо сажей!
Алик хохочет, да и другие ребята хватаются за живот:
— Ой, помру от смеха!
— Ха-ха-ха!
— Артист!
Под елкой зашевелился Миклай: видать, и его пробрала утренняя прохлада. Смотрю, Миклай пытается встать и не может. Встал и тут же упал.
— У-у, дьяволы, ноги веревкой связали! — ругается Миклай, развязывая узел.
Пока мы спали, случилось много происшествий. У Сапана лицо тоже в саже. Онтону сзади привязали дырявый лапоть, он так и ходит с хвостом, а маленький Петюк лег спать у самого костра и подпалил штаны. Теперь он побежал к ручью тушить свой пожар.
Поднялся шум, послышались упреки:
— Это ты меня вымазал!
— Нет, не я.
— А кто же?
— Вот он, наверное.
— Сам ты и вымазал!
Но всерьез никто не сердится. Так уж всегда ведется, ни одно ночное не обходится без шуток и веселых проделок.
Днем Миклай опять подошел ко мне:
— Сегодня ночью мы идем к деду Арпику.
— Миклай, я же тебе сказал, что я вам не товарищ и воровать мед не стану.
— Ты нам не товарищ? Чем же ты лучше нас? Забыл, как ворованный хлеб ел?
Я молчу — не знаю, что ответить. Ведь правда, чем же я лучше их?
А Миклай ведет разговор уже по-другому:
— Думаешь, я не понимаю, что воровать нехорошо? Я сам решил: вот за медом слазаю, и все. На этом конец. Понимаешь, я уже сговорился с Коришем. Неудобно товарища подводить. Вот, ей-богу, последний раз! Не по-товарищески будет, если мы Кориша бросим. Он ведь целый месяц нас хлебом кормил...
— Ну ладно, пойду, — сказал я Миклаю. — Только я последний раз.
Ну и характер же у меня! Сколько я себя ругаю из-за него: мол, нельзя быть таким безвольным, нельзя поддаваться уговорам, а все равно поддаюсь.
Ночь. Деревня спит. Откуда-то с верхнего конца слабо доносится лай собак. Мы втроем — Кориш, Миклай и я — сидим в овражке напротив сада деда Арпика.
Кориш держит нож, которым он будет вырезать соты. У меня в руках березовый веник, чтобы сметать пчел. Миклай облокотился на ведро.
Ночь стоит тихая-тихая. Такая тихая, что слыхать биение собственного сердца.
Мне очень хочется бросить веник и убежать домой, но Кориш тянет меня за рукав:
— Пора. Уже все спят.
— Может, не будем, а? — тихо шепчу я.
— Не болтай! — сердито оборвал меня Кориш. — Идем.
По густой черемухе мы пробрались к самым ульям.
Кориш быстро снял крышку с крайнего, покрашенного белой краской улья, вытащил одну раму.
Он старается все делать тихо, но потревоженные пчелы с громким жужжанием закружились вокруг нас, как будто поняли, что пришли грабители.
Кориш сует мне в руки раму:
— Держи!
Я бессознательно отдернул руки.
— Кориш, не надо! — в отчаянии взмолился я. — Не надо, поставь обратно!
— Т-с-с! — зашипел на меня Миклай. — Тише, хозяев разбудишь!..
Миклай вырвал у меня веник, смахнул им с рамы пчел и сунул раму в ведро.
Пчелы жужжат все сильнее и сильнее, их становится все больше и больше. Одна пчела ужалила меня в лоб. Я сорвал с головы фуражку и стал отбиваться ею от пчел.
Вдруг фуражка вырвалась у меня из рук и отлетела куда-то в темноту. А тут, за домом, видимо почуяв нас, залаял Олач — пес деда Арпика.
Мы, даже не закрыв улей, давай бог ноги с пасеки. Пробежали черемушник, овраг.
Я бегу и думаю: надо бы за фуражкой вернуться. Но ноги сами несут меня все дальше и дальше. Чувствую, вот-вот заплачу, но бегу, не отставая от Кориша и Миклая, и мне кажется, что кто-то гонится за мной...
Глава девятая
Ох как не хотелось мне утром выходить из дому! Мне казалось, что уже все знают о нашем ночном деле, и первый же встречный назовет меня вором.
— Виктор, чего ты копаешься? — окликнула мать. — Вон Миклай уж полчаса как прошел на конный двор.
— Сейчас и я пойду... Пить охота...
Я медленно оделся, постоял в сенях, долго пил холодную воду. Но хочешь не хочешь, а идти надо.
На сердце у меня было тяжело. Я старался ни на кого не смотреть. Но все было спокойно, никто не говорил про то, что ночью воры залезли на пасеку к деду Арпику.
«Кажется, пронесло», — думаю я.
Кориш в этот день почему-то не вышел на работу.
— Почему Кориша не видать? — спросил я Миклая.
— Он к тетке в дальнее село уехал, — ответил мне Миклай и тихо добавил: — Его пчелы здорово покусали.
Ну и хитрый же Кориш — придумал, как замести следы.
Всякая новость по деревне разносится быстро — от соседа к соседу, от дома к дому. Даже если и захочешь что-нибудь скрыть, все равно не удастся — узнают. Поэтому к обеду я немного успокоился: раз в деревне никто не говорит про деда Арпика и его ульи, значит, все в порядке. «Только надо бы как-нибудь фуражку выручить», — думаю.
Вечером я, как всегда, вышел на улицу. Ребята и девушки сидели на бревнах возле магазина, ожидая, пока подойдет гармонист. Я присоединился к ним.
Сидим, разговариваем. Вдруг вижу, к нам идет дед Арпик. Идет не спеша, опираясь на суковатую палку, поглаживает сухонькой рукой свою белую козлиную бородку и поглядывает по сторонам. Подошел, остановился против нас и, вижу, вытаскивает из кармана мою фуражку.
Я замер. Теперь все. Конец. Бежать? Но уже поздно. Ребята с любопытством глядят на деда Арпика и на фуражку. А кое-кто уже поглядывает и на меня.
— Не знаете ли, ребятки, чья это фуражка? — спрашивает дед Арпик.
Кто же не знает фуражки, которую я, не снимая, носил три года подряд!..
— Как же, знаем! — дружно ответили ребята. — Это Викторова фуражка.
Дед Арпик посмотрел на меня и укоризненно покачал головой:
— Так вот, оказывается, кто этой ночью хотел полакомиться чужим медом! Я тебя, Виктор, всегда считал хорошим парнем. А ты, оказывается, вот какой... Да-а, хорош, ничего не скажешь. Не в отца пошёл, отец-то твой совсем другим человеком был...
Я стою опустив голову и от стыда готов провалиться сквозь землю. Меня бросает то в жар, то в холод. Какой стыд! Какой позор!
Исподтишка я посмотрел на Миклая. Он спрятался за спину Сапана и показывает мне кулак: мол, попался, так молчи, меня не смей выдавать, а то получишь. Зря боится, я товарищей не выдаю.
В душе я проклинал себя: ну зачем я поддался на уговоры Миклая и Кориша! Надо было отказаться! Теперь бы я ни за что не согласился! Эх, близок локоть, да не укусишь...
Ребята повскакали с мест и, окружив меня, заговорили наперебой:
— Ишь, медку захотелось!
— А ты, дедушка Арпик, спусти ему штаны да угости крапивой!
Я не поднимаю головы, но по голосу слышу, что это Аркаш разоряется.
А это засмеялся Онтон, это Ивук — каждый старается сказать про меня что-нибудь обидное. Они правы: я — вор. И кому какое дело, что я не хотел воровать, а так уж получилось? Кому какое дело до того, что я больше никогда в жизни не трону ничего чужого? Как жалко, что тогда не удалось убежать на фронт! Сейчас я бы уже совершил подвиг и написал бы об этом письмо домой. Тогда все узнали бы, что я способен не только на воровство...
Но что же это дед Арпик не хватает меня, не ведет куда-нибудь — к матери, в правление… Уж скорей бы!..
— Эх, сынок, сынок! — слышу я его тихий голос. — Кривую дорожку ты себе выбрал. Ты еще молод, зелен, остановись, пока не поздно. На, надевай свою фуражку и больше так не делай.
Я схватил свою фуражку и, не взглянув ни на кого, убежал домой и залез на сеновал. Щемящая боль сжимала мне сердце, в горле стоял мешающий дышать комок слез.
Я был один, один во всем мире. Как я теперь покажусь на глаза людям? Теперь никто не захочет со мной знаться. Миклаю я не нужен, раз засыпался. Он небось теперь будет меня за версту обходить, чтобы не подумали, будто бы и он лазил на пасеку. И с Аликом мне уж больше не дружить...
Поздним вечером на сеновал, тяжело вздыхая, поднялась мать. Она села рядом со мной и долго молчала, потом всхлипнула:
— А я, сынок, на тебя надеялась, ждала: вот подрастешь, будешь человеком... Видать, зря надеялась...
Слезы матери — как нож по сердцу, я сам готов был заплакать.
— Ты даже учиться бросил, связался с этим Миклаем. Небось он и подбил тебя на воровство? — В голосе матери прозвучала какая-то слабая надежда. — Миклай подбил? Да?
Я молчу.
— Ведь неспроста в народе говорят: «Начнешь с иголки, кончишь лошадью»... Как же ты думаешь жить дальше?
Я ничего не ответил. Мать посидела еще немного и, все так же вздыхая, ушла.
Как же я думаю жить дальше? Раньше я об этом не думал. Жил и жил, плыл, как щепка по течению, куда несет...
Вдруг я услышал, что дверь сарая тихонько отворилась, кто-то вошел и остановился возле лаза на сеновал.
— Витька, ты здесь? — тихо спросил вошедший, и я узнал по голосу Алика.
Мне не хотелось никого видеть, не хотелось ни с кем говорить, тем более с Аликом. Опять пойдут упреки: да как ты дошел до такого, да как тебе не стыдно...
Я не отозвался.
— Витька! — снова позвал Алик.
Я не шевелился и ждал, когда же он уйдет. Но он не уходил. Скрипнула лестница, в люке показалась голова Алика.
— Почему ты не откликаешься?
— Чего тебе надо?
Он залез на сеновал, сел возле меня.
— Да так зашел. Давно у тебя не был.
— Давно...
— С прошлого лета...
На сеновале было темно, и я не видел лицо Алика, но по его тону было не похоже, что он пришел меня ругать.
Тем временем взошла луна. Через весь сеновал от окна до дальней стенки, где горой был свален всякий хлам, легла голубоватая сияющая полоса света.
— Ой, да у тебя наша старая модель цела! — воскликнул Алик, увидев среди хлама изогнутое крыло самолета с лохмотьями рваной бумаги. Он вытащил из кучки дырявых лукошек и старых лаптей остатки нашей летающей модели самолета с резиновым моторчиком.
— Здорово она летала, — задумчиво сказал он, — высоко... А помнишь, как мы ее строили? Если бы Миклай тогда не отобрал резину, мы бы еще такую модель построили, что установили бы с ней какой-нибудь рекорд.
— Может быть, — согласился я
— Да не может быть, а наверняка. Мы же на первой модели только учились! — горячо возразил Алик.
— А помнишь, сколько мы с крыльями мучались?
— Ну, с крыльями еще ничего, а вот как центр тяжести выверяли...
Мы наперебой стали вспоминать те далекие времена, богатые радостями и огорчениями. Я почувствовал себя с Аликом, как тогда — просто и хорошо, как будто наша дружба и не прерывалась, как будто между нами не было этого последнего года: ни ежедневной карточной игры на конном дворе, ни ворованного хлеба, торопливо съедаемого в лебеде, ни пасеки деда Арпика, ни сегодняшнего позора...
Но тут мой взгляд упал на припорошенную сенной трухой старую фуражку, вымазанную в глине. «Видно, когда мы убегали, кто-то из нас наступил на нее», — подумал я.
Фуражка вернула меня к действительности.
Алик продолжал говорить что-то про фюзеляж, плоскости, но я уже не слушал его.
— Алик, скажи, что мне теперь делать?
Алик замолчал на полуслове. Он внимательно посмотрел мне прямо в глаза.
— А ты сам-то как думаешь?
— Я не знаю... По мне, сейчас уж лучше бы помереть, чем показаться людям на глаза...
И тут я рассказал ему все-все, ничего не скрывая: и про украденный у матери рубль, положивший начало игре в карты, и про муку, и про то, как мы с Коришем и Миклаем лазили за медом.
Когда я кончил свой рассказ, у меня как будто бы камень свалился с сердца. Теперь мне уже не надо было ничего скрывать от Алика, не надо было бояться, как бы он не узнал про мои дела. Теперь он знал все.
— Алик, ты теперь не будешь со мной дружить? — тихо спросил я.
— Буду, — так же тихо ответил Алик.
— Ведь ты комсомолец, а я... — Я запнулся, мне было трудно выговорить слово, которое слышалось со всех сторон, но я все-таки выговорил его: —А я... — вор...
— Ты не вор, ты просто глупый, безвольный мальчишка, — сказал Алик.
Он говорил, что я испугался трудностей, что у меня нет силы воли, нет своей головы. Ох и костил же он меня! В другое время я бы за такие слова полез в драку, но сейчас я их слушал и радовался.
«Значит, Алик еще верит мне! — думал я. — Пусть я ошибся, но я докажу ему и всем, на что способен!»
— Знаешь, Алик, — сказал я, — я уеду куда-нибудь из деревни, заработаю денег, заплачу за украденную муку, а потом совершу что-нибудь замечательное и напишу домой...
— Ну и дурак, — сказал Алик, — а еще ты трус, нашкодил — и в кусты. Ты здесь оправдайся!
— Трудно ведь...
— А я и не говорю, что легко. Конечно, потерять доверие легко, а вернуть трудно. Только если ты захочешь — вернешь. Все в твоих руках. Будешь работать, пойдешь учиться, глядишь, еще твой портрет увидим на Доске почета...
Я представил свой портрет на Доске почета возле правления, веселое лицо матери, одобрительные улыбки колхозников, бригадира тети Натали, нашего председателя дяди Васлия, вернувшегося с фронта без правой руки... Я бы сейчас отдал полжизни, чтобы все было именно так, как рисовалось мне в воображении.
Но как далеко все это было сейчас от меня!
— Ну ладно, — сказал Алик на прощание, — завтра утром я к тебе зайду, вместе на работу пойдем...
Алик ушел, а я еще долго лежал с открытыми глазами и все думал, думал.
Та жизнь, о которой говорил Алик, представлялась мне большой, широкой дорогой, по которой идет много людей — и Алик, и моя мать, и дядя Васлий, и дед Петруш, и все наши колхозники. Они идут, ни от кого не скрываясь, вместе радуясь, вместе печалясь, вместе преодолевая трудности.
И я когда-то тоже был с ними. И сейчас мог бы быть...
Я еще не знал, как это получится, но я твердо знал одно: я должен выйти и выйду на широкую дорогу, где настоящая жизнь, настоящие друзья, и меня уж больше никогда не прельстит кривая тропинка, какой бы заманчивой она ни показалась с первого взгляда.
МИЛАЯ МОЯ
Наконец-то наступил вечер.
Как я ждал его! Еще в ту самую минуту, когда ранним утром до меня донесся озабоченный голос матери: «Сынок, вставай, пора на работу». Я, как всегда, с сожалением подумал: «Ну почему не бывает двух ночей подряд? Спал бы и спал, пока не выспался...»
А как хотелось спать после обеда! Прислонившись к горячей от солнца стене конюшни, я стоял и ждал, пока наестся лошадь, и у меня просто не было сил шевельнуться. Кругом тишина, одни воробьи чирикают, прыгая в пыли посреди двора. Нещадно печет солнце, а моя голова сама клонится на грудь, и глаза слипаются, как будто запорошенные песком...
И вот вечер!
Большое красное солнце, бросая на землю прощальные, уже нежаркие лучи, опускается за темные зубчатые вершины далекого леса. Словно оно тоже устало от дневных забот и теперь спешит на отдых, туда, где за лесом начинается большое мшистое болото, мягкое, как пуховая перина. Дышать стало легко и свободно. Слабый ветерок доносит с лугов запах свежего сена.
И странное дело: всю мою усталость и сонливость как рукой сняло.
После ужина меня снова, как и вчера и позавчера, потянуло на улицу, откуда слышались веселые голоса и звонкие удары по волейбольному мячу.
В тот вечер игра была особенно веселой и шумной. Ребята азартно били по мячу, а девчата, столпившись на краю площадки, только смотрели на игру. Они встречали шумным одобрением каждый ловкий удар и смеялись, когда кто-нибудь мазал. Мы старались изо всех сил — ведь каждому хотелось показать, какой он ловкий и сильный.
Но я зазевался, и тяжелый мяч больно ударил меня по носу. Все засмеялись, а я, торопливо смахнув выступившие слезы, вприпрыжку побежал за мячом, стараясь всем своим видом показать, что ничего особенного не случилось и что мне вовсе не больно.
Мы играли до тех пор, пока в наступивших сумерках совсем не стало видно мяча.
Тем временем девчата на луговине затеяли игру в горелки. Мы пошли к ним.
Мне с самого начала выпало водить.
Я замер, как кошка перед мышиной норой, готовый в любое мгновение сорваться с места и броситься в погоню. Смотрю, не спуская глаз, кто же побежит. Вдруг слышу — бегут. Мимо меня справа и слева мелькнули две тени, я едва успел разглядеть, что это Эрик и Маюк. За кем бежать? Кого ловить? Ясное дело, девчонку поймаешь скорей, и я погнался за Маюк.
Но оказалось, что догнать ее не так-то просто. Я несся что было силы. Вот совсем близко ее белое платье, только протяни руку. Но Маюк изогнулась, у меня перед глазами мелькнули две косы, и рука повисла в воздухе.
— Не догонишь! Не догонишь! — звонко крикнула Маюк, засмеялась, оглянулась, и тут я схватил ее за плечо.
— А вот и догнал! — торжествующе закричал я, не снимая руки с ее плеча.
Эрик, увидев, что его пара поймана, побежал обратно. Теперь водить ему. А мы с Маюк стояли друг против друга, тяжело дыша и улыбаясь, и я все держал ее за плечо, словно боялся, что она снова убежит от меня.
Вдруг из-за тучи выплыла луна и осветила Маюк с ног до головы — ее белое платье, длинные косы, черные блестящие глаза.
Неужели это Маюк, с которой я семь лет учился в одном классе, которую, сколько себя помню, видел каждый день — наши дома стоят друг против друга, с которой еще в детстве играл в снежки и шлепал босиком по лужам?..
Я раньше на нее внимания-то почти не обращал: девчонка как девчонка. Даже сегодня, вот только что, когда я играл в волейбол, а Маюк с подружками стояла у края площадки, она еще ничем не отличалась от своих подруг, и вдруг в одну минуту превратилась в такую красавицу, какие бывают разве только на картинах или в кино.
— Что ты на меня уставился? — тихо спросила Маюк, и ее голос тоже показался мне каким-то особенным, не таким, каким он был всегда.
«Какая ты красивая!» — хотелось мне сказать, но вместо этого я сказал:
— Ты быстрая!
— Это я еще не шибко бежала, а то бы не догнал...
— Догнал бы! Умер бы, а догнал!
Взявшись за руки, мы медленно возвращались к ребятам. Я держал руку Маюк так бережно и осторожно, словно у меня в руке была маленькая птичка. Но, когда мы подошли к играющим, Маюк осторожно высвободила свои пальцы.
До самого конца игры мы бегали вместе с Маюк.
У меня словно выросли крылья. Я нарочно, давая Маюк убежать вперед, заманивал водящего, крутясь у него под носом. То делал вид, будто споткнулся, то вдруг останавливался, будто потерял его из виду, и, когда уже казалось, что я в его руках, вдруг вывертывался и, как ветер, несся в конец луговицы, где меня уже поджидала Маюк.
А когда мы с ней уже в четвертый или пятый раз вставали в одну пару, Оксина, смеясь, кивнула в нашу сторону:
— Глядите, что-то сегодня Маюк с Ивуком как связанные ходят!
Я смутился, а Маюк вся так и вспыхнула.
Только с первыми петухами мы стали расходиться по домам. Оксина запела, все подхватили песню, и я тоже стал подпевать, стараясь не сбиться с мотива. Раньше мне как-то и в голову не приходило петь, но сегодня было так радостно и светло на душе, что и мне захотелось петь.
Всю дорогу Маюк держалась от меня в стороне. (И кто только тянул эту Оксину за язык!) А я не мог оторвать от Маюк глаз и, как подсолнух к солнцу, все поворачивал голову в ее сторону.
В ту ночь я долго ворочался в своем чуланчике, думая о Маюк, а потом мне приснилось, что она с веселым звонким смехом бежит по лугу, сверкая белым платьем, а я догоняю ее...
На следующее утро бригадир послал меня стоговать сено.
Сегодня в лугах чуть ли не весь колхоз. В сенокос всем хватает работы. Трудное, напряженное это время, но зато и веселое.
Женщины и девушки вышли на работу в белых марийских платьях, украшенных лентами, кружевами и вышивками. Издали кажется, что на лугу ожили цветы. В старину женщины-марийки вышивали широкие и темные узоры, а теперь девушки, глядя на вышивки своих бабушек, только руками разводят — удивляются, теперь вышивка стала светлой и легкой.
Сияет солнце, над лугами стоит густой аромат свежего сена, от которого сладко кружится голова. Шумно, весело — сердце радуется!
Я ищу глазами Маюк. Вот и она в легкой, развевающейся на ветру газовой косынке.
Встав рядами, все идут по лугу, сгребая сено. Маюк работает неподалеку от меня. Я то и дело поглядываю на нее, и вот наконец наши глаза встретились. Она едва приметно кивнула мне.
Сегодня Маюк показалась мне даже красивее, чем вчера. Я засмотрелся на нее и не заметил, что отстал от людей.
— Эй, Ивук! Уснул, что ли? — заливисто засмеялась Оксина, сверкая мелкими белыми зубами.
Я вздрогнул и поспешил нагнать остальных.
Ближе к обеду начали класть стога. Я подвозил сено к стогам на телеге.
В обед женщина, которая помогала мне накладывать воз, ушла в деревню кормить ребенка, и я подъехал к девушкам:
— Эй, девчата, кто пойдет работать со мной?
К моей великой радости, вызвалась Маюк.
Глубоко забилось сердце, я схватил вилы и принялся бросать сено на телегу, стараясь захватить побольше.
Маюк наверху разравнивала воз. Я очень спешил и изо всех сил старался показать ей, как я умею работать.
Наконец Маюк не выдержала:
— Ивук, погоди, я не успеваю укладывать!
Когда воз был готов, я отошел, чтобы посмотреть, как он получился у нас, и ахнул: воз-то вышел на одну сторону. Моя вина, надо было с самого начала следить, а теперь уж ничего не поделаешь. Кое-как сдвинул сено вилами на другой бок и поехал. Хорошо еще, что до стога было недалеко, и мы довезли воз, не опрокинув его.
Девчата, конечно, стали смеяться, увидев наш кривой воз, а Оксина уж тут как тут:
— Ивук, наверное, не за возом, а все на Маюк смотрел, вот его и перекосило!..
К вечеру над деревней собрались грозовые тучи. Внезапно налетел ураганный ветер. Словно проверяя, все ли постройки крепки, он со страшной силой пронесся по деревне, у кого посрывал тёс с крыши, у кого повалил ворота и изгороди. У дяди Павла, отца Маюк, с крыши хлева разметало солому.
Я ехал по деревне, спеша до грозы отвести лошадь на конный двор, и увидел, как дядя Павел, прыгая на одной ноге — вторую он потерял на войне, — торопливо, кое-как складывает солому.
Я остановился, подошел к нему, взял у него из рук вилы и стал накладывать солому как надо.
— Ох, спасибо тебе, сынок! — сказал дядя Павел. — Жены, как на грех, дома нету, да и Маюк ушла к подруге в Пюнчерсолу, должна скоро прийти, как бы гроза ее в дороге не застала...
Быстро темнело. С запада, грозно клубясь, надвигалась огромная темно-лиловая туча. Подъехав к оврагу, я еще издали заметил тонкую фигурку в светлом платье. Сердце подсказало — это она! Я остановился.
— Ивук! — обрадовалась Маюк, увидев меня.
Часто дыша, она забралась ко мне на телегу.
Черная туча уже висела над нами. Вдруг из ее мрачной глубины вырвалась ослепительная молния, и первые раскаты грома пронеслись над полями, замершими в тревожном ожидании.
— Поезжай скорее, сейчас начнется! — испуганно проговорила Маюк, и я видел, что ее руки, поправлявшие растрепанные волосы, дрожали.
Я завернул лошадь.
В ту же минуту снова сверкнуло и ударило где-то совсем близко. Маюк вскрикнула и, побледнев, прижалась ко мне.
Первые крупные капли, как пули, подняли на дороге быстрые фонтанчики пыли. Под порывами ветра склонились придорожные кусты, а пыль, словно ища спасения от дождя, закружилась вокруг нас, заскрипела на зубах.
На дне телеги валялся большой мешок. Я накинул его на наши головы. И вовремя — дождь хлынул как из ведра.
— Я боюсь, — прошептала Маюк.
— Не бойся. — Я осторожно обнял ее за плечи.
Лошадь шла шагом, но я не погонял ее. Мне хотелось ехать вот так хоть целые сутки. Пусть сверкают молнии, пусть хлещет дождь — рядом со мной Маюк, девочка, которую я люблю.
Да, я люблю ее! Только сейчас я решился признаться себе в том, что я люблю Маюк. И буду любить ее всю жизнь.
А она? Любит ли она меня? А что, если взять и спросить ее об этом? И сказать ей о своей любви. Нет! Даже подумать об этом страшно. Да у меня и язык-то не повернется! Лучше я напишу ей письмо. Сегодня же вечером, как только приеду, так и напишу.
Тут снова громыхнул гром, и Маюк крепче прижалась к моему плечу. Ее пунцовая щека оказалась возле самых моих губ, и мне так нестерпимо захотелось ее поцеловать! Я спрыгнул с телеги пошел рядом, держа вожжи.
Оказалось, что мы уже подъехали к деревне.
Маюк сняла с головы мешок, он все равно промок насквозь.
Вот и наши дома. Маюк спрыгнула на землю и, заглянув мне в глаза, сказала:
— Какой ты хороший, Ивук!
Я растерялся и не нашелся, что ответить, а она кивнула мне и, прыгая через лужи, побежала к своей калитке.
Поздно вечером, когда все в доме заснули, я достал из своего старого школьного портфеля тетрадку, карандаш и сел писать письмо. Я решил написать его стихами.
Я долго сидел, глядя в темное окно, писал, зачеркивал, рвал и писал снова. Окно из черного стало серым, когда стихи были готовы. Мне они очень нравились.
Как ясные звездочки,
Твои черные очи,
Твои щеки, как яблоки.
Я люблю тебя очень.
Я положил листок со стихами в конверт и заклеил его.
Утром я встал с тяжелой головой. Будто магнитом, потянуло меня к окошку, откуда виден дом дядя Павла. Проснулась ли Маюк?
Два дня протаскал я свои стихи в кармане, все не решаясь отдать их Маюк. Дело кончилось тем, что я наклеил на конверт марку и бросил его в почтовый ящик.
Прошел день, другой, третий... Я видел Маюк ежедневно то на работе, то вечером на гулянье. Она ни словом не поминала о письме, и я терялся в догадках. Может быть, она не получила моего письма? Или получила и теперь в душе смеется надо мной и над моей любовью?
Иногда мне хотелось просто подойти к ней и спросить, получила ли она мои стихи, но я не в силах был преодолеть свою робость, молчал и отводил глаза.
Шло время. Кончилось, отцвело солнечное лето. Запахло осенней свежестью. Вторая половина августа — самая грибная пора. Но мне было некогда ходить по грибы. Я теперь работал на вывозке зерна.
Как-то я возвращался с заготпункта. Лошадь бежала мелкой рысью, потом пошла шагом. Я не подгонял, зная, что она тоже устала за день работы. Улегшись поудобнее на разостланные мешки лицом к небу, я стал думать о том, как мне жить дальше.
Мой отец погиб на фронте в конце войны под Берлином. Осталось нас у матери четверо, я — самый старший. До сих пор удивляюсь, как она сумела вырастить всех нас. Тяжело ей пришлось. Сколько раз приходилось делить последний кусок хлеба на четыре части. Бывало, спросишь: «Мама, а ты?» Она только по волосам меня погладит: «Ешь, ешь, сынок, я поела. Вот пить что-то хочется», — и зачерпнет из кадки ковшик воды.
После войны жить нам стало полегче. Не сразу, конечно. И хотя домишко наш покосился и врос в землю, мы были и сыты и одеты-обуты.
Но этой весной, когда я закончил седьмой класс, мама сказала мне, тяжело вздохнув:
— Видно, Ивук, не придется тебе пока учиться. Невмоготу мне тянуть вас одной... Болею всё, сам видишь...
И я стал работать в колхозе возчиком.
Недавно я прочел в республиканской газете объявление о приеме учащихся в заочную среднюю школу. Вот бы мне туда поступить! Конечно, лучше бы пойти осенью в восьмой класс нашей школы, сесть за одну парту с Маюк. Но раз нельзя только учиться, буду и работать и учиться. Наверное, это трудно, но, как говаривал мой дедушка, легко только за столом руки за хлебом протягивать... Получу среднее образование, а там поступлю в институт, стану зоотехником.
И так мне стало радостно от этих мыслей, что, когда я вернулся домой, мать сразу заметила мое хорошее настроение.
— Что-то ты сегодня веселый такой? — спросила она. — То все грустный ходил, а сейчас тебя не узнать...
— Знаешь, мама, я решил поступить в заочную среднюю школу, хочу стать зоотехником. А грустный — это я так...
Не мог же я маме сказать, что люблю Маюк, но не смею ей в этом признаться и даже не знаю, нравлюсь я ей или нет.
Из ребят, закончивших вместе со мной седьмой класс, еще трое бросили учебу — Никандр, Павлуш и Роза. Я стал уговаривать их поступить в заочную школу, но Никандр с Павлушем отказались наотрез, а Роза охотно согласилась. Мы с нею послали заявления и с первого сентября начали учебу.
Журавлиной песней пролетела осень. Наступила зима.
Признаться, мне было трудно учиться. Все вечера напролет приходилось сидеть за учебниками. Я знал, что вечерами наша молодежь собирается в клубе, и меня неудержимо тянуло туда — в кино, на танцы, — ведь там я увижу Маюк!
Я крепился месяц, потом не выдержал. Пошел в клуб раз, другой, а там и зачастил.
Однажды вечером, когда я уже надел свою лучшую вышитую рубашку, готовясь идти на танцы, открывается дверь, и входит Роза.
— Ивук, — говорит она. — Что-то у меня сегодня задача по алгебре не получается. Помоги мне...
— Какое там помоги! Я сам уже две недели алгебру в руки не брал, — говорю я.
— Это почему же? — Роза сурово сдвинула брови.
— Да так...
— Ах, так? Никуда ты сегодня не пойдешь! — Роза решительно скинула пальто, развязала платок и уселась на лавку возле стола. — Садись, будем с тобой задачи решать.
Пришлось мне остаться и решать задачи.
И так с тех пор повелось. Почти каждый вечер Роза приходила ко мне, и мы вместе занимались.
В середине зимы мы оба хорошо сдали зачеты за полугодие.
— Спасибо, — сказал я тогда Розе. — Если бы не ты... В общем, ты молодец, настоящий товарищ!
— Ладно, — смущенно ответила она. — Что ты меня нахваливаешь? Мне и самой легче заниматься, когда вдвоем...
Как-то днем, когда я вывозил на поля навоз, мою подводу догнал Эрик.
— Ивук, — начал он с хитрой улыбкой. — Что это ты перестал дружить с Маюк? Или она дала тебе от ворот поворот?
Я похолодел. Неужели вся деревня знает, что я люблю Маюк?
— Не понимаю, о чем ты говоришь, — с трудом ответил я.
— Тут и понимать нечего, — захохотал Эрик, закинув вихрастую голову. — Говорят, что ты влюбился в Розу, все вечера с ней проводишь.
Я не на шутку разозлился:
— Мы с Розой учимся вместе и вечерами занимаемся. Чего глупости-то зря болтаешь!
— Да я что! Люди так говорят. А ведь без ветра и лист не шевельнется.
Мы с Эриком говорили громко, так что девушки, стоявшие возле скотного двора, слышали каждое наше слово.
— Не подеритесь, петухи! — сказала Анук.
А эта язва Оксина притворно вздохнула:
— Вот и верь нынче ребятам! Летом Ивук за Маюк как тень ходил, а теперь уже с Розой...
Надо отшутиться, а то совсем засмеют. Эх, была не была! Я набрался храбрости и выпалил:
— Да я вас всех, девушки, люблю одинаково!
Девушки так и покатились со смеху.
— Да ты нос сначала утри, любитель!
— Молоко на губах не обсохло!
— Ай да Ивук! Недаром говорят, что тихий кот лучше мышей ловит...
Вечером я вышел с ведром к колодцу и внезапно столкнулся лицом к лицу с Маюк. Я не видел ее до этого целую неделю и очень обрадовался.
— Здравствуй! — говорю я и улыбаюсь.
— Здравствуй, — холодно отвечает она и смотрит куда- то под ноги.
— Ты что такая скучная?
— Вот еще! — Маюк передернула плечами. — С чего это мне быть скучной?
— Придешь сегодня в клуб?
— А тебе что?
— Да так... Я что-то редко вижу тебя...
Маюк подняла глаза, и мне показалось, что в них блеснули слезы.
— Зато Розу видишь часто, поэт! — почти крикнула она и, подцепив коромыслом ведра, не оглядываясь, быстро пошла к своему дому.
А я остался возле колодца растерянный, с отчаянием в душе. Неужели Маюк могла поверить глупой сплетне?..
Мне хотелось догнать Маюк и прямо сказать ей: «Я люблю тебя, Маюк!» Сколько раз я повторял эти слова в уме, но поди попробуй сказать их вслух!.. Я тяжело вздохнул и стал доставать воду.
...И вот снова пришла весна.
В день экзаменов Роза зашла за мной пораньше, и мы пошли в школу.
Мы поднимались по крутому склону холма, как вдруг навстречу нам с горы несется запряженная в телегу лошадь. Телега стучит, трещит — того гляди, развалится. На телеге Маюк и Оксина с перекошенными от страха лицами вцепились в вожжи и кричат что есть мочи:
— Тпру!
— Стой! Стой!
Куда там! Вскидывая голову, лошадь несется галопом. Да ведь это же Серко? Самый бешеный конь в деревне. Девчатам его ни за что не удержать, да и гора больно крута. Перевернется телега — тогда беда!
Я кинулся навстречу лошади. Передо мной мелькнули ее налившиеся кровью глаза. Я цепко ухватился за уздечку и повис на ней всей своей тяжестью.
Секунда-другая — вот и конец спуска. Но тут я почувствовал резкую боль в ноге, услышал, как закричала Маюк, и больше уже ничего не видел и не слышал.
Очнулся я в больнице.
На другой день ко мне в больницу пришли Маюк и Оксина.
— Ой, Ивук, какой ты, оказывается, храбрый! — затараторила Оксина, едва войдя в палату. — Если бы не ты, мы бы погибли. И как это ты не испугался? Хорошо, что Серко тебе голову не разбил... Мы вот тебе тут конфет принесли. Может, тебе чего нужно, так ты скажи...
— Ничего мне не нужно, — ответил я. — Спасибо, что сами пришли. А завтра придете?
— Придем. Маюк еще вчера сюда прибегала, да ее не пустили к тебе. Ну ладно, до свидания!
Оксина ушла, осторожно затворив за собой дверь, а Маюк присела на край моей кровати и взяла меня за руку.
— Знаешь, Ивук, я тогда, у колодца, глупо себя вела. Ты на меня не сердишься?
— Я на тебя не сержусь, — тихо ответил я. — Я тебя люблю!
Маюк ничего не говорила, она только смотрела на меня сияющими глазами и крепко сжимала мои пальцы своей маленькой смуглой рукой.
РОДНАЯ КРОВЬ
По тенистой лесной дороге бойкой рысью скакали четыре всадника: впереди верхом на вороном жеребце — молодой черноглазый и густобровый высокий человек в солдатской шинели, за ним — три парня еще моложе его в непонятной, не то военной, не то простой деревенской одежде. На одном была военная фуражка, у другого из-под пиджака виднелись широкие брюки-галифе, у третьего — гимнастерка.
Это были бойцы продотряда: Сепан, Метрий, Ондруш и Санюк Григорьев.
Красное, огненное солнце медленно спускалось к горизонту, тускнело, будто печалясь о том, что приближается вечер, и ласковыми лучами скользило по верхушкам деревьев. В лесу становилось прохладно. Лесной воздух очень чист: вдохнешь его полной грудью — и на душе становитсялегче.
Невдалеке, на берегу Немды, заливался соловей.
— Хорош вечер сегодня! — вздохнул Ондруш. — И соловейко поет — век бы слушал...
— Вечер хорош, что и говорить, только некогда нам соловьев слушать. Давай, ребята, быстрее. Как бы до нашего приезда не взломали склад, — сказал ехавший впереди Сепан и пришпорил коня.
Кони перешли в галоп.
* * *
На краю деревни, у хлебного склада — толпа.
Работник волисполкома Миронов, поднявшись на крыльцо, говорил, стараясь перекричать гул многих голосов:
— Соседи, бедняки! Не верьте богачам — они вас обманывают. Семенное зерно, которое хранится на складе, мы будем в свое время раздавать беднякам. Нечего шуметь: хлеб никуда не денется. Он — ваш!
— Не верьте ему, он врет! — орал здоровый, краснорожий мужик — самый богатый в деревне кулак Карпиш. — Ничего вы не получите: ваш хлеб хотят увезти в город. Надо заставить его открыть склад!
Народ шумел, как река в половодье.
— Не дадим увезти хлеб!..
— Открывай склад!..
— Открывай!..
Коренастый низкорослый мариец с ломом в руке пробирался сквозь толпу.
— Открывай склад! — крикнул он, поднимая лом. — Не то сами откроем!
— Только попробуйте! — ответил Миронов, сжимая в правом кармане наган. — Умру, а семенное зерно растащить не позволю.
— Э-э, слыхали, что он говорит? — послышался в толпе голос Карпиша. — Дайте ему как следует, тогда он по-другому запоет.
Из толпы выскочил высокий худой мужик и ударил Миронова по плечу выломанной из изгороди жердью. Миронов покачнулся, но не упал. Выхватив наган, он выстрелил в воздух. Люди от неожиданности притихли, но тут же опять загалдели.
В это время в деревню через полевые ворота галопом въехали бойцы продотряда.
— Что здесь такое? — зло спросил Сепан, осадив коня.
— Хлеба давайте, вот что такое! — крикнул в ответ кто-то из толпы.
— Что ж вы кидаетесь, как дикие звери? Хлеб вам дадут, когда придет время, — сказал Сепан, сдерживая нетерпеливо переступавшего коня.
— Как же, дадут — разевай рот шире, — угрюмо проворчал бедно одетый мариец, поправляя шапку, съехавшую ему на лоб.
— Да ведь он сам — сын богача! — указывая на Сепана, сказал другой мужик. — Ездит тут, людей обманывает. Знаю я его папашу — настоящий мироед. А сыночек, ишь, комиссаром заделался. Волк в овечьей шкуре.
Услышав это, Сепан глухо проговорил:
— Ты меня с отцом не равняй. Он — одно, я — другое. Я служу народу, Республике, Советской власти.
Народ гудел, как улей.
— Э-э, да ты хитер: и вашим, и нашим. Нечего тут сказки рассказывать. Раздавайте хлеб народу!
Миронов долго объяснял, когда и как будут выдавать хлеб и семенное зерно.
Наконец, народ мало-помалу успокоился и, все еще недовольно шумя и ругаясь, начал расходиться.
— Открыть бы склад — и все!
— Обмануть нас хотят...
— На нашем хлебе Советскую власть думают построить.
Среди общего шума слышны и увещевающие голоса:
— Ведь красные не для себя стараются...
— Раз обещали, значит, дадут!
После ужина, сидя в избе Миронова, Сепан задумался. Как назойливый колокольный звон раздаются в ушах Сепана слова: «Да ведь он сам — сын богача» — и никак не идут из головы.
Да, отец Сепана — Кырсан Микале — первый богач в деревне Лоптюр. Его двор, как сундук — ни одной щелочки. В хлеву всегда было полно скотины. На гумне, словно небольшая деревенька, стояли старые скирды хлеба. Да и сейчас у Микале немало хлеба надежно припрятано в тайниках.
Живя богатой и праздной жизнью, Микале стал красен, толст, как напившийся крови клоп.
В детстве Сепан катался, как сыр в масле. Он был любимцем отца. Второго сына, Максия, Микале любил меньше.
Часто, подвыпив, Микале хвастался перед родственниками и соседями:
— Вот подрастет Сепан — все ему отдам. Будет он самым богатым хозяином во всей округе.
Но надежды Микале не сбылись.
Началась война, и Сепана призвали в армию. С фронта он неожиданно попал в революционный Петроград.
Это случилось так. Керенский, чувствуя шаткое положение Временного правительства, для его поддержки отозвал с фронта несколько полков. Среди них был и полк, в котором служил Сепан. Но солдаты, поняв, за чьи интересы заставляют их проливать кровь, перешли на сторону революционных рабочих.
Там же, в Петрограде, в Смольном, Сепан не раз видел великого вождя трудящегося народа — Владимира Ильича Ленина, и слышал его проникающие в самое сердце выступления.
Сепан вступил в партию большевиков.
В начале восемнадцатого года Сепан вместе с другими красноармейцами по решению Петроградского Военно-революционного комитета выехал в родную деревню.
Узнав, что сын богача вернулся в деревню красноармейцем и коммунистом, все в Лоптюре были поражены.
Кырсан Микале, увидев красную ленту на солдатской папахе сына, почувствовал в сердце ледяной холод.
— Так, сынок, — говорил он, сидя за столом напротив Сепана, — значит, сошел с отцовского пути...
— Да, отец, у меня другой путь. Мой путь — правильный.
Сепан долго объяснял отцу, что такое Советская власть, рассказывал о партии Ленина, о том, что она дала свободу народу.
— Эх, Сепан, сынок, косишь ты чужой луг, — тяжело вздохнул Микале.
— Отец, отдай лишнее добро беднякам. Что делать с таким богатством? Теперь начинается новая жизнь, и жить надо по-новому.
Услышав такие слова, Кырсан Микале скривил рот в недоброй усмешке:
— Ты, видно, сам не знаешь, что говоришь. Хочешь раздать голодранцам добро, которое отец наживал всю свою жизнь. Этому не бывать! — закричал Микале, все больше распаляясь от своих слов. — Ты был всегда моим любимым сыном, а теперь сидишь тут и говоришь слова против родного отца, против родной крови. Разве я тебя этому учил?
И так и этак пытался Сепан договориться с отцом. Но тот твердил свое:
— У тебя еще под носом мокро, чтобы учить отца. Ты попробуй поживи с мое, наживи добра, тогда посмотрим, как ты заговоришь.
— Вот что, отец, — твердо сказал тогда Сепан. — Хоть ты меня вырастил, хоть и течет в нас одна кровь — мы теперь чужие друг другу. Ты не хочешь жить по-новому, а я не буду жить по-твоему. Прощай!..
Сепан стал командиром продотряда. В прошлом году, летом, он приехал в родную деревню за хлебом для Советской республики.
Когда Кырсан Микале увидел на своем дворе сына и его бойцов, злость закипела в его сердце.
Сепан быстро нашел тайники с зерном. Но едва он взялся за первый мешок, Микале схватил вилы, стоявшие возле хлева, и кинулся на Сепана. Один из бойцов успел вырвать вилы из рук рассвирепевшего отца.
— Дьявол бы тебя побрал! — хрипел Микале, забравшись на крыльцо и грозя кулаком. — Ты мне больше не сын! Бог видит, как ты издеваешься над отцом, он тебе отомстит. Я убью тебя, выродок!
Это было почти год назад. А время не стоит на месте. За летом пришла дождливая осень, ее сменила снежная зима. Отшумела она трескучими морозами, и красавицей-невестой пришла зеленая весна.
Не стоит на месте и жизнь. В Марийском крае, как и по всей Советской стране, новая жизнь ведет борьбу со старой. Повсюду злобствуют деревенские богатеи, пытаются помешать новой жизни, обманывают бедняков, натравливают их на коммунистов и активистов.
Сепана вывел из задумчивости голос Миронова:
— Я теперь боюсь ходить один, — говорил Миронов, усаживаясь в простенке между окон. — Позавчера в Купсоле через окно застрелили учителя коммуниста Чопаева. А в Тореш-Кюваре пытались поджечь склад с хлебом. Хорошо, сторож заметил — потушили.
Сепан слушал молча. Под окном раздавались шаги часового — Метрия. В ясном небе горели звезды, словно шляпки забитых в небо серебряных гвоздей. Тихо. Где-то на другом конце деревни воет собака. На Лоптюрском болоте ухает филин.
— Пора! — сказал Сепан, поднимаясь.
— Куда же вы на ночь глядя? Переночуйте. Страшно- то как! — посмотрев в окно, поежился Миронов.
— Нам бояться некогда, — ответил Сепан, пристегивая саблю. — К утру мы должны добраться до Марисолы. Получены известия, что завтра тамошние богачи опять собираются поднять бучу из-за хлеба.
Провожая всадников, Миронов предупредил;
— Будьте особенно осторожны, когда поедете через Лоптюрское болото. Говорят, там орудует какая-то банда.
— Товарищи, проверьте оружие и будьте начеку, — сказал Сепан, пришпоривая вороного.
Кони пошли мелкой рысью. Всадники ехали молча.
Как хороша весенняя ночь! Тихо, только на болоте ухает филин, да издали доносится девичья песня. Видно, девушкам и парням в такие короткие ночи не до сна.
Влажный ветерок тянет с Немды, ласково гладит лицо своей шелковой рукой.
Сепан чутко слушает ночь. Дорога пошла кустарником мимо болота. В напряженной тревожной тишине слышен лишь стук копыт. Вот хрустнул сучок. Может, какой-нибудь зверь пробирается сквозь чащу? Кто знает... Ночь все прикрыла своим черным крылом.
Вдруг ночную тишину разорвали звуки выстрелов. Пули со свистом пролетели над головой. Молодой паренек, Санюк Григорьев, вскрикнул и схватился за раненое плечо.
Бойцы продотряда поскакали на выстрелы, в темноту, сквозь кустарник. Бандиты убегали, отстреливаясь. Им, пешим, было легче, чем всадникам, пробираться через чащу.
Но вот чаща поредела, показалась поляна и Сепан, скакавший первым, увидел, что через поляну бежит черная тень. Бандит спешил к кустам, на другую сторону поляны.
«Не уйдешь, сволочь!» — подумал Сепан и выстрелил два раза подряд. Тень упала, послышался стон.
Остальные бандиты, видимо, скрылись в чаще. Бой утих так же внезапно, как и начался.
Сепан осторожно подъехал к упавшему бандиту и крикнул:
— Руки вверх!
Но в ответ послышался стон:
— Ох, умираю!..
Сепан, спешившись, зажег спичку... На земле лежал его отец, Кырсан Микале. Сепан и подоспевшие товарищи молча смотрели на раненого.
Отец, опираясь на руки, приподнялся и с ненавистью посмотрел сыну в глаза.
— Сын... — прохрипел Микале, — родного отца... убил! — Он набрал в грудь воздуху, со стоном выдохнул, закатил глаза и ничком упал на землю.
Сепан еще раз, в упор, посмотрел на отца и вскочил в седло.
И снова четыре всадника скакали по дороге, а навстречу им на востоке уже поднималась алая заря.
СОДЕРЖАНИЕ
Идет мальчишка по дороге. Повесть
Милая моя. Рассказ
Родная кровь. Рассказ
Notes
[
←1
]
Шыма́кш – марийский национальный женский головной убор.
[
←2
]
М. Шкета́н (1898–1937) – марийский писатель-классик.
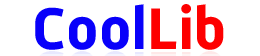
Последние комментарии
19 часов 55 минут назад
1 день 3 часов назад
1 день 18 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад
1 день 22 часов назад