Другая история русского искусства [Алексей Алексеевич Бобриков] (fb2) читать постранично
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (303) »
Алексей Алексеевич Бобриков
Другая история русского искусства

Предисловие
Данный текст представляет собой попытку заново упорядочить большое количество информации под условным названием «русское искусство». Его структура определяется логикой развития стилей и направлений, в то время как характеристики отдельных авторов или произведений служат скорее материалом для выявления тенденций, иллюстрацией процессов, происходивших в русском искусстве между концом XVII и началом XX века. Одна из главных целей автора — показать чередование определенных этапов в истории русского искусства, основываясь на представлении об этой истории как закономерной эволюции, а не серии случайных эпизодов. Эта эволюция проявляется в последовательном изменении иконографии, стиля, социального статуса художника и самой мифологии искусства. Отсюда внимание к иконографическим и стилистическим аспектам рассматриваемых явлений вместо традиционного жанрово-хронологического или очерково-биографического подхода. В данном случае общая логика развития искусства подчиняет себе индивидуальные творческие биографии. Часто художник интересен и важен для истории искусства очень коротким периодом своего творчества, несмотря на долгую жизнь и бурную художественную активность; а иногда, наоборот, он не просто меняется вместе со временем, но изменяет художественный язык поколения несколько раз на протяжении своей жизни. Последнее требует условного разделения одного художника на нескольких, не совпадающих друг с другом. Так, например, появляются «первый», «второй» и «третий» Репин — три разных художника, существенно отличающихся по философии жизни и стилистике живописи. Программным здесь является отказ от представления о священной целостности личности художника. По той же причине поздние периоды творчества большинства художников (за исключением таких, как Александр Иванов или Ге) опускаются как несущественные для общей эволюции. Эта эволюция, по мнению автора, носит циклический характер. Каждый цикл проходит определенные стадии развития — нельзя сказать, чтобы одни и те же, но обладающие определенной общей логикой чередования. Начало — это новый метод, новая идеология, новая оптика; иногда просто более высокий жизненный тонус, более высокий уровень экспрессии. Затем — развитие, специализация, иногда создание формул большого стиля. Ближе к концу культурного цикла появляются разные формы сентиментализма, эстетизма, эскапизма. Часто финалом становится программное, концептуальное, чисто идеологическое или догматическое искусство. Проводимое в этой книге разделение на большие периоды и их терминологическое определение не имеют единого принципа. Разный принцип структурирования — неизбежное следствие различий главных определяющих факторов развития искусства. Так, в XVIII веке (где иконография и стиль часто определяются вкусом правителя) это более или менее традиционное разделение на царствования. В первой половине XIX века — разделение скорее по стилям, хотя и императоры, например Николай I, сохраняют значение и влияние на искусство и присутствуют в названиях глав. Вторая половина XIX века структурирована только по стилям (по типам «реализма»). Одним из главных препятствий является недостаточность существующей терминологии для описания тех или иных проблем. Терминология, сложившаяся главным образом в советскую эпоху, несет на себе следы ее идеологии. В частности, термин «реализм», в советской традиции противостоящий «формализму», существует как рамочный и чисто политический, а не искусствоведческий; смысл его — конвойно-сопроводительно-разрешительный: это «тоже реализм» — значит, «это теперь тоже можно». Отсюда непрерывное расширение значения слова «реализм» по мере культурной либерализации. В итоге термин, первоначально (во времена Курбе) весьма узкий и определенный, даже вызывающе субкультурный, утратил всякий искусствоведческий и вообще культурный смысл. И хотя в позднесоветской литературе об искусстве происходило постепенное проникновение общепринятых терминов «сентиментализм» и «романтизм» и даже (после статьи Сарабьянова[1]) «бидермайер» в описание эпох Боровиковского, Кипренского и Тропинина, тем не менее существовал негласный запрет на стилистическую интерпретацию передвижничества (равно как и советского искусства). Это вполне объяснимо: стиль по определению подразумевает частичность, а также некоторую условность; амбиции же советской культуры предполагают тотальность, окончательность и полную серьезность, налагающую запрет на стилистическую дистанцию. Разрешено было лишь разделение на жанры, причем эти жанры (как в классицизме и большом стиле) были неравны по статусу, и «хоровая картина» предполагалась как некая цель. В предлагаемом тексте эта терминологическая- 1
- 2
- 3
- . . .
- последняя (303) »
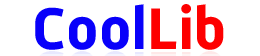
Последние комментарии
12 часов 18 минут назад
13 часов 50 минут назад
17 часов 44 минут назад
17 часов 48 минут назад
23 часов 9 минут назад
2 дней 10 часов назад