Межконфессиональная полемика в западноевропейской церковной историографии XVI в. [Илья Евгеньевич Андронов] (pdf) читать онлайн
Книга в формате pdf! Изображения и текст могут не отображаться!
[Настройки текста] [Cбросить фильтры]
высшего образования
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
На правах рукописи
Андронов Илья Евгеньевич
МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XVI ВЕКА
Раздел 07.00.00 – исторические науки
Специальность 07.00.09 – историография, источниковедение и методы
исторического исследования
Диссертация
на соискание ученой степени доктора исторических наук
Москва – 2015
2
Оглавление
Введение………………………………………………………………………………..3
Источниковая база исследования……………………………………………10
Обзор историографии…………………………………………………….…..23
Глава 1. История церкви в историографической
панораме первой половины XVI века………………………………………….…...48
§1. Церковно-политическая ситуация. Тридентский Собор и
церковная историография……………………………………………………………49
§2. Античное церковно-историческое наследие в эпоху гуманизма.
Беат Ренан...………………………………………………………………………..…53
§3. Зарождение лютеранской церковно-исторической концепции.
С.Франк……………………………………………………………………………….72
§4. Историческая литература для массового читателя. Х. Эгенольф…………….77
§5. Первая протестантская история церкви: К. Хедио…………………………….94
§6. Вторая Схоластика и зарождение локального метода…………………..........114
§7. Историзм и локальный метод в трудах католической стороны
(Т.Кампеджи)………………………………………………………………………...131
Глава 2. «Магдебургские центурии» - крупнейшее произведение протестантской
церковной историографии XVI века……………………………………………………..147
§1. Рождение замысла. Матиас Флаций – организатор и первый руководитель
проекта «Магдебургских центурий»………………………………………………….......147
§2. Обстоятельства работы над «Центуриями»…………………………………..163
§3. «Каталог свидетелей истины»…………………………………………………187
§4. Паратекст «Магдебургских центурий»……………………………………….211
§5. Историческая концепция «Центурий»………………………………………..238
§6. Изменения в догме, возвышение Рима, новый церемониал – основные факторы
исторического процесса ………………..………………………………………………….271
§7. Некоторые оценки на страницах «Магдебургских центурий»……………...285
§8. Специфика локального метода «Магдебургских центурий»………………..297
Глава 3. Католическая историография против «Магдебургских центурий» в 15601588 гг………………………………………………………………………………….........328
§1. Первые выступления католической партии: 1560-1568 гг…………………..328
§2. Учѐные-иезуиты против «Центурий»: 1570-1573 гг…………………………356
§3. Некоторые отдельные выступления………………………….……………….366
Глава 4. Оформление католической историко-церковной концепции: «Церковные
анналы» Ч. Баронио...........................………………………………………………………384
§1. Кардинал Чезаре Баронио. Обстоятельства работы над «Церковными
анналами»………………………………………………………. ………………………….384
§2. Паратекст «Церковных анналов»……………………………………………...396
§3. Историческая концепция и метод «Церковных анналов»…………………...413
Заключение…………………………………………………………………………..431
Список использованных источников и литературы……………………………...448
Список сокращений…………………………………………………………………465
3
Введение
Актуальность и научная значимость темы. XVI век – особенное время в
европейской интеллектуальной истории. Реформация, волна географических открытий,
укрепление крупных централизованных королевств, другие факторы повлекли за собой
глубокие перемены в мировоззрении европейцев, ускоренное развитие наук и технологий.
Вследствие ряда факторов церковная историография стала одной из актуальнейших
гуманитарных дисциплин: впитав достижения предшествующей эволюции исторического
знания и всѐ лучшее из арсенала ренессансной истории, она получила мощный
дополнительный толчок, связанный с актуализацией исторического материала для
идеологических баталий. Мартин Лютер, а за ним – его ближайшие последователи,
усмотрели огромный потенциал в переводе антикатолического дискурса в плоскость
церковной истории. В этой отрасли знаний долго царило относительное затишье:
церковная история находилась на обочине интересов гуманистической науки, и
отношение Рима к ней не способствовало концентрации кадров и ресурсов католической
церкви в этой области. В определѐнный момент конфликт католиков с последователями
«лютеранской чумы», развивавшийся на базе взаимных обвинений, стал нуждаться в
информационной подпитке: обосновать обвинения в адрес противника можно было
только историческим материалом. Римская церковь веками аккумулировала знание внутри
себя; идеологическая борьба против неѐ на новом этапе требовала нарушения этой
сложившейся естественным путѐм «монополии». Для этого в лагере лютеран имелось всѐ
необходимое: распространение гуманистических идеалов
в германских землях, рост
количества университетов и престижности гуманитарного образования, успехи в
богословии, а затем и во множестве связанных с ним дисциплин, наконец, небывалое
развитие книгопечатания – всѐ это открывало путь для реализации самых амбициозных и
невероятных замыслов. Важную роль в подготовке европейской идейной среды к
новаторским концепциям в церковной историографии сыграла историческая литература
30-40-х годов XVI века. После некоторого упадка, вызванного политическими бурями
(Крестьянской войной, событиями на турецком фронте, Итальянскими войнами),
читающее
общество
западноевропейских
стран
обнаружило
новый
интерес
к
разнообразным жанрам историописания, и книжный рынок оказался быстро заполнен
разнообразными «хрониками», «анналами», «историями». Тридентский Собор углубил
идеологическое противостояние, способствовав консолидации не только католического,
но и протестантского лагеря. Во второй половине XVI века именно церковная
историография стала одним из наиболее массовых жанров исторической литературы. За
4
количеством последовало и качество: в различных сферах гуманитарного знания, в
частности, получил
распространение
«локальный
метод», несколько по-разному
понимаемый по разные стороны идеологического «фронта».
Крупнейшим произведением этого периода является подготовленная группой
историков-лютеран под руководством М. Флация «Церковная история»1. Эта книга,
вскоре получившая название «Магдебургских центурий», стала первым в историографии
коллективным сочинением, первой реконструкцией многих веков христианской истории
строго на основании документов; первым сочинением, авторы которого разрабатывали
научные методы работы с источниками, свободные от давления идеологии. Предпринятые
католической стороной ответные действия не сразу привели к нужному результату –
заданные оппонентами профессиональные критерии были на первых порах недосягаемы.
С течением времени, однако, католической стороне удалось вывести свою историографию
на требуемый уровень: лучшие работы конца XVI века это убедительно демонстрируют.
Историко-церковные дебаты следующего столетия отличались исключительно высоким
профессиональным
уровнем;
утратив
в
определѐнном
смысле
идеологическую
актуальность, они приобрели в профессионализме. Труды множества протестантских и
католических историков обеспечили этой отрасли историографии дальнейшее мощное
развитие, увенчавшееся такими выдающимися достижениями, как выходившие не одно
столетие
болландистские
«Деяния
святых»
(Acta
Sanctorum),
а
также
труды
бенедиктинцев Б. де Монфокона и особенно Ж. Мабильона.
По ряду причин эта линия развития историографии до сих пор не получила
комплексного рассмотрения. Существующие комплексные работы либо носят слишком
общий характер, либо не выделяют церковную историографию в отдельную дисциплину,
следовательно, не видят основополагающей роли межконфессионального диспута в
эволюции
историописания.
Наконец,
имеющиеся
основательные
исследования,
сконцентрированные на церковной историографии, придерживаются только одной
стороны конфликта. Соображения конфессиональной предвзятости или, напротив,
нежелание забираться в домен своих научных оппонентов не позволяли и не позволяют до
сих пор ведущим специалистам по историографии провести комплексный анализ,
сопоставить достижения протестантских (в XVI веке – преимущественно лютеранских) и
католических
1
историков,
реконструировать
ход
межконфессиональной
полемики.
Ecclesiastica Historia, integram ecclesiae Christi ideam quantum ad locum, propagationem, persecutionem,
tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem, schismata, synodos, personas, miracula, martyria,
religiones extra ecclesiam et statum Imperii politicum attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine
complectens: singulari diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus et aliis scriptoribus congesta
per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. 13 vv. Basileae, Oporinus, 1559-74 (далее – EH).
5
Отдельные, даже очень качественные исследования методологии истории XVI века не
способны восполнить потребность в более комплексном подходе. В дореволюционной
российской историографии эта тема почти не получила внимания специалистов; советские
историки также обходили молчанием темы, связанные с прогрессивной ролью церковного
знания в Раннее Новое время. Современные отечественные церковные историки
сосредоточили свои усилия в основном на ранних веках христианской истории, на
средневековой
философии
или
на
судьбах
Православия.
Между
тем,
тема
межконфессионального диспута и его роли в развитии западноевропейской церковной
историографии имеет важнейшее значение и вне религиозного контекста: церковная
историография с конца XVI по конец XVII века в профессиональном смысле достигает
уровня лучших произведений светской науки.
Все эти соображения, в сочетании с совершенно недостаточной разработанностью
данной проблематики в отечественной науке, определяют актуальность предпринятых
нами изысканий.
Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования является
историческая мысль Западной Европы в области истории христианской церкви в связи с
общественной мыслью в контексте конфликта между лютеранской и католической
церковной идеологией в XVI веке. Предметом исследования являются сочинения по
истории церкви множества авторов – сочинителей популярной литературы, публикаторовгуманистов, философов и мыслителей, затем – лютеранских и католических церковных
историков. Из всех сочинений по истории церкви XVI века отобраны те, в которых
содержится целостная концепция, охватывающая всю христианскую эру, либо те, которые
сыграли важную роль в межконфессиональной полемике. Кроме того, в орбиту работы
включены актуальные в XVI веке сочинения о методах гуманитарных наук (Кано,
Флаций),
характеризующие
межконфессиональную
дискуссию
публицистические
сочинения, памфлеты, а также переписка историков и черновики некоторых их
сочинений.
В этой связи необходимо с самого начала обговорить использование некоторых
терминов и понятийных категорий. Многозначность термина «историография» требует
уточнить: в настоящей работе под ним понимается эволюция исторического знания,
выраженная в текстах сочинений ученых мужей и публицистов2 (в данном случае –
2
Подробно об этом говорила в своѐм докладе на конференции в Институте всеобщей истории РАН М. С.
Бобкова (Бобкова М. С. Доклад «Понятие «историописание» в трудах М. А. Барга и современная история
исторического знания». Конференция «Идея истории. Актуальные проблемы исторического познания», 20
мая 2015 года). Историк выделяет три основных значения этого термина: «процесс составления
исторического сочинения, литературная история той или иной научной проблемы, история исторического
6
применительно к истории христианской церкви в целом и к XVI веку). Термин
«историописание», набирающий силу в современной науке, также вполне возможен. В
контексте нашей проблематики он очень близок термину «историография»; важнейшее
различие между ними – представление о принадлежности «историографии» в ее
современном понимании к «науке», а «историописания» - ко всей совокупности практик,
имеющих своим объектом прошлое человечества. Коль скоро целью нашей работы, в
частности, будет описание элементов научного знания, проникающего в написанные в
XVI веке труды по истории церкви, различие между двумя терминами в значительной
степени утратит практический смысл, а их противопоставление в последующем анализе
может вызвать путаницу. По этой причине мы пользуемся по преимуществу термином
«историография». «Историография» (и частный случай «историография церкви») в нашей
работе понимается как совокупность трудов о прошлом, а также как процесс эволюции
концепций
исторических
сочинений,
исследовательской
техники,
теоретических
представлений о работе с источниками и о законах экспозиции. Единственное исключение
– это помещйнный во введение обзор истории изучения затронутых в данной работе
сюжетов, по традиции названный в оглавлении «историографическим».
Историография
церкви
или
церковная
историография?
Применительно
к
раннесредневековой исторической мысли различие между двумя понятиями было очень
важным. Установившаяся после появления трудов Евсевия Кесарийского и Павла Орозия
традиция отводила церкви особую роль в истории в целом, и сочинения по истории
отдельных народов рассматривали различные сюжеты сквозь призму торжества
христианства и величия королей-праведников. Ярким примером может служить
«Церковная история народа англов» Беды Достопочтенного; даже сочинение Григория
Турского в одной из древнейших рукописей было озаглавлено как «Церковная история
франков», и в этом не было ничего удивительного или странного3.
К XVI веку картина значительно изменилась. Сформировалась и окрепла светская
историографическая традиция, внутри которой зародились новые рационалистические
методы и направления. Понятие «история» значительно расширило своѐ семантическое
поле, и прилагательное «церковная» (ecclesiastica) больше воспринималось как
уточняющее к существительному historia: об этом свидетельствуют хотя бы названия
знания». Многозначность способна привести к немалой путанице, поэтому М. С. Бобкова предлагает шире
использовать термин «историописание» для обозначения совокупности как научной исторической
литературы, так и сочинений о прошлом, написанных до того времени, когда история окончательно
конституировалась в научную дисциплину, и в том числе – «текстов вне-, до- и ненаучного характера». Это
толкование термина основывается на изучении трудов ряда ведущих учѐных, в том числе – М. А. Барга.
3
Подробнее см. Савукова В. Д. Григорий Турский и его сочинение. В: Григорий Турский. История франков.
Москва, «Наука», 1987. С. 330-331.
7
многих из сочинений, анализируемых в рамках данной работы. Вслед за авторами наших
источников мы различаем общее понятие «церковная история (историография)» и частное
«история (историография) церкви», причѐм в последнем случае мы имеем в виду церковь
как институт, а не как сообщество всех верующих христиан или как доктрину. «Церковная
история» может относиться к различным сюжетам в рамках прошлого христианского
народа или города, в то время как «история церкви» по определению посвящена именно
ей. Впрочем, в сочинениях с глобализирующим сюжетом, вроде «Магдебургских
центурий» (их официальное название начиналось со слов Historia Ecclesiastica) или
«Церковных анналов» (Annales Ecclesiastici), «церковная история» в заголовке полностью
сливалась с понятием истории христианской церкви в самом общем смысле.
Определяя объект и предмет сочинения, необходимо сказать несколько слов насчѐт
ренессансной историографии. Эта отрасль гуманитарной деятельности в исследуемую
нами эпоху имеет много точек соприкосновения с церковной историографией, и провести
чѐткое
различие
порой
оказывается
затруднительно.
«Генетическая»
связь
западноевропейской церковной историографии XVI века с гуманизмом не подлежит
сомнению. Интеллектуальное формирование западных церковных историков просиходило
в гуманистической среде; с раннего детства, чаще всего ещѐ до вступления на церковную
стезю, молодой человек впитывал интерес к словесности, к древностям и древним языкам,
усваивал проблематику самых популярных исторических, философских и политических
сочинений своего времени. Тем не менее, церковная историография представляет собой
весьма специфическую область, отделѐнную от традиционных интересов ренессансных
историков – историй правящих династий или городов, войн и ряда других тем. Некоторые
ренессансные историки (фон Гуттен, Платина, Сигонио и другие) занимались и
церковными сюжетами, однако созданные ими тексты не охватывали широкую
проблематику (даже в тех случаях, когда они включали в себя события различных эпох
или описывали длительные процессы), не основывались на анализе новых источников.
Наконец,
сочинения
межконфессиональной
этих
авторов
дискуссии
–
по
не
разным
были
причинам
направлены
оказались
против
вне
концепции
идеологического противника, не нацеливались автором на то, чтобы превзойти труды
оппонентов в качественном отношении, а после выхода не подвергались критике со
стороны противоположной стороны. Это позволяет нам, признавая глубокую идейную
связь
церковной
историографии
межконфессиональной
полемике,
необходимый минимум внимания.
XVI века
уделив
с
гуманизмом,
достижениям
сосредоточиться
гуманистической
на
мысли
8
Тем не менее, в данной работе рассмотрены некоторые сочинения (хронологически
относящиеся к началу межконфессиональной полемики), соответствующие ряду
критериев
историографии
Возрождения.
Их
было
решено
включить
в
круг
рассматриваемых источников для того, чтобы более полно охарактеризовать ситуацию,
сложившуюся в западноевропейском историописании к началу межконфессиональной
полемики. По мере нарастания вызванного этой полемикой всплеска интереса
европейской
читающей
публики
к
церковно-историческим
сюжетам
отход
от
ренессансной традиции становится постепенно всѐ более очевидным. Одной из задач
нашего исследования будет показать, в чѐм заключается этот отход, в чѐм заключалось
своеобразие области церковной историографии и в чѐм лучшие из рассматриваемых в
настоящей работе церковно-исторических сочинений стали шагом вперѐд не только в
сфере изучения истории христианской церкви, но и в более широком смысле в общей
эволюции взглядов на историю.
По схожим причинам мы не будем специально исследовать исторические взгляды
Мартина Лютера. Отдавая должное значению его критики церкви, мы считаем, что эта
критика, имея под собой историческую основу, не была связана с написанием
исторических сочинений в собственном смысле слова (с корпусом исследованных «из
первых рук» источников, с полным и не имеющим лакун охватом всех христианских эпох,
с разнообразной комплексной проблематикой). Мартин Лютер излагал в основном свои
исторические взгляды в предисловиях к сочинениям других авторов (Роберта Барнеса,
Себастьяна Франка и некоторых других). Несмотря на то, что эти лютеровские тексты
содержат ряд важных положений, они не представляют собой детального изложения
концепции и не сыграли значимой роли в межконфессиональной полемике в
историографии. В то же время исторические взгляды Лютера получили комплексное
выражение в «Магдебургских центуриях», подробно нами проанализированных, а также в
«Хронике Кариона» и некоторых других рассмотренных нами крупных церковноисторических сочинениях.
В современной историографии Раннего Нового времени особую актуальность
приобрело изучение книжной культуры. Специальные исследования посвящаются
проблемам написания и циркуляции книг, книгопроизводства, связанных с этим
технологий, а также неизбежного влияния форм существования текста на их содержание.
Заметный толчок подобным исследованиям в российской науке дало издание перевода
ряда сочинений Роже Шартье4.
4
Шартье Р. Письменная культура и общество. М., Новое Издательство, 2006. 270 c.
9
Методология историографического исследования дополнена в настоящей работе
особым вниманием к элементам печатного текста, находящимся за рамками «основного»
и получившим в современной науке название «паратекст». Паратекст включает в себя
разного рода предисловия, посвятительные письма, обращения к читателю, оформленные
титульные листы, приветственные стихотворения и эпиграммы, публиковавшиеся внутри
книг рецензии на них, а также указатели, индексы, справочные материалы – одним
словом, всѐ то, что не относится к собственно тексту, заявленному в названии книги.
Основополагающим
в
этом
направлении
исследований,
быстро
приобретшем
междисциплинарный характер, был труд Жерара Женетта5. К сожалению, эта книга еще
не переведена на русский язык; специальные исторические работы, посвящѐнные
функциям и формам паратекста в изданиях Раннего Нового времени, также пока
отсутствуют.
Ж. Женетт исследовал в основном произведения художественной литературы,
однако его выводы оказались действительными и для других видов текстов. Он, в
частности, отметил, что любой текст определяется как «более или менее длинная череда
более или менее наполненных смыслом вербальных высказываний»6, однако крайне редко
предстаѐт перед исследователем в таком виде без вербальных или невербальных
дополнений – имени автора, заголовка, предисловия, иллюстраций и так далее. Эти
дополнения, удачно обозначенные ученым термином «паратекст», составляют особый,
очень ценный предмет изучения. В своей книге Женетт попытался дать классификацию
элементов паратекста, предложил несколько способов его классификации (в частности, по
времени создания относительно основного содержания книги – «перитекст» и
«эпитекст»). Исследование Женетта не носит диахронического характера – «история
паратекста» ещѐ должна быть написана. Тем не менее, широкий кругозор автора
побуждает его читателей к изучению не только очевидных элементов паратекста
(указаний
авторства,
предисловий,
титульных
листов,
посвящений,
оглавлений,
указателей, примечаний и др.), но и разного рода интервью авторов и их выступлений
после выхода книги в свет, переписку, более поздние авторские комментарии и многое
другое.
Развернутая классификация, предложенная Женеттом, не была в полной мере
востребована в данной работе, поскольку специфика сочинения по историографии
способствует, по крайней мере, на современном этапе, концентрации на элементах,
5
Genette G. Seuils. Paris, Seuil, 1987. 389 c.; Genette G. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt
am Main, Suhrkamp, 1989. 402 c.
6
Genette G. Paratexte … . S. 9.
10
сопровождающих первую публикацию текста или предшествующих ей. В этой связи
теоретический интерес представляет дискуссия, развернутая Флацием и его противниками
ещѐ до выхода в свет «Магдебургских центурий». Как выяснилось в ходе нашей работы,
паратекст церковно-исторических сочинений может дать исследователю новые, не
доступные ему при иных подходах материалы для размышлений и обобщений.
Основное внимание в диссертации уделено текстам церковных историков. По этой
причине за рамками работы остаются интересные и плодотворные сюжеты, связанные с
конфессионализацией Европы в XVI и в начале XVII столетий. Эти сюжеты заслуживают
отдельных глубоких изысканий, расширения методологии и коренного изменения ракурса
исследования, что вряд ли возможно в рамках работы по историографии.
Источниковая
база
исследования.
Вполне
закономерно,
что
основой
источниковой базы исследования по историографии являются сочинения историков.
Первоочередной задачей при проведении исследования по церковной историографии стал
отбор исторических текстов – основного источника работы. Из обилия сочинений по
церковной истории были отобраны тексты «первой величины» - «Магдебургские
центурии» и «Церковные анналы» Чезаре Баронио. Эти крупнейшие труды стали
важнейшими
вехами
в
становлении
церковной
историографии
и
обогащении
исторического знания в целом.
По ряду освещѐнных ниже причин мы были вынуждены сосредоточить своѐ
внимание на первом из этих крупных произведений. «Магдебургские центурии» выходили
в 1559-74 годах. Первые три центурии (тома) вышли одним изданием в 1559 году, а затем
несколько раз переиздавались. Эти три тома были также выпущены отдельно в 1560, 1562
и 1564 годах; очевидно, инициированное издателем Иоганном Опорином переиздание
свидетельствовало о коммерческом успехе проекта на первом этапе. Четвертый том
вышел в 1560 году, пятый и шестой – в 1562, седьмой и восьмой – в 1564, девятый – в
1565, десятый и одиннадцатый – в 1567, двенадцатый – в 1569, последний из
опубликованных тринадцатый – в 1574 году. Названия этих томов в деталях немного
отличались друг от друга; отличались и их названия в переизданиях. Во избежание
путаницы мы именуем тома по первому изданию первого тома, а тексты – по первым
вариантам (некоторые отличия в версиях имеются, но они не носят важного для нашего
исследования значения). В заглавии первых четырѐх томов стояло указание на то, что они
были написаны «некоторыми благочестивыми мужами в Магдебурге». Пятый том был
написан «частью в городе Магдебурге, частью в Йенской Академии». О шестом
говорится, что он был написан «в изгнании», тома с восьмого по тринадцатый – «в городе
Висмаре» (там находился штаб «Центурий» после многочисленных превратностей и
11
отхода Флация от активной работы над проектом). Относительно седьмого тома никаких
указаний нет. Качество печати (и текста с точки зрения грамматики и стиля) было самым
высоким в первых четырѐх томах, а самым худшим – в 10 и 11 центурии. Параллельно в
Йене были выпущены первые тома на немецком языке, однако проект оказался
нерентабельным и в 1565 году был оставлен. В 1624 году в Базеле было подготовлено
переиздание первых девяти центурий (в двух томах), однако это издание также не
снискало большой популярности. В 1757-1775 годах в 4 томах (по 2 книги) было
выпущено заново отредактированное и снабжѐнное дополнениями издание первых томов;
идея принадлежала видным деятелям немецкого Просвещения Якобу Баумгартену и
Иоганну Саломону Землеру. Наконец, имеется и оцифрованная версия текста,
подготовленная в рамках цифровой Библиотеки Германских исторических памятников7.
Историки отмечали некотрые недостатки этого издания, которые в рамках нашего
исследования представляются совершенно незначительными.
Поле церковной историографии первой половины XVI века, а также времени
между первыми «Центуриями» и выходом «Церковных анналов» Чезаре Баронио является
«терра инкогнита» в отечественной историографии, включая церковную; в европейской
науке оно также изучено крайне слабо. В определѐнный момент перед нами встала задача
поиска текстов по церковной истории, а затем – отбора их для формирования
репрезентативной картины. Для исследования были привлечены несколько десятков работ
как церковных историков в полном смысле слова, так и авторов, широко включавших
церковно-исторический материал в свои произведения. Главным критерием было наличие
концепции и общественный резонанс работы. Более того, важным было использование
более поздними историками трудов более ранних в качестве предшественников: это
позволяло установить отношения научной преемственности, а также проследить в
некоторых случаях развитие дискуссии не только в целом, но и по более частным
вопросам церковной истории. В коллекциях библиотек Москвы (Музей книги РГБ),
Петербурга (коллекции РНБ и БАН), Флоренции (Центральная национальная библиотека),
Рима (Центральная национальная библиотека), Вольфенбюттеля (Библиотека герцога
Августа) были изучены труды Беата Ренана, К. Хедио, Х. Эгенольфа, С. Франка, Ф.
Меланхтона, М. Флация, М. Бухингера, К. Брауна, В. Айзенграйна, П. Канизия, Ф.
Торреса, О. Панвинио и Ч. Баронио, а также ряда историков меньшего масштаба. Если те
или иные работы авторов (в основном – представителей германского гуманизма) имелись
в ряде переизданий, то для анализа текста из них выбирались последние прижизненные
издания. Некоторые исключения (например, относительно некоторых сочинений Беата
7
URL: http://www.mgh-bibliothek.de/digilib/centuriarum_loci.htm (дата обращения: 15.03.2015).
12
Ренана) оговариваются в тексте работы особо. Работы католических историков от К.
Брауна до О. Панвинио оказались весьма труднодоступными, поскольку издавались
единожды небольшим тиражом. Тем не менее, их удалось найти, во многом благодаря
прекрасному состоянию библиотек Италии и особенно Германии.
Уже
в
ходе
работы
выяснилось,
что
для
понимания
механизма
межконфессиональной дискуссии XVI века необходимо изучить «Магдебургские
центурии» не только в качестве вышедшего в печати текста, но и как исследовательский
проект и иллюстрацию функционирования книгоиздательского рынка. В этой связи
корпус источников пришлось расширить, что не представляло трудности благодаря
накопленным результатам работы ряда немецких и австрийских учѐных. Пионером в деле
публикации источников выступил Иоганн Вильгельм Шульте, подготовивший в 1877 году
к изданию переписку идеологов «Магдебургских центурий» Флация, Ланге и Нидбрука
друг к другу и несколько других документов 8. Интерес к теме возник случайно: в те годы
в
немецкой
научной
периодике
активно
обсуждался
вопрос
о
некоторых
раннесредневековых саксонских документах, историческая ценность которых была
поставлена под сомнение. Тот факт, что их цитировал в своих произведениях Матиас
Флаций, добавила им научного веса; историки заинтересовались техникой поиска и
отбора документов для «Магдебургских центурий». И. В. Шульте обнаружил ряд ранее
неизвестных документов в венских архивах – они попали туда вместе с другим наследием
рано ушедшего из жизни дипломата Каспара Нидбрука. Большинство попавших в
публикацию писем представлены в полнотекстовом режиме, некоторые – в пересказе.
Именно этой публикацией в качестве одного из источников пользовался проф. А. П.
Лебедев при написании главы своей работы, посвящѐнной «Магдебургским центуриям»9.
Сюжет получил развитие в работах венского исследователя Виктора Библа 10. Его
подборка была составлена на более систематической основе. Изданная переписка Флация
и Нидбрука охватывала 1552-57 годы и включала в себя 41 письмо. Кроме того, Библ
попытался создать только на основе писем картину работы над «Центуриями», и
полученный результат и поныне имеет большое научное значение. Параллельно этой
работе была издана также переписка Нидбрука с венским профессором древнегреческого
8
Schulte J. W. Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Magdeburger Centurien. In: Bericht der Philomathie in
Neisse, Bd. 19, 1874-1877. S. 50-154, 224-229.
9
Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до XX в. СПб, Алетейя, 2001 (3е изд.). 474 с.
10
Bibl V. Der Briefwechsel zwischen Flacius und Nidbruck. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des
Protestantismus in Österreich. Wien. XVII. Jahrgang (1896). S. 1-24, XVIII. Jahrgang (1897). S. 201-238; XIX.
Jahrgang (1898). S. 96-110; XX. Jahrgang (1899). S. 83-116; Bibl V. Nidbruck und Tanner. Ein Beitrag zur
Entstehungsgeschichte der Magdeburger Centurien und zur Charakteristik König Maximilians II. Wien, 1898. 52 c.
13
языка Георгом Таннером, освещавшая некоторые аспекты работы над проектом
«Центурий».
Одновременно с Библом над темой работал прусский учитель истории Эрнст
Шаумкелль. Выходец из Мекленбурга, Шаумкелль учился в Лейпциге и Тюбингене,
однако закончил Ростокский университет. В середине 90-х годов он приступил к сбору
источников в венских архивах, а также в хранилищах Регенсбруга, Мюнхена и ряда
других германских городов. Особой заслугой его стало обращение к материалам севрных
городов Ваймара и Шверина, благодаря которым он сумел осветить последний этап
работы над «Центуриями». Осуществлѐнная им публикация11, в которой он ограничился в
основном пересказом найденных им источников своими словами, планировалась как
анонс готовившейся к публикации в ближайшем будущем книги об источниках и методах
работы «Магдебургских центурий». К сожалению, этот план так и не был реализован; мы
не знаем о причинах такого решения, однако известно, что Э. Шаумкелль в дальнейшем
опубликовал
несколько
менее
масштабных
монографических
исследований
на
богословские темы, стал автором общей работы о немецкой «культурной историографии»
и выступал в различных научных дискуссиях. К «Центуриям» он более не возвращался.
Традиция публикации источников, касавшихся метода и техники работы над
«Магдебургскими центуриями», получила развитие и в дальнейшем 12. Для Карла
Шоттенлоэра эта работа стала началом глубокого интереса к книжной истории XVI века;
долгие годы впоследствии он разрабатывал эту проблематику и выступил с рядом
блестящих монографий13. После публикации 1969 года это направление работы было на
долгие годы свѐрнуто; его возобновил в начале 2010-х годов работавший в Библиотеке
герцога Августа (Вольфенбюттель) Харальд Болбук, который в соавторстве с К.
Нарендорфом и И.-Х. Ралле подготовил в 2012 году очень обширную электронную
публикацию документов14. В неѐ вошли 154 документа 1552-68 годов, изданные как
факсимиле и расшифрованные для удобства исследования. Среди них – не только
переписка, но и экспертные заключения, инструкции для членов авторского коллектива,
11
Schaumkell E. Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Magdeburger Centurien. Ludwigslust, 1898. 58 с.
Schottenloher K. Handschriftenschätze zu Regensburg im Dienste der Zenturiatoren (1554-1562). In: Zentralblatt
für Bibliothekswesen. XXXIV. Jahrgang (1917), S. 67-82; Strecker K. Quellen des Flacius Illyricus. In: Zeitschrift
für deutsches Altertum und Deutsche Literatur. 66. Band, 1. H. (1929), S. 65-67; Duch A. Eine verlorene
Handschrift der Schriften Bernos von Reichenau in den Magdeburger Centurien. In: Zeitschrift für
Kirchengeschichte, LIII. Band, (1934), S. 417-435; Steinmann M. Aus dem Briefwechsel des Basler Buchdruckers
Johannes Oporinus. In: Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 69 (1969). S. 103-203.
13
Schottenloher K. Buchdrucker als neuer Berufsstand des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Mainz, 1935.
36 c.; Das alte Buch. Berlin, 1921. 437 c.; Die Widmungsvorrede im Buch des 16. Jahrhunderts. Aschendorf,
Münster, 1953. 274 c.; Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschrifttum. 2 Bde,
Klinkhardt und Bierman, München, 1985. 496 c.
12
14
URL: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=edoc/ed000086 (дата обращения: 15.03.2015).
14
расписки в получении книг, разного рода свидетельства и проч. Эта публикация, ее
достижения и новые перспективы исследования были освещены в семинаре «Люди и
тексты» (Институт Всеобщей истории РАН, руководитель д. и. н. М. С. Бобкова) в декабре
2013 года на заседании «Протестантская интеллектуальная среда в переписке авторов и
издателей «Магдебургских Центурий»15.
По мере того как значение «Магдебургских центурий» вырисовывалось как
определяющее, возникла потребность в изучении не только сопровождавших работу их
авторов документов, но и других сочинений руководителя этого проекта Матиаса Флация
Иллирика. Библиография его трудов насчитывает более сотни текстов; точное количество
написанных им книг, памфлетов, брошюр, речей и т. д. до сих пор не подсчитано.
Некоторые его сочинения напрямую свидетельствуют о разработке исторической
концепции (в особенности «Каталог свидетелей истины») и о сопровождавшей работу
острой полемике вокруг проекта. Не все эти работы носят характер исторических
исследований и могут быть отнесены к жанру историографии, однако их важность для
реконструкции хода работы, некоторых важных характеристик мира исторической науки
не подлежит никакому сомнению.
При подборе источников соображения «новаторства» того или иного автора играли
второстепенную
роль.
Конечно,
текст,
подвергшийся
наиболее
тщательному
исследованию («Магдебургские центурии»), занял центральное место в работе благодаря
новаторству его авторов в самых различных аспектах
– от глобальной концепции,
количества источников до организации труда и оригинального метода экспозиции. В то
же время представилось важным осветить также работы, имевшие наибольшее прямое
воздействие на читательские массы – пользовавшиеся популярностью, неоднократно
переиздаваемые тексты, не содержавшие каких-либо откровений, однако чѐтко
формулирующие наиболее широко распространѐнные представления о церковной
истории. Это относится, в первую очередь, к работам Х. Эгенольфа, В. Айзенграйна и
некоторых других авторов. Обработанная Меланхтоном «Хроника Кариона» имеет в
данной работе второстепенное значение, поскольку она носила явно вторичный характер
по отношению к текстам, появившимся в печати немногим ранее. Эти тексты, в свою
очередь, были подвергнуты полноценному изучению.
При проведении настоящего исследования автору постоянно приходилось ходить
вдоль тонкой (и не всегда различимой) грани, отделяющей церковную историю от ряда
смежных богословских дисциплин. Мы сознательно избегали как необходимости
высказываться по богословским вопросам, так и определения «правых» и «виноватых» в
15
URL: https://www.youtube.com/watch?v=mEhSvrVClms (дата обращения: 15.03.2015).
15
межконфессиональной полемике: в совокупности различных своих составляющих она
должна изучаться специалистами по истории религии. Тем не менее, тексты
богословского характера пришлось взять в работу в тех случаях, когда они претендовали
на «историчность» аргументации, направленной против чисто исторических тезисов
идеологического противника. Это относится, например, к таким авторам, как Томмазо
Кампеджи, Пѐтр Канизий и Франсиско Торрес. Тексты одного из крупнейших
представителей Второй Схоластики Мельчора Кано были привлечены в качестве
источника, характеризующего так называемый «локальный метод». Этот метод лѐг в
основу историко-церковного диспута и использовавшийся как католической, так и
лютеранской партией. Работы Томмазо Кампеджи стали иллюстрацией применения этого
метода «в чистом виде», без аберраций, вызванных «Центуриями» и методологическими
достижениями оппонентов-лютеран.
Цитирование книг и других печатных изданий XVI века имеет ряд особенностей.
Главным отличием печатного текста той эпохи от нынешних является наличие под одной
обложкой нескольких систем пагинации или частичное (иногда – даже полное) еѐ
отсутствие. Страницы предисловий, введений, посвятительных писем могут быть
пронумерованы греческими буквами, комбинацией из букв и цифр, специальными
символами (необходимыми не для ссылок на текст, а для удобства переплѐтчика, часто не
владевшего языком книги и не имевшего возможности другим способом сложить
страницы по порядку). Часто в паратексте (или лишь в части его) пагинация отсутствует
вообще; в тексте нумерация страниц может быть заменена на нумерацию колонок (в
частности, в «Магдебургских центуриях» и в майнцском издании «Церковных анналов»).
Во всех этих случаях мы при оформлении сносок пользуемся той системой, которую нам
предлагает источник: при наличии необычной для нас пагинации мы воспроизводим еѐ,
при отсутствии ставим значок n. n. (non numeratae), при нумерации листов – указания на
сторону листа r (recto) или v (verso). Полное отсутствие пагинации, как правило,
наблюдается в текстах совсем небольшого объѐма и лишь незначительно затрудняет
ориентирование в тексте источника.
Обилие сносок на основные источники – «Магдебургские центурии» и «Церковные
анналы» - требует от нас введения специальных обозначений. Знаком EH в сносках мы
обозначаем «Магдебургские центурии» (далее том, причѐм первый делится на две части –
1.1 и 1.2, а за ним – колонка текста), а знаком AER, AEM и AET – соответственно первое,
последнее прижизненное и самое последнее издания «Церковных анналов»16. Большая
16
[AER] (Baronii C.) Annales Ecclesiastici. Romae, 1588-1607 (12 vv.); [AEM] Annales ecclesiastici auctore
Caesare Baronio sorano ex Congregatione Oratorii S. R. E. Presbytero... Moguntiae, 1601-1608 (12 vv.); [AET]
16
часть сносок на «Анналы» сделаны по последнему прижизненному (майнцскому) изданию
(AEM). 1-9 тома его были опубликованы в 1601году, 10 – в 1603, 11 – в 1606, и лишь 12
том – после смерти автора, в 1608 году.
Помимо сочинений историков, были привлечены также тексты других жанров.
Прежде всего, это памфлеты и другая полемическая литература, воссоздающая процесс
работы над «Магдебургскими центуриями», конфликт между идеологами этого труда
Меланхтоном и Флацием Иллириком. Эмоциональные и хлѐсткие, написанные
замечательной латынью тексты сопровождали и выход крупных сочинений; некоторые из
них сопровождали выход сочинения и должны были усиливать произведѐнный ими
разрушительный эффект в стане врага. Архивный элемент источниковой базы данной
работы представлен перепиской Флация Иллирика с единомышленниками, спонсорами,
членами авторского коллектива, представителями властей, агентами и другими
персонажами. Некоторая часть источников данной работы не была опубликована. С
неопубликованными источниками удалось поработать в Библиотеке герцога Августа в г.
Вольфенбюттель (ФРГ). Там же были обнаружены и черновики томов «Центурий», так и
не вышедших в печати. Эти черновики обычно остаются в тени посвященных этой книге
исследований; тем интереснее было с ними работать.
Библиотека герцога Августа (Herzog August Bibliothek) представляет собой
уникальное явление как средоточие опубликованных и рукописных источников по
церковной историографии, как и по множеству других дисциплин от истории музыки до
картографии Раннего Нового времени. 5 апреля 1572 года герцог Юлий БрауншвейгЛюнебургский издал указ (т.наз. Liberey-Ordnung) об организации из своего личного
собрания книг официальной библиотеки. Этот акт поставил точку в долгой истории,
которая началась ещѐ в 1550 году. 22-летний Юлий (третий сын правящего герцога
Генриха Младшего) уже начал церковную карьеру и служил каноником в Кѐльне. Его
высокое происхождение многое ему позволяло, и в поисках новых книг он отправился во
Францию. Некоторые приобретѐнные им там издания заложили основу великолепной
библиотеки, являющейся сегодня одной из крупнейших в мире по XVI и XVII веку.
Несмотря на удалѐнность от мирских забот (он был младшим сыном в аристократическом
семействе), молодой человек интересовался историями старинных рыцарей и античных
героев – это следует из перечня сохранившихся до сих пор парижских покупок. В 1553
году два старших брата Юлия погибли в сражении при Зиверсхаузене, и Юлию пришлось
Caesaris S. R. E. Card. Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Congregationis Oratorii Presbyterorum Annales
ecclesiastici deuo excusi et ad nostra usque tempora perducti ab Augustino Theiner. Parisiis-Bruxellis, 1864-1883
(37 vv.).
17
неожиданно перейти с религиозной на светскую политическую стезю. Юлий склонялся к
лютеранству, в то время как его отец был одним из лидеров противоположного лагеря в
политической верхушке Германии. Последовавшее примирение отца с сыном было
отмечено в 1567 году приобретением крупной частной библиотеки нюрнбергского
синдика и некоторых других. С этого момента можно сказать, что собирание книг стало
целенаправленным занятием наследника престола. В 1568 году Юлий занял престол
герцогства; одним из первых указов он ввѐл на своей территории Реформацию.
Секуляризация монастырей способствовала резкому росту книжной коллекции герцога;
монастырские книги (а среди них – подлинные сокровища) свозились в столицу со всех
окраин. По указу 1572 года был учреждѐн штат библиотеки, началась работа по
систематизации книг и составлению каталогов. Доступ в библиотеку был возможен
только по личному разрешению герцога; регламентировалось не только поведение
пользователей, но даже «дресс-код».
Сын и наследник Юлия герцог Генрих Юлий выкупил не только все книги,
оставшиеся во владении вдовы Флация, но и манускрипты, письма, разные бумаги, даже
счета и обрывки черновиков – весь архив, впоследствии каталогизированный и собранный
в отдельные дела. Большая часть писем из этого архива, касающихся «Центурий», попала
в упомянутую выше Интернет-публикацию Х. Болбука; в этих папках имеется и
обширный материал, никогда ранее не исследовавшийся историками.
400-летняя история библиотеки изобиловала периодами расцвета и кризиса. Один
из взлѐтов пришѐлся на время правления герцога Августа Младшего (1635-1666). Герцог
не только собрал колоссальную коллекцию, к концу его правления насчитывавшую
135 000 названий (эта библиотека была одной из крупнейших в мире и значительно
превосходила все частные и большинство монарших собраний). Он также занимался
каталогизацией книг и даже изобрѐл особый поворотный механизм на шестерѐнках,
позволявший перемещать столы с раскрытыми на них каталожными книгами для удобства
библиотекаря! В 1691-1716 годах библиотекой руководил Г. В. Лейбниц, а в 1770-1781 –
Г. Э. Лессинг. Худшим моментом в жизни этой библиотеки была эпоха французского
господства – французские учѐные отобрали три с половиной сотни наиболее ценных
инкунабулов, рукописей и первоизданий; не все они были возвращены в 1815 году.
Библиотеке несказанно повезло в годы Второй мировой войны – на деревянное здание в
центре города не упало ни одной бомбы! Сегодня эта библиотека является не только
богатейшим
предоставляет
книжным
собранием,
превосходные
литературоведов,
музейных
но
условия
и
крупным
для
работы
работников,
исследовательским
и
музыковедов,
для
общения
проводит
центром,
историков,
многочисленные
18
конференции и выставки, а также концерты и другие мероприятия. Работа в этой
библиотеке позволила не только значительно расширить источниковую базу (в отношении
как изданных книг, так и рукописей), но и установить контакты с коллегами, изучающими
церковную историографию XVI века.
Может сложиться впечатление, что источниковая база данной работы представляет
итало-германский ареал. Действительно, ряд крупнейших историков церкви являются
выходцами из итальянских или германских государств. Так сложилось, что католическая
сторона в межконфессиональной полемике была по большей части представлена
итальянцами, а протестантская – немцами. В частности, почти полностью немецким был
авторский коллектив «Магдебургских центурий». Нам всѐ же представляется, что вопрос
национальности не имеет большого значения. В частности, в нашей работе встречаются
такие
элементы
германского
мира
XVI
века,
как
Страсбург,
Прибалтика,
западнославянские земли. Биография Флация Иллирика служит примером того, как
человек из-за своих религиозных убеждений переходил из итальянской культурной среды
в немецкую; такой пример не был единичным. Как бы то ни было, в работе представлены
и труды французских, испанских и голландских писателей, участвовавших в общей для
всех европейских церковных историков межконфессиональной полемике.
Хронологические рамки исследования. Помещѐнный в название работы XVI век
понимается в данной работе особенным образом. Сюжет работы начинается с
пробуждения интереса к церковной истории в результате проповеди Мартина Лютера и
последовавших событий в религии и политике. Ясно поэтому, что первые годы столетия
несколько выпали из композиции, поскольку сочинения по церковной истории 1500-1525
годов не отличались массовостью, не содержали в подавляющем большинстве цельных
концепций и были повторением давно устоявшихся точек зрения и католической
церковной доктрины. Церковно-исторические истоки взглядов М. Лютера – это сюжет
специальных исследований; эту работу, видимо, ведут сейчас ведущие учѐные Германии и
США (в частности, группа Т. Кауфманна в Гѐттингене, С. Хендрикс и другие
представители школы Х. Обермана в Аризоне и других университетских центрах США).
Нас интересовал прогресс в историографии, простимулированный идеологическими,
политическими и конфессиональными сдвигами, а не «зарождение идей».
С
другой
стороны,
конец
XVI
столетия
ознаменовался
значительными
достижениями католической партии. Величайшим из них (как по объѐму, так и по
произведѐнному эффекту) стали «Церковные анналы» кардинала Чезаре Баронио,
выходившие с 1588 по 1607 год. Хронологически они принадлежат как XVI, так и XVII
столетию; тематически, бесспорно, они стали точкой отсчѐта для нового витка эволюции
19
истории как науки, объектом сравнения для всех последующих крупных работ от
болландистских
«Деяний
святых» до
шедевров
бенедиктинской
историографии.
«Церковные анналы» лишь в некоторой степени были «ответом» на «Магдебургские
центурии»; отчасти этот ответ уже был дан в лучших работах историков-католиков
предшествующего периода. «Анналы» были построены не на «противоположных» ответах
на поставленные центуриаторами
вопросы, а
на самостоятельной, масштабной
реконструкции, на ином экспозиционном и композиционном принципе, на ином методе.
Наконец, Баронио всячески избегал «программного» противопоставления своей книги
книге Флация и его товарищей, предлагая внешне абсолютно не зависимую от
политических страстей картину. Все эти соображения уполномочивают нас, тщательно
изучив католический «ответ» до «Церковных анналов», ограничиться довольно
серьѐзным, но несколько менее детальным анализом сочинения Баронио по сравнению с
анализом «Центурий».
Цели и задачи исследования. Цель настоящей работы заключается в том, чтобы,
изучив наиболее значимые произведения западноевропейской церковной историографии
XVI века, обстоятельства их появления в печати, общегуманитарный, политический и
религиозный подтекст, а также вызванный ими резонанс, выявить и оценить прогресс,
достигнутый церковной историографией этого периода в области философии истории,
методологии и техники исторического исследования, приемов сбора источников и работы
с ними. Для решения данной цели формулируются следующие задачи:
рассмотреть сложившуюся к началу межконфессиональной дискуссии
традицию церковной историографии в достижениях историков-гуманистов, философов,
богословов; исследовать и описать «локальный метод», примеры его применения вне
межконфессиональной дискуссии;
определить процессы, приведшие к значительному оживлению историко-
церковной дискуссии в начале межконфессиональной дискуссии, а также к началу
систематического привлечения исторического материала для критики практик римской
церкви;
изучить объективную необходимость и практическую реализацию замысла
«Центурий», конкретное его воплощение; с этой целью необходимо изучить деятельность
М. Флация Иллирика и ряда его единомышленников, процесс формирования лютеранской
историко-церковной доктрины, в том числе – в ряде ранних публикаций 1550-х годов;
всесторонне исследовать «Магдебургские центурии» - важнейший труд
лютеранской церковной историографии, поворотный пункт эволюции историографии XVI
20
века в самом широком плане; для этого необходимо оценить метод подбора источников и
обработки предложенных ими сведений, принципы систематизации полученных
материалов,
классификации
исторического
знания,
композиционные
решения,
географический кругозор, критерии оценки представителей различных социальных групп,
языковую и эрудитскую подготовку авторов в области Священного Писания, древних
языков, античной и средневековой истории, а также – в самых общих чертах – в наиболее
актуальных аспектах богословия;
оценить новаторство «Центурий» в вышеописанных сферах, изучив также
неопубликованные черновые материалы и переписку участников проекта для определения
нереализованных перспектив;
изучить
систематизировать
католический
«ответ»
«антимагдебургскую»
«Центуриям»,
литературу,
и
с
предложить
этой
целью
периодизацию
«ответа», определить наиболее характерные черты самых резонансных текстов
католического лагеря;
изучить вопрос о полноценности католического «ответа» к концу 1580-х
годов, а также о соответствии «Церковных анналов» Ч. Баронио новым критериям,
выработавшимся в ходе историко-церковной полемики; для этого следует исследовать
«Анналы» и сопоставить результаты исследования с результатом исследования
«Магдебургских центурий»;
наконец, подвести итог стимулам, полученным исторической наукой от
межконфессиональной дискуссии, и достигнутым результатам; оценить прогресс в
области истории церкви, степень сформированности этой сферы знания как особой
отрасли историописания к концу XVI века.
Методологическая основа исследования. Исследование по историографии может
и должно представлять собой комбинацию различных методов, каждый из которых
позволяет подчеркнуть те или иные аспекты эволюции исторического знания в целом и
его составных частей – философии истории, методологии, источниковедения, композиции
произведений и других. Работа основана на принципе объективности и историзма, что
позволяет провести изучение исторических явлений в динамике их развития в контексте
глубокого религиозного конфликта, расколовшего западноевропейское общество в XVI
веке. Проблемно-хронологический метод предполагает рассмотрение отдельных факторов
развития историографии и сопредельных областей гуманитарного знания, сопоставляя их
с развитием общенаучной проблематики в атмосфере глубоких изменений в религиозном
и светском мышлении европейцев. Текстологический и герменевтический анализ
21
источников сочетается с применением некоторых элементов микроисторического
подхода,
позволяющего,
в
частности,
уяснить
функционирование
конкретных
исследовательских приѐмов и технологий.
Научная новизна исследования. Данная работа представляет собой первую на
современном
этапе
попытку
реконструкции
западноевропейской
церковной
историографии XVI века в целом, в которой мы не ограничиваемся отдельными линиями
– католической или протестантской. Это позволяет, во-первых, впервые предложить в
качестве самостоятельного объекта исследования историографию 1530-40-х годов, чаще
всего избегающую очевидного позиционирования в межконфессиональном конфликте, а
также тексты, тематика которых выходит за пределы церковной истории. Во-вторых,
становится возможным не только определить основные этапы генезиса лютеранской
историографии, но и выстроить параллельную (несколько запаздывающую во времени)
структуру для католической; сопоставление (ранее не детально не проводившееся)
позволит увидеть динамику межконфессионального конфликта с новой, ранее не
известной стороны. Наконец, комплексное исследование церковной историографии
Западной Европы позволяет точнее определить еѐ место в структуре гуманитарного
знания XVI века; это позволит в дальнейшем исследовать очень обильную и
разнообразную церковную историографию последующей эпохи не «на пустом месте», а
основываясь на полученных в данной работе результатах. В российской историографии
нет отдельных работ, посвященных западноевропейской церковной историографии XVI
века.
Практическая значимость работы. Содержащийся в работе фактический
материал, выводы и положения могут быть использованы в научно-педагогической
практике в курсе историографии истории церкви, а также в общих курсах по
историографии Раннего Нового Времени, истории культуры, истории отдельных
европейских стран, религиозной истории XVI века. Кроме того, они могут использоваться
при
дальнейшей
разработке
широкого
круга
проблем
истории
Реформации и
Контрреформации, методологии исследования историографии, в частности, методологии
бурно развивающейся в наши дни «Истории чтения» (History of Reading, Histoire de
lecture), а также в комплексных междисциплинарных исследованиях.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
В XVI веке новые религиозные, политические, идеологические факторы
выдвинули в авангард гуманитарных наук церковную историографию. Важность
поднимавшихся в ходе межконфессиональной дискуссии проблем заставляла историков
22
максимально
широко
использовать
лучшие
достижения
исторического
знания
предшествующих эпох (критика источников, филологическая подготовка, хронология), а
также разрабатывать новшества (в основном в области методологии и источниковедения,
а также в систематизации и изложении исторического материала, организации труда
историков и др.). Развитие церковной историографии, вызванное актуализацией еѐ
потенциала в рамках межконфессиональной полемики, повлекло за собой выдвижение
истории на более высокую позицию в иерархии гуманитарных знаний.
2.
Период 1530-40-х годов является важным подготовительным этапом
глубоких перемен в церковной историографии. В эти годы было мобилизовано наследие
предшествующих эпох в области церковной истории: были неоднократно переизданы
классические тексты как позднеантичных историков, так и более поздних эпох. Всплеск
общественного интереса к истории вообще и истории Церкви в частности доказывается
ростом числа публикаций, появлением стереотипных изданий. Появляется литература для
массового читателя, направленная на удовлетворение спроса к сочинениям, не
содержащим
масштабных
концепций,
но
охватывающим
большие
временные
западноевропейской
церковной
промежутки.
3.
Важнейшим
рубежом
в
развитии
историографии была публикация в 1559-74 гг. «Магдебургских центурий». Эта работа
оказалась новаторской в различных смыслах – как концепция, метод сбора и обработки
источников, способ систематизации материала, наконец, как бизнес-проект. Этот труд
стал началом бурной дискуссии, одним из ярчайших событий не только церковной
историографии XVI века, но и историописания вообще. После выхода «Магдебургских
центурий» все последующие работы XVI века по церковной истории определяли свою
конфессиональную
принадлежность,
поддерживая
«Центурии»
или
стремясь
их
опровергнуть.
4.
но
и
«Магдебургские центурии» дали толчок развитию не только протестантской,
католической
церковной
историографии.
Первые
выступления
историков
католического лагеря были составлены «по горячим следам», носили следы спешки и не
содержали масштабных концепций. Позднее подход Курии к межконфессиональной
дискуссии был пересмотрен. В середине 1560-х годов католическая церковная
историография вышла на качественно более высокий уровень, хотя в значительной мере
сохранила преемственность с предшествующей традицией. Труды П. Канизия, Ф. Торреса
и некоторых других историков служили достойным ответом «Магдебургским центуриям»
в отдельных важных частях общей церковно-исторической концепции.
23
5.
Новым рубежом в церковной историографии стало издание «Церковных
анналов» (1588-1607) кардинала Ч. Баронио. Многотомный труд сыграл не меньшую по
сравнению с «Центуриями» роль в становлении истории как науки и воплотил в себе все
лучшие результаты гуманитарных наук своего времени. После выхода «Церковных
анналов» инициатива в межконфессиональной полемике в историографии переходит к
католической партии.
Апробация исследования. Основные положения работы были изложены автором
в монографиях «У истоков итальянского Просвещения: Пьетро Джанноне» (М., 2000, 18 п.
л.), «Джузеппе Мадзини: молодые годы» (СПб., 2009, 22 п. л.), на международных и
всероссийских конференциях (в том числе Форли 1999, Венеция 2001, Аоста 2012, СанХуан 2013, Нью-Орлеан 2014, Лѐвен 2015), а также в 32 научной публикации объѐмом
свыше 27 п. л., в том числе в 16 научных публикациях (около 14 п. л.), изданных в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, входящих в перечень ВАК РФ
(всего соискатель имеет 67 печатных работ). Работа была обсуждена на кафедре
итальянского языка, а также на кафедре новой и новейшей истории стран Европы и
Америки МГУ имени М. В. Ломоносова.
Обзор историографии. Проблематика данной работы затрагивает различные
научные дисциплины (историография, история культуры, история религии, история
отдельных стран и др.). Из всего огромного наследия историков, занимавшихся этими
проблемами применительно к западноевропейской церковной историографии XVI века,
мы представим основные работы, условно разделив их по внешнему принципу на общие
труды (помещающие затронутые в работе сюжеты в широкий историко-религиозный или
историографический контекст) и другие, делящиеся, в свою очередь, на лютеранскую и
католическую традицию. В самом деле, если на начальном этапе изучение церковной
историографии одного из направлений обязательно сопровождалось осуждением другой,
то в дальнейшем в исторической практике сложилось более спокойное и объективное
обсуждение, при котором, однако, исследователи избегали говорить о достижениях и
неудачах противников, оставляя эту тему своим оппонентам из противоположного лагеря.
Общие работы по историографии, освещавшие историко-церковную проблематику, а
также специально посвящѐнные церковной истории работы стимулировали появление
работ внутри конфессиональных «полей», подчас задавая тон и определяя круг
обсуждаемых вопросов.
24
Конфессионально-политическая ангажированность темы сошла на нет лишь в
начале XIX века; более ранние работы17 не преследовали цели объективного
исследования. Становление ранкеанской философии истории наложило глубокий
отпечаток на развитие исторической мысли в самых различных сферах, и церковная
историография не стала исключением. Первым проявлением новой философии истории
стал справочник «История и литература по церковной истории» К. Ф. Штойдлина,
изданный посмертно под редакцией Й. Т. Хемзена18. Этот объѐмный труд очень
плодовитого
автора
установил
некоторые
нормы,
традиционно
разделявшиеся
практически во всех компендиумах по церковной историографии. Во-первых, изучение еѐ
начиналось с новозаветных текстов, затем охватывало всѐ церковно-историческую
традицию от ранних Отцов церкви. На материале XVI века общая линия повествования
уступает место трѐм «параллельным» (лютеранской, реформистской и католической
церковно-историческим традициям). Заметно, что Штойдлин более глубоко изучал тексты
XVII-XVIII веков; время Реформации воспринималось им как своего рода пролог более
интенсивной полемики по частным вопросам. Развитием ряда идей этой книги стала
работа Ф. Х. Баура «Эпохи церковной историографии»19, сыгравшая важную роль в
переходе от изучения собственной конфессиональной традиции к более широкому
взгляду, более конструктивному диалогу между историками двух разных конфессий.
Не случайно этот поворот произошел в Германии. Ведущая роль немецкой
историографии церковной истории отмечалась ещѐ в XIX веке. Так, проф. А. П. Лебедев
отмечал: «Во главе научного движения в области церковной истории настоящего
столетия, без сомнения, стоит протестантская наука германская»20. Причина этому
виделась русскому исследователю в объективных достоинствах сочинений немецких
коллег, «возбуждающих самый живой интерес, затрагивающих самые глубокие задачи»21.
Конечно, с высоты сегодняшнего знания мы можем определить гораздо более
систематические и закономерные причины ведущей роли немецкой (совершенно
необязательно, кстати, протестантской) историографии церковной истории. Именно здесь,
в Германии, церковная историография сумела пройти путь от борьбы с идеологическим
противником к диалогу с ним, а затем – и к секуляризации дискурса и научной
дисциплины в целом. В работах немецких (а также австрийских и швейцарских), а затем –
и американских историков история церкви всѐ более и более систематически
17
Г. Арнольд, Я. и С. Базнаж, Н. Александр, К. Флѐри, П. Джанноне и множество менее известных авторов.
Stäudlin C. F. Geschichte und Literatur der Kirchengeschichte. J. T. Hemsen (Hrg.), Hannover, Verl. der
Hahnschen Hofbuchhandlung, 1827. 376 c.
19
Baur F. Ch. Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen, 1852. 310 c.
20
Лебедев А. П. Церковная историография … . C. 201.
21
Там же.
18
25
представлялась важнейшей частью общего научного процесса. В связи с этим разумным
представляется изучение данной «надконфессиональной» традиции изучения истории
церкви как отдельного направления. Это направление наполнилось глубоким научным
содержанием, полностью (или, по крайней мере, в основном) освободившись от
конфессиональных предпочтений.
Другой
важной
причиной
немецкоязычного
«перекоса»
в
церковной
историографии, рассматривающей как протестантскую, так и католическую компоненты
общенаучного диалога, является научная веротерпимость, ставшая нормой в германских
университетах уже в XVIII веке. Общенациональные университеты поощряли развитие
«обеих теологий», и наличие двух школ богословия под одной университетской крышей
стало нормой. Впоследствии, уже в ХХ столетии, подобная причина стимулирует
развитие церковной историографии в США; впрочем, там она не станет отдельной
дисциплиной, а будет более или менее успешно инкорпорирована в более широкие
общенаучные концепции.
Наконец, следует отметить и тот факт, что католическая церковь довольно
эффективно контролировала церковное книгопечатание на оставшихся подконтрольными
после Реформации территориях. По этой причине невозможно представить себе, к
примеру,
свободную
от
католических
симпатий
итальянскую
национальную
историографию церкви (исключением могут считаться сравнительно немногочисленные
работы
по
истории
итальянского
протестантизма,
но
и
они,
конечно,
будут
конфессионально окрашены). Тот факт, что лютеранство так и не конституировало
единую внешнюю структуру, неожиданно позитивно сказался на судьбах церковноисторической науки: учѐные оказались свободны от институциональных рамок, от
идеологического контроля со стороны церковных и даже светских властей. Немецкие
учѐные XVIII-XIX веков, в отличие от своих коллег в других странах, имели полную
возможность сопоставлять католическую и протестантскую историографию и были
совершенно свободны от заранее определѐнных критериев или оценок.
Концепции Ф. Х. Баура мы уделим относительно больше внимания потому, что
именно в «Эпохах церковной историографии» была сформулирована основная научная
проблема
вокруг
«Магдебургских
Центурий»,
«Церковных
анналов»
и
других
современных им католических и протестантских исторических сочинений, а также даны
ответы на важнейшие научные вопросы. Считается, что деятельность Ф. Х. Баура и в
особенности подготовка «Эпох христианской историографии» заложила основы так
26
называемой «новотюбингенской школы», характерной для которой является, прежде
всего, концепция раннехристианской истории22.
Согласно
концепции
Баура,
период
расцвета
позднеантичной
церковной
историографии, связанный с именами Евсевия и его ближайших последователей (главным
образом греческих), а также средневековых продолжателей (в основном латинских),
сменился глубоким застоем, из которого церковную историографию как воспринимаемую
самостоятельно научную дисциплину вывела публикация «Магдебургских Центурий».
Реакция на эту публикацию, последовавшая как с католической, так и с протестантской
стороны,
способствовала
резкому
оживлению
диалога.
В
дальнейшем
идейное
противостояние сменяется «понятием исторического развития», то есть, говоря
сегодняшним
языком,
восприятием
церковно-исторической
науки
как
процесса
диалектического взаимовлияния сторон – о полном приятии точек зрения, конечно, речи
быть не может. Тем временем инициатива постепенно переходит к германским историкам,
и в дальнейшем Баур, находившийся в несомненной идейной связи со своими немецкими
предшественниками, постепенно отождествляет развитие общехристианского диалога с
происходящим в рамках немецкоязычного научного дискурса. Это существенно обедняет
общую картину (Баур не упоминает ни о Боссюэ, ни о Тильмоне, ни о Флѐри), тем более
что среди представленных пост-реформационных историков доминируют лютеране.
Своей концепцией Баур сумел подняться над чередой сочинений по истории
церкви, а за полемикой между протестантами и католиками разглядеть нечто более
существенное – сложную взаимосвязь между субъектом и объектом исторического
познания. Важный для новотюбингенской школы процесс приближения к исторической
реальности в сфере церковной истории имеет ряд своеобразных черт. Прежде всего, Баур
сам уклонился от признания правоты той или иной стороны в конфликте; для него нет
правых и виноватых, выделен объективный критерий наступления той или иной «эпохи»,
хотя его объективность и требует некоторых оговорок. В то же время, необходимость
выработки общего критерия для всей церковной истории вынужденно требует
упрощений; этот критерий «работает» только в том случае, если при его формулировании
пренебречь значительной частью индивидуальных особенностей этих «эпох», оставив
только наиболее осязаемые. Это означает, что
отдельным эпохам может быть дана
характеристика, выделяющая еѐ среди других, тем не менее, недостаточно глубокая для
выяснения еѐ собственных особенностей. Отдельно следует отметить и некоторое
22
Отличительные особенности еѐ – признание различных тенденций в учении Апостолов Петра и Павла, а
также иудео-христианства, важнейшими факторами формирования догмы. Традиционным для этой школы
является также отождествление периодов с заслугами наиболее крупных представителей, а также
реконструкция процессов в историографии через биографии основных представителей.
27
пренебрежение
восточным
христианством,
в
особенности
–
восточно-римской
историографией, которую Баур считал недостаточно оригинальной.
При всех этих недостатках Бауру удалось создать действительно впечатляющую
картину. Благодаря тому, что историк не стал подробно останавливаться на
малооригинальных работах, он сумел увидеть и охарактеризовать весь процесс в целом.
Баур представил полную картину церковной историографии «в себе», и дальнейшие
комплексные исследования либо помещали церковную историографию в более широкий
контекст, либо использовали для описания методологические достижения более поздних
этапов развития исторического познания.
Концепция Баура отталкивается от двоякого понимания истории – как объективно
происшедшего и субъективного знания о происшедшем. Историческое познание, по
мнению историка, вообще возможно только в отношении тех событий, которые являются
достаточно исторически значимыми «для непреходящего знания потомков»23. Между
временем события и временем историка может произойти очень многое, вследствие чего
событие представится историку в непредсказуемо другом свете. Поскольку оценить
реальное отношение «исторического представления», предлагаемого исследователем, к
представляемой им действительности очень сложно, каждое историческое изложение
должно быть сначала подвергнуто критической проверке, целью которой будет
определение соответствия анализируемого исследователя «чистой объективности».
В чѐм же заключается своеобразие церковной истории среди других исторических
сюжетов? Баур отмечает главное, на его взгляд, еѐ свойство. Церковная история – это
довольно легко ощущаемый процесс, который имеет своѐ чѐткое начало. Поскольку
начало определяет весь процесс, отношение историка к этому началу определяет его
общую церковно-историческую концепцию24. Именно в отправном пункте процесса «ясно
и определѐнно» проявляется его «основная идея». Дальнейшие события нанизываются на
стержень, покоящийся на этом отправном пункте, посредством причинно-следственных
связей. Историк является автором «представления», главным достоинством которого
является строгое следование ходу событий; он периодически наталкивается на моменты,
позволяющие себя интерпретировать различными способами. Начальный пункт выступает
своего рода мерилом абсолютной ценности; каждый раз, когда историк испытывает
трудности с толкованием того или иного события, он должен обернуться к нему и
соотнести рассматриваемое им в данный момент событие с ценностями, заложенными в
пресловутом Anfang. Для любой исторической реконструкции необходимо осознание
23
24
Baur F. Ch. Op. cit. S. 1.
Ibid. S. 3-4.
28
основных «принципов» и «движущих идей» описываемого процесса. Историк не может
вступить на путь реконструкции «извне», то есть не начав от истока; чтобы не
заблудиться в череде событий, исследователь, согласно Бауру, должен заранее
определить, какой стороны он будет придерживаться в те моменты, когда надо будет
делать оценочный выбор. Церковь была единой только в самом начале, а затем стала
«раскалываться»; это привело к великому противостоянию между протестантизмом и
католицизмом, а впоследствии – и к возникновению бесчисленных новых течений внутри
протестантского потока, образовалось и огромное количество возможных «отправных
точек» для концепций, укладывающихся, согласно Бауру (с. 5), между крайностями –
«рационализмом» и «супранатурализмом». Противоречие между крайними точками в
какой-то момент было преодолено, и чем более разработанной была предлагавшаяся та
или иная новая концепция, тем дальше она отходила от одной из «врождѐнных» крайних
точек. Обращает Баур внимание и на внутреннюю присущесть христианской теологии
исторической проблематики. Каждая теология исследует «сущность христианства» (das
Wesen des Christenthums), и для этого стремится добраться до источников, описывающих
отдалѐнные исторические события. Само наличие возможности для существования
различных концепций истории христианской церкви стимулирует как можно более
скрупулѐзное исследование источников. Очевидно, Баур признавал за церковной
историографией передовую роль в развитии методологии истории, особенно на том этапе,
на котором историки только разрабатывали первые научные методы работы с
источниками.
Не
каждая
новая
теологическая
система
способна
предложить
самостоятельную историческую концепцию, но поскольку направление движения
историка от начальной точки задано его предпочтениями в выборе источников и методов
работы с ними, по мере приближения к концу своего труда историк вынужденно создаѐт
стройную картину, принимающую на себя черты теологических постулатов, разделяемых
автором. Сколько богословских точек зрения, столько и историко-церковных концепций.
Отсюда следует, что сопоставление этих концепций друг с другом позволяет нащупать
новый процесс, представляющий для историка особую ценность. Каждая новая концепция
является, в свою очередь, отражением каких-то новых исторических реалий, с которыми
должна быть не только идентифицирована, но и соотнесена. Иными словами, концепция
не просто «принадлежит» процессу или моменту в ментальной эволюции человечества, но
«свидетельствует» о нѐм на определѐнном, раннем или позднем, этапе его развития.
Рассмотрение «объективно происшедшего» сквозь призму «субъективного сознания»
историка является главной задачей исторического сочинения, а попытки еѐ решить могут
быть различными; они отражают обстоятельства, характерные для сознания определѐнной
29
эпохи, еѐ сознания (Zeitbewusstsein). Каждая новая «эпоха» сама требует новых,
соответствующих себе исторических концепций. Эти концепции (особенно в поле
церковной истории) не рождаются в одиночку; они возникают группами, отражающими
возможности различных подходов к «принципам», «отправным точкам» и так далее.
Таким образом, они могут быть сгруппированы во времени; это позволит увидеть те
самые «эпохи», по велению которых концепции были рождены, и выстроить их в
хронологическом порядке. Как мы видим, исследование Баура основано на глубоком
методологическом размышлении, имеющем, тем не менее, довольно очевидный уязвимый
пункт. Явно недостаточно оценивается воздействие самих сочинений на сущность той или
иной «эпохи». То, что историк считал «обратным воздействием», на самом деле могло
быть и «прямым». Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что концепция, скажем, Евсевия
Кесарийского (точнее, та концепция, которую принято отождествлять с именем этого
великого историка и в разработке которой на самом деле в не меньшей мере участвовал
целый ряд продолжателей) оказала колоссальное воздействие на историческое сознание
всего христианского мира. Как бы то ни было, подход Баура был, безусловно,
новаторским; он был не только тщательно сформулирован теоретически, но и реализован
на практике написанием весьма фундированного сочинения, придавшего концепции
определѐнную
энциклопедическую
всеохватность.
За
каждым
из
историков,
рассмотренных Бауром, сохраняется право на индивидуальность и самостоятельность;
вынесение
оценки
отдельным
исследователя
базируется
главным
образом
на
профессионализме их обращения с источниками. Баур совершенно не стремится к
описанию всех заслуживающих того работ по церковной истории, отсылая ищущего более
широкой информации читателя к Штойдлину. Своей задачей Баур видит вычленение
поворотных моментов, пресловутых «эпох», «в которые церковная историография
предпринимала более решительные, более настойчивые и всеохватные попытки
выполнить свою задачу» (S. 6).
Следует отметить, что «эпохи», о которых ведѐт речь Баур, совершенно не
обязательно должны соответствовать каким-либо комплексам событий во «внешней
истории». Вслед за великими французскими историками-романтиками Баур вообще
констатирует обратное соответствие между насыщенностью того или иного периода25
событиями и интересом к теоретическому переосмыслению фактов. Церковная история
сама по себе располагает к теоретическому историографическому исследованию: общие
вопросы
исторического
познания,
отношения
исторического
«представления»
к
действительности, методологии исследования и описания сохраняют свою универсальную
25
В терминологии Баура – «времени». Слово Zeit в этой связи приобретает несколько отвлечѐнное значение.
30
ценность, но применяются к несколько менее широкой и более конкретной проблематике.
Эти вопросы приобретают более определѐнное звучание. Кроме того, поскольку
разбираемые
историко-церковной
наукой
вопросы
имели
для
людей
особое
мировоззренческое значение, они сумели привлечь к себе наиболее выдающихся авторов.
Их сочинения носили глубокий индивидуальный отпечаток, и при этом были посвящены,
по
сути,
одним
и
тем
же
вопросам.
Это
обстоятельство
стимулирует
и
историографический интерес к теме, тем более, что к середине XIX века, когда было
написано сочинение Баура, историография как отдельная отрасль исторического знания
находилась в зачаточном состоянии.
Вычленение отдельных «эпох», представлявших собой увиденные под строго
определѐнным углом зрения этапы развития религиозно-исторического сознания западнохристианского мира, заставило Баура отказаться от рассмотрения некоторых сочинений,
не укладывавшихся в его схему. Произведения, о которых Баур ничего не говорит, а также
те, которые он упоминает, но от рассмотрения которых отказывается, либо представляют
собой мало нового с методологической точки зрения (то есть восходят к предшествующей
«эпохе»), либо не отражают перемен в общем мировоззрении, обнаруженных и отчѐтливо
понимаемых историком. Кроме того, постановка проблемы, подразумевающая сюжет
длительной протяжѐнности, так или иначе требует отбора материала. Критерии Баура
однообразны, в своих действиях он достаточно последователен. Благодаря этому
выраженная в книге концепция ясна и прозрачна.
Научное значение «Магдебургских Центурий» Баур видит в закладывании основ
собственно исторического подхода к изучению христианской церкви. Господствовавшая в
католической
церкви
доктрина
представляла
церковь
как
нечто
изначально
существовавшее во всех внешних проявлениях, имевшихся в настоящем, включая
внутрицерковную иерархию, «примат Петра» и прочее. Она воспринималась и
описывалась как нечто вневременное, не подлежащее изменению во времени по причине
своей трансцендентности, материализованный свет Христова учения. Священное
Писание, по мнению идеологов католической церкви, заключало в себе всѐ доктринально
необходимое для существования церкви в той форме, в которой еѐ можно было наблюдать
в реальности. Авторы «Центурий» также обратились к авторитету Писания, воспринимая
его не только как «отправной пункт», но и как модель церкви, образец для сопоставления
с различными историческими эпохами. «Каталог свидетелей истины» 1556 года был
«первым произведением, в котором заложенная Реформацией историческая концепция
была не просто сформулирована, а изложена в исторически обусловленной взаимосвязи»
(с. 42). Постепенно всѐ больше отдаляясь от света Христова учения, церковь
31
сосредоточила в себе всѐ больший «мрак», который будет разогнан светом Реформации, и
благодаря ему Слово Божье воссияет с новой силой. Баур отмечал одно обстоятельство,
вполне применимое и к сегодняшнему дню: огромное значение «Центурий» для церковноисторической науки практически никто не отрицает, но и должного этому сочинению не
воздаѐт (43). В то же время церковно-историческая наука не знает ни одной другой
работы, написанной не только с настолько чѐтким осознанием стоящих перед церковной
историей в целом задач, но и на настолько ясно осознанном и изложенном
методологическом базисе.
Конечно, Баур признаѐт за «Центуриями» и определѐнные недостатки. Это «чисто
внешнее деление по столетиям, ненадѐжность некоторых данных, на которых
основывается концепция, привлечение в качестве источников текстов, которые для этого
непригодны, излишнее дробление и фрагментация материала, которое не только приводит
к многочисленным повторениям, но часто представляет в разрозненном виде то, что
относится к самой сути данного события»26. Отмечается также недостаточный уровень
переработки собранного материала, из-за чего труд становится похож на простое собрание
документов и сведений, не очень важных для церковной истории. В то же время Баур
отмечает и пренебрежение всем тем, чего требуют от исторического произведения
критерии литературной формы.
Следующим
фундаментальное
крупнейшим
исследование
рубежом
церковной
принадлежащего
к
ордену
историографии
миноритов
стало
молодого
исследователя Понтьена Польмана – его магистерская диссертация в Лувенском
Католическом университете (Бельгия) «Исторический элемент в религиозном споре XVI
века»27. Ни некоторая схематичность концепции и особенно экспозиции автора, ни его
принадлежность к католической партии не могут заслонитьот нас безусловных заслуг
Польмана, заключающихся в первую очередь в определении церковной историографии
XVI столетия как самодостаточного, заслуживающего самого глубокого изучения сюжета.
Исследование состоит из двух частей. В первой Польман разбирает «исторический
элемент в полемических трудах протестантов» и ведет его начало от идей Лютера,
Меланхтона, Цвинли, Эколампада и Кальвина. Во второй главе этого раздела предлагается
интересная в ряде частных утверждений, но всѐ же довольно спорная «сумма» идей
протестантов; в следующей главе «синтез материалов» представляет собой описание
«Магдебургских центурий» (также сравнительно краткое, 20 страниц) и некоторых других
26
Baur F. Op. cit. S. 45.
Polman P. L’Élément Historique dans la Controverse religieuse du XVIe siècle. Gembloux, J. Duculot, 1932.
580c.
27
32
текстов. Любопытный (хотя также спорный) вывод относительно исчезновения интереса
лютеранских богословов к историческому элементу межконфессиональной полемики в
1570-1630 годах завершает эту часть работы.
Вторая часть книги более богата материалом (чего, в общем, вполне можно
ожидать от автора-католика). Польман обнаруживает, помимо прочего, блестящее
владение богословским инструментарием, однако его внимание к диахронии, к
исторической динамике значительно уступает. И в этой части историография не только
является вторичной по отношению к догме, но и исследуется отталкиваясь от последней.
«Синтезом материалов» здесь выступают «Церковные анналы» Чезаре Баронио – труд,
представленный как во многих аспектах симметричный «Центуриям», но всѐ же
значительно их превосходящий.
Несмотря на явную схематичность и даже ангажированность концепции, книга
Польмана очень хороша. Экспозиция сначала общих черт историко-церковных сочинений
(отдельно по конфессиям), последующее их синтезирование делает книгу понятной и
несложной в чтении. В оборот были включены сотни источников, их список отличается
сугубой полнотой, как и список научной литературы. Ясное формулирование догм, их
фундаментальных различий, а также того, как они сказались на подходе к исследованию
исторических проблем, стали отличной помощью в нашей работе. Недостаток книги
Польмана заключается, на наш взгляд, в поспешных выводах. Складывается впечатление,
что превосходство Барония обусловлено не тем, что он работал позже, учѐл недостатки
противника, иначе подошѐл к делу, не отвлекался и т. д., а тем, что его труд основан на
более «здоровых» догматических постулатах. Конечно, Польман был вынужден
соблюдать правила игры и, несмотря на это, создал великолепный труд, но его выводы
заслуживают пересмотра, в том числе и из-за того, что за истекшие 80 с лишним лет
исследования по церковной историографии сделали не один существенный шаг вперѐд.
Другой серьѐзный недостаток книги Польмана заключался в том, что он очень
плотно привязал историографию к истории догмы. Тем самым он сделал совершенно
невозможным вынесение никакого суждения об историографической ценности вне
межконфессиональной полемики; элементы «научного» скрылись под элементами
«догматического».
Вскоре после глубокого эрудитского сочинения П. Польмана вышла книга
цюрихского профессора Вальтера Нигга28 (1903-88), во многом возрождающая на новом
этапе основные элементы концепции Ф. Х. Баура. Точно так же первым поворотным
28
Nigg W. Die Kirchengeschichtsschreibung. Grundzüge ihrer historischen Entwicklung. München, C. H. Beck,
1934.271 c.
33
пунктом церковной историографии предстаѐт Евсевий Кесарийский, точно так же между
его ближайшими эпигонами и «Магдебургскими центуриями» лежит целая пропасть
молчания. Нигг придал
концепции
Баура, во-первых, краткость, а во-вторых,
универсальность (распространив еѐ на более позднюю по сравнению с Бауром эпоху).
Нигг, как и Баур, отождествлял этапы в развитии церковной историографии с
деятельностью отдельных людей. Всем крупным этапам, помимо отдельных ярких
представителей, присваивалось прилагательное, призванное облегчить включение того
или иного периода в простую и понятную общую схему. Так, эпоха Евсевия и его
ближайших последователей названа «мифической историографией Церкви», время
«Центурий» и «Анналов» - «конфессиональной», а сам Фердинанд Христиан Баур стал
единственным (наиболее типичным) представителем «идеалистической церковной
историографии». При всей поверхностности таких определений они облегчали восприятие
концепции в целом, и это было заметным преимуществом книги, обеспечивающим
живучесть еѐ концепции среди молодѐжи. По сравнению с Бауром и другими
обобщающими трудами по историографии в книге Нигга гораздо меньше догматических и
философских рассуждений, что способствовало популярности книги и еѐ длительному
использованию в университетской практике.
Среди крупнейших учѐных, исследовавших межконфессиональную полемику в
церковной историографии с обеих сторон, следует особо отметить Ирену Баккус,
профессора
Женевского
университета
(Институт
истории
Реформации),
автора
многочисленных публикаций, охватывающих историю восприятия христианских идей от
ранних Отцов церкви до Г. В. Лейбница. Среди еѐ трудов важное место занимают
сюжеты, связанные с интерпретацией идей раннего христианства в XVI веке, а значит, и с
церковной историографией. В 2001 годы под еѐ редакцией был выпущен объѐмный
двухтомник, посвящѐнный наследию Отцов в христианской мысли от Каролингской эпохи
до трудов Мавристской конгрегации ордена бенедиктинцев29. Новаторский подход всего
научного творчества Ирены Баккус заключается в выходе далеко за пределы
противопоставления лютеранской и католической исторической мысли – две дюжины
крупнейших европейских и американских исследователей под еѐ руководством создали
прецедент изучения под одним углом зрения всего широкого спектра христианских
течений и идеологий на протяжении всего Средневековья и Раннего Нового Времени.
Кроме того, ведущим учѐным удалось избежать малейших попыток неплодотворного
сравнения с определением «верных» и «ошибочных», «магистральных» или «боковых»
29
Backus I. (ed.) The Reception of the Church Fathers in the West from the Carolingians to the Maurists. V. 1-2,
Brill, Boston-Leiden, 2001. 1078 c.
34
путей в пользу максимального разнообразия, в пользу картины многостороннего диалога
по огромному количеству частных проблем. По сути дела, результаты этого и других
трудов И. Баккус открывают новый этап в изучении западноевропейского культурного
наследия, соответствующий более общей тенденции преимущественного внимания к
культурному своеобразию и каждой отдельной форме идеологии или веры.
Данная тема получила дальнейшее развитие в авторском произведении И. Баккус,
посвящѐнном методологии истории в эпоху «большой Реформации», изученной в связи с
конфессиональной принадлежностью историков30. Эта книга вышла в престижной серии,
основанной основоположником целой школы изучения мысли Реформации Хейко
Оберманом (Studies in Medieval and Reformation Thought, издаѐтся с 1966 года). Книгу
Баккус отделяет от работы Польмана почти 70 лет, и тем не менее, она полемизирует
главным образом с давними, но не утратившими актуальности тезисами бельгийского
монаха-профессора. Главная идея книги Баккус заключается в придании историческому
творчеству авторов XVI века самодостаточности: далеко не во всех аспектах оно было
обусловлено конфессиональной принадлежностью или партийными интересами. Историк
считает, что в эпоху Реформации история играла «креативную роль» и была «решающим
фактором в утверждении конфессиональной идентичности»31.
К сожалению, объем книги не позволил автору осветить исторические концепции
большого
количества
авторов
сколько-нибудь
подробно.
Для
презентации
их
исторических методов выбирались отдельные аспекты, как правило, связанные с
интерпретацией того или иного источника или комплекса идей. По этой причине
представленная в книге картина не всегда вызывает согласие оппонента, изучавшего
великие труды XVI века в полном объѐме. Как бы то ни было, замечательная эрудиция
автора позволяет увидеть целые жанры литературы, обойдѐнные молчанием в
предшествующей исторической литературе, например, публикации текстов Отцов Церкви
и инструкции по чтению древних христианских авторов, издававшиеся в основном
кальвинистами и католиками. В силу ряда причин в нашей работе мы вынуждены обойти
данные жанры историко-религиозной литературы XVI века, однако считаем необходимым
упомянуть о безусловном научном приоритете швейцарской коллеги в этих областях.
Российская научная литература по церковной историографии XVI-XVII веков на
Западе гораздо беднее именами и событиями. Первым к сюжетам западноевропейской
церковной историографии XVI века обратился профессор Московского Императорского
30
Backus I. Historical Method and Confessional Identity in the Era of the Reformation (1378-1615). Brill, LeidenBoston, 2003. 416 c.
31
Ibidem. P. 5.
35
Университета А. П. Лебедев32. При несомненной самостоятельности описания,
определѐнной свободе и даже смелости в выражении собственных научных симпатий и
предпочтений, сочинение Лебедева обнаруживает некоторую вторичность в определении
общей линии изложения, а также в аргументации. Глубокое знакомство с немецкой
литературой (особенно с действительно превосходным сочинением Ф. Х. Баура) лишь
отчасти смогло заменить историку глубокое исследование текстов церковных историй
XVI-XVII столетий. Он описывает только те произведения, на которых подробно
останавливается Баур, часто привлекая и аргументацию немецкого коллеги. Те
произведения, которые Бауром обходятся в силу некоторых «предрассудков» его
оригинальной концепции, замалчиваются также и Лебедевым.
Вторичность
российской
церковно-исторической
науки
по
отношению
к
европейской носила в XIX веке, очевидно, закономерный характер. Так, известно
сочинение Иннокентия, епископа Пензенского33, носящее явно вторичный характер по
отношению к произведению Х. Э. Вейсманна «Введение в церковные достопамятности
истории Нового Завета»34. В высшей степени любопытно описание работы епископа
Иннокентия, данное А. П. Лебедевым35, при том, что сам критик не вполне был свободен
от упреков, адресованных им епископу Иннокентию.
Некоторые закономерности, вполне объяснимые в отношении Ф. Х. Баура, из уст
А. П. Лебедева выглядят весьма странно (например, в части отождествления
общерелигиозного диалога с внутригерманским) и ничем другим, кроме вторичности
концепции российского историка, объяснены быть не могут.
Гораздо больше историков занимались исследованием лютеранской церковной
историографии XVI века. Каспар Сагиттарий первым обратил внимание на необходимость
изучения организации работы над «Центуриями»36; эта тема получила значительное
развитие в первой биографии М. Флация, написанной Бальтазаром Риттером37. С конца
XIX столетия до наших дней тема «Магдебургских центурий» не теряет актуальности и
32
Лебедев А. П. Церковная историография в главных еѐ представителях с IV до XX в. СПб, 1903.
Иннокентий еп. Пензенский. Начертания церковной истории. 7-е изд. М., 1849. 667 с.
34
Weismann Ch. E. Introductio in memorabilia ecclesiastica historiae sacrae Novi Testamenti. Stuttgardiae, 17181719. 1140+1340 с.
35
См. Лебедев, Цит. соч. C. 235.
36
Sagittarius C. Introductio in historiam ecclesiasticam et singulas eius partes, sive notitia scriptorium veterum
atque recentium qui historiam illustrant. Jena, Cröker, 1694. 1181 с.
37
Ritter J. B. Eigentliche un umständige Beschreibung Des Lebens, Handels und Wandels, der Streiten und
Schrifften, wie auch endlich des Todes M. Mat. Flacii Illyrici, Ehemals berühmten und sehr gelährten Theologi in
Teutschland: aus theils bekannten, theils bißher unbekannten Uhrkunden, Schrifften und Brieffen, anderer und
seiner selbst. Zur Beleuchtung der Kirchen-Historie Des XVI. Seculi. Verfertiget, auch auff verschedener Begehren
zum Druck überlassen. Franckfurth am Mayn 1723. 292 с.; Ritter J. B. M. Matthiae Flacii Illyrici… Leben und Tod.
Aus theils bekannt-theils unbekannten Urkunden, Schrifften und Brieffen, anderer und seiner selbst; zur Erläuterung
der Kirchen-Historie des XVI. Seculi. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Franckfurth/Leipzig, Ziegler,
1725. 210 с.
33
36
является одной из самых развитых в европейской (в основном – германской)
исторической науке. Как уже говорилось выше, начало было положено публикациями
архивных источников о замысле «Центурий», организации работы, авторском коллективе
и формировании методологической концепции этого колоссального сочинения.
Первым важным рубежом этой линии историографии стала биография Флация,
написанная Вильгельмом Прегером38. Она не утратила своего значения и поныне и
является отправным текстом для любого исследования, как посвящѐнного этому
персонажу, так и затрагивающего в той или иной мере «Магдебургские центурии». Прегер
глубоко изучил рукописные источники не только Вольфенбюттеля, но и архива
Регенсбурга, и Мюнхенской Королевской библиотеки. И сегодня интересно читать
рассуждения Прегера о языке Флация или об используемых им понятиях. Об успехе и
научной ценности исследования Прегера говорит и тот факт, что спустя почти сто лет его
сочинение было переиздано факсимильным способом.
Новая биография Флация, призванная дополнить сказанное Прегером, была
задумана американским исследователем Оливером Олсоном; пока вышел лишь первый
том39. Безусловным достоинством новой работы является умение историка привлечь
материалы, до сих пор никогда не использовавшиеся в изучении Флация и «Центурий»
(например, публикации по краеведению, истории ландшафтов и т. п.), а также умение
остановиться на малоизвестных эпизодах, уклоняясь от следования устоявшимся в
научной и справочной литературе шаблонов. Как бы то ни было, по первому тому судить
несколько преждевременно, хотя в случае продолжения эта книга обещает быть очень
интересной. Вышедшая совсем недавно биография Луки Илича 40 не выделяет занятия
историей среди других сфер, в которых проявил себя многогранный талант Флация
Иллирика; книга содержит массу интересного богословского материала, способного,
среди прочего, оттенить взгляды мыслителя на историю, методологию и организацию
исследований.
Старт современному научному изучению «Магдебургских центурий» дали
диссертации немца Хайнца Шайбле и американца Рональда Динера41. Шайбле уделил
38
Preger W. Mattias Flacuis Illyricus und seine Zeit. Bd. 1-2. Erlangen, 1859-61. 436+584 с.
Olson O. K. Mattias Flacius and the Survival of Luther’s Reform. Wiesbaden, 2002. 430 с.
40
Ilić L. Theologian of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus.
Göttingen-Bristol, CT, USA: Vandenhoek & Ruprecht, 2014. 304 с.
39
41
Scheible H. Der Plan der Magdeburger Zenturien und ihre ungedruckte Reformationsgeschichte. Diss. Heidelberg
1960. 223 с.; Diener R. E. The Magdeburg Centuries. A Bibliothecal and Historiographical Analysis. Diss. theol.
Harvard, 1978. Х. Шайбле подготовил на основе своей работы небольшую книгу, которая содержит
основные положения его концепции. Scheible H. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur
Geschichte der historiographischen Methode. Gütersloh, 1966. 78 с. Р. Динер впоследствии практически отошел
от научной деятельности, и машинописная копия его диссертации исключительно труднодоступна.
37
особое внимание авторскому коллективу «Центурий», исследовал вклад в общий
результат и в концепцию отдельных его лидеров. Хотя не все выводы, к которым он
пришѐл, выдержали проверку временем, его подход стимулировал интерес историков к
этой стороне генезиса первой лютеранской историко-церковной концепции. Динер
больше занимался кругом лиц, поддерживавших проект «Центурий» материально и
морально; благодаря такому подходу ему удалось чѐтче увидеть связь «Центурий» как
проекта с современными им политическими процессами; глубоки его замечания
относительно генезиса в процессе борьбы вокруг Интерима интереса лютеранских
историков к некоторым сторонам истории христианского учения – иерархии, литургии и
догматики.
Следующей после Польмана попыткой включить «Центурии» в общий процесс
становления лютеранской историографии стала книга Матиаса Полиха, посвящѐнная
лютеранской историографии второй половины XVI и начала XVII века 42. Собрав огромное
количество текстов, Полих объединил их в огромной картине различных факторов и
тенденций, отличавших сложный мир христианской гетеродоксии XVI века и ставших
питательной средой для формирования комплекса идей, называемых «лютеранством».
Глубоко исследована роль взглядов самого Лютера, а также различных интерпретаций его
образа в создании корпуса представлений об истории Церкви в еѐ неразрывной связи с
историей всемирной, являющейся реализацией божественного замысла и одновременно
ареной борьбы вечных сил. М. Полих продемонстрировал абсолютно новый подход,
требующий, возможно, углубления за счѐт включения в эту великолепную картину более
поздней и – самое важное – более ранней эпохи. При чтении книги Полиха может
сложиться обманчивое впечатление, что вся не строго-католическая, гетеродоксальная
историческая литература XVI века является лютеранской; это отчасти близко к истине, но
это не так – до «Магдебургских центурий» концептуальный базис лютеранской концепции
был ещѐ не оформлен, а вес отдельных факторов внутри концепции ещѐ требовал своего
определения. Кроме того, в книге Полиха среди десятков других текстов несколько
«теряются» основные ориентиры лютеранской концепции – «Каталог свидетелей истины»
и «Центурии», не говоря уже о «гарнире» из католической и отчасти даже кальвинистской
литературы. Как бы то ни было, новаторская книга Полиха, бесспорно, является одним из
Некоторые выдержки из его работы были впоследствии также опубликованы. Diener R. E. Johann Wigand
(1523-1587). In: Shapers of religious traditions in Germany, Switzerland, and Poland, 1560-1600. Jill Raitt (ed.),
New Haven/London, 1981, pp. 19-38; Diener R. E. Zur Methodik der Magdeburger Centurien. In: Catalogus und
Centurien. Interdisziplinäre Studien zu Matthias Flacius und den Magdeburger Centurien. Mentzel-Reuters A.,
Hartmann M. (Hrsg.). Mohr Siebeck, Tübingen, 2008. Ss. 129-173.
42
Pohlig M. Zwischen Gelehrsamkeit und konfessioneller Identitätsstiftung. Lutherische Kirchen- und
Universalgeschichtsschreibung 1546-1617. Tübingen, Mohr Siebeck, 2007. 589 с.
38
высших достижений исторической науки в области изучения религиозной и исторической
мысли XVI-XVII веков.
Наконец, последним на сегодняшний день сочинением о «Центуриях» является
замечательная работа берлинского учѐного Х. Болбука, ставшая итогом длительной
работы по подготовке интернет-публикации источников по подготовке «Центурий»43. Под
одной обложкой собраны пять отдельных исследований, посвящѐнных соответственно
предыстории «Центурий», организации работы авторского коллектива в историческом и
логическом плане, практике их работы и взаимодействию с кругом европейских
интеллектуалов, строению «Центурий» и проблемам авторства, а также проблемам
положения авторов в лютеранской интеллектуальной среде. Очевидным достоинством
подхода Х. Болбука является отказ от центрированности на фигуре М. Флация. Конечно,
ему отведено должное место в тщательно реконструированной картине работы авторского
коллектива, однако немецкому историку удалось избежать распространенного в
историографии ХХ века отождествления достоинств и недостатков «Центурий» с
личными или профессиональными качествами Флация.
Первое исследование Болбука посвящено «предыстории Центурий». В ней особый
интерес представляет попытка восстановить не только условия, способствовавшие
появлению уникального замысла, но и отдельные крупные события как необходимые для
этого «ментальные рамки». Историки уже отмечали особый интеллектуальный
микроклимат
в Магдебурге
–
«Канцелярии Господа»44. Болбук
оттеняет
роль
Аугсбургского Интерима 1548 года и последовавшего спора вокруг него как в
формировании этого микроклимата, так и в зарождении характерной для него концепции
«свидетелей истины». Одновременно исследуется процесс выдвижения на первый план
истории Церкви как научной дисциплины, инструмента в полемике против католиков и
воздействия на паству («метафоры»). Важным достижением Х. Болбука является оценка
уже упоминавшегося «Каталога свидетелей истины» и его идейной связи с «Центуриями».
Историк
не
ограничивается
рассуждениями
о
преемственности
между ним
и
«Центуриями»; получающаяся картина сложна, многофакторна, замечательна по точности
реконструкции и вниманию к красноречивым деталям. Бесспорным достижением Х.
Болбука является проведение разграничения между тенденцией лютеранского лагеря к
историзированию и изучением традиции «свидетелей» (Zeugendiskurs). Обе эти линии
сходятся в ранней лютеранской историографии как еѐ важнейшие составляющие. Этот
43
Bollbuck H. Wahrheitszeugnis, Gottes Auftrag und Zeitkritik. Die Kirchengeschichte des Magdeburger Zenturien
und ihre Arbeitstechniken. Wiesbaden: Harassowitz, 2014. 821 с.
44
Kaufmann T. Das Ende der Reformation. Magdeburgs „Herrgotts Kanzlei“ (1548-1551/2). Tübingen, 2003. 662 с.
39
концептуальный вывод ценен, помимо прочего, ещѐ и тем, что он делает шаг за пределы
бесплодного вопроса о том, является ли «Каталог свидетелей истины» промежуточным
этапом подготовки «Магдебургских центурий» или же его следует рассматривать как
самостоятельное историческое произведение.
Отдельного
функционирования
исследования
авторского
удостоились
коллектива
проблемы
«Центурий».
организации
Организация
и
авторского
коллектива описывалась в литературе десятки раз, интерес к ней возник ещѐ в XIX веке,
однако до Болбука никто не писал об этом коллективе в диахроническом порядке, с
изучением кризисов и выходов из них, разработкой сети «сочувствующих», случайных
агентов, критиков и отступников. Главная заслуга историка заключается в том, что он
первый взялся за систематическую реконструкцию сети сотрудников, временных или
даже разовых помощников, «сочувствующих», случайных спонсоров за пределами
формального авторского коллектива, Магдебурга и даже Германии. Правдоподобную
картину при этом подходе оказалось возможным получить, лишь опираясь на огромный
круг источников, в первую очередь – эпистолярных.
Х. Болбук подробно исследует также обстоятельства работы над «Центуриями».
Ещѐ в процессе написания «Центурий» противники проекта запустили слух о том, что
Флаций и его люди варварски относятся к книжным богатствам, попадающим к ним в
руки: вырезают из источников нужные фрагменты, вырывают страницы или попросту
воруют книги. Родилось даже выражение culter flacianus – «нож Флация», уничтожающий
ценности ради победы в споре. Историки XIX-XXI столетий от Прегера до Олсона
занимались оправданием честного имени Флация. Х. Болбук и в этом пошел дальше
предшественников: собранный им материал позволил реконструировать командировки
участников проекта в различные книжные собрания Европы.
Задача анализа «Магдебургских центурий» в книге Х. Болбука
решена при
помощи традиционного подхода через исследование техники «общих мест» (локусов) и
методов источниковедческой критики. Эта работа дала, в целом, ожидаемые результаты;
историку
удалось
добавить
ряд
принципиально
новых
положений
(например,
рассмотрение «Центурий» в ключе лютеровской топики, изучение аргументативной
логики). Интересным представляется анализ использования авторитета цитируемых
авторами «Центурий» церковных писателей. Особую актуальность результаты этого
анализа приобретают при изучении подходов к использованию наследия Патристики. Эта
40
тема, ранее изучавшаяся Э. Норелли45, получила в работе Х. Болбука дальнейшее развитие
за счет добавления в картину диахронического подхода и других динамических факторов.
Наконец, финальная часть исследования посвящена изучению проблемы авторства,
взаимоотношений внутри круга историков-лютеран и между последними и их власть
предержащими покровителями. В этом разделе особый интерес вызывает раздел о
«Посвящениях», сопровождающих отдельные тома «Центурий». Паратексты «Центурий»
стали интересным источником, рассказавшим о взаимоотношениях, планах и амбициях
руководителей авторского коллектива. Кроме того, приводятся и следующие из
«Посвящений» соображения о восприятии центуриаторами самих себя – интересное и
неочевидное следствие восприятия окружающей среды, соратников, покровителей и
колеблющихся. Вероятно, книга Болбука – это максимум, которого можно достичь в
исследовании «Магдебургских центурий» самих по себе, вне полемического контекста, на
сегодняшнем уровне развития историографии.
Историки католического направления проявили себя в исследованиях церковной
историографии XVI века, главным образом, в изучении творчества кардинала Ч. Баронио
и его главного труда – «Церковных анналов». Церковно-историческая литература,
вышедшая до 1588 года, исследована ими в значительно меньшей степени. Видимо, это
объясняется невысокой оригинальностью ортодоксальных сочинений начала XVI века по
сравнению
с
официальной
доктриной,
а
также
определѐнной
близостью
неортодоксальных к лютеранской литературе. Между тем, как мы увидим, в 1530-40-е
годы существовала определѐнная церковно-историческая литература, не являющаяся
частью католического мейнстрима и отвергнутая лютеранами при формировании своей
концепции в «Центуриях» - своего рода «ничейная земля». С другой стороны, каждому
историку приятно исследовать сочинения, идеологическую базу которых он разделяет. По
этой причине историки-католики активно обсуждают детали работы над своим замыслом
Ч. Баронио, уделяя более ранним работам значительно меньше внимания.
Особенности организации католической науки способствовали тому, что интерес к
биографии Баронио возник сразу после кончины историка, однако долгое время не
выходил за пределы популярного или апологического жанра. После выхода в свет в
середине XVIII века подборки источников по биографии Баронио46 интерес историков к
этому персонажу угас практически полностью, что для нас служит безусловным
свидетельством
45
полной
утраты
актуальности
межконфессиональной
полемики
Norelli E. The Authority attributed to the Early Church in the Centuries of Magdeburg and in the Ecclesiastical
Annals of Caesar Baronius. In: Backus I. The Reception… cit. P. 745-774.
46
Alberici R. Venerabilis Caesaris Baronii S. R. E. Cardinalis Bibliothecarii Epistolae et Opuscula. 3 vv. Romae,
1759-1770.
41
полуторавековой давности для людей Просвещения. Научный интерес к историографии
возродился в католической науке лишь в начале ХХ века, после публикации объѐмистого
тома Дж. Каленцио47. Как отмечалось, история подготовки этой книги в чѐм-то
напоминает историю написания собственно «Церковных анналов» Баронио. В 1863 году
Орден ораторианцев поручил своему новому члену, приехавшему в Рим из Неаполя 27летнему историку, взятому на работу в орденскую библиотеку Валличеллиана,
подготовить курс лекций о жизни своего знаменитого собрата Баронио. Библиотека
представила огромное количество материала, которого хватило на 30 выступлений.
Дальнейшая работа над биографией и подготовка еѐ к публикации затянулись. Сначала
автор увлекся сюжетами, которых в своих лекциях касался лишь вскользь, и написал ряд
книги о Тридентском Соборе и о Мартине Лютере; выступления с рассказами о Баронио
прекратились
в
1872
году.
Затем
в
1874
году
итальянское
правительство
экспроприировало Валличеллиану. Каленцио сумел устроиться в Ватиканскую билиотеку;
будучи ярым противником секуляризации церковного имущества, он сумел вынести из
Валличеллианы значительное количество рукописных и других материалов, которые,
однако, после смерти историка (он умер в 1915 году, во время войны) были утрачены. К
работе над публикацией биографии Баронио историк приступил вновь, имея в виду
предложить еѐ к публикации на 50-летний юбилей пастырского служения папы Льва XIII
(1887), однако в срок не уложился. Затем, когда гранки были уже готовы, историк занялся
их исправлением, добавлением нового материала, расширением объѐма публикации. В
результате книга превысила объѐм в 1000 страниц, а публикация задержалась на 18 лет!
Выход книги был перенесен на год 300-летия со дня смерти кардинала; по замыслу
автора, она должна была составить подготовительную работу для запуска процесса
беатификации кардинала Баронио. В беатификации, однако, было отказано, и поводом для
отрицательного решения Курии стала, в частности, некоторая добытая Каленцио
информация48.
В том же году с памятной речью о кардинале Баронио выступил перед своими
студентами еще никому не известный преподаватель церковной истории из семинарии г.
Бергамо Анджело Ронкалли. На следующий год его выступление было напечатано в
журнале La Scuola Cattolica, а также отдельной брошюрой. Судьбе было угодно, что
полвека спустя этот человек занял папский престол под именем Иоанна XXIII
47
Calenzio G. La vita e gli scritti del Cardinale Cesare Baronio della Congregazione dell’Oratorio. Roma,
Tipografia Vaticana, 1907. 931 с.
48
История подготовки этой публикации рассказана самим Каленцио. См. Calenzio G. Op. cit., p. LXXXLXXXVI, а также Jedin H. Kardinal Caesar Baronius. Der Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung
im 16. Jahrhundert. Münster, Aschendorff, 1978. S. 9-10.
42
(понтификат 1958-1963); по этому поводу некоторые коллеги подготовили расширенную и
снабженную богатым библиографическим аппаратом публикацию, выросшую до размеров
монографии49. В католической историографии не принято выступать с критическими
замечаниями относительно авторов такого ранга; основная ценность этой работы
заключается в добротном справочном аппарате.
Посвященная Баронио работа другого будущего понтифика, Акилле Ратти (Пия XI,
понтификат 1922-1939), вышла в свет в 1911 году в обширной публикации, предпринятой
к 300-летию кончины великого историка50. Этот коллективный труд не имел общей
концепции или единой взаимосвязанной структуры, однако участники его были
единодушны в восхвалении Баронио и его заслуг, причѐм заметную роль в аргументации
носили эмоциональные оценки, не подтверждаемые фактами или рациональными
рассуждениями. Во введении проф. В. Симончелли не только ставил Баронио на один
уровень с Данте в отношении взятой двумя итальянскими мыслителями на себя
«исторической миссии», но даже сравнивал величие первого из них с величием папства
как такового. Выступление прославленного католического историка Людвига Пастора
(автора фундаментальной «Истории пап») было целиком посвящено хвалебным отзывам,
составленным о Баронио и его труде в германских землях (“Giudizi tedeschi intorno al
Baronio”, с. 13-16). Разумеется, «Церковные анналы» характеризуются здесь как
«грандиозное творение», а противники его именуются не иначе как «тенденциозный труд
магдебургских очернителей».
На фоне подобных текстов (таковых в издании абсолютное большинство) статья
будущего папы Пия XI (на тот момент – префекта Амвросианской библиотеки)
отличалась трезвостью и профессионализмом51. Она была посвящена небольшой брошюре
Баронио, ранее не привлекавшей внимания исследователей. Сочинение Баронио
описывало правила устройства католической церкви, установленные папой Григорием
Великим. Публикация сопровождалась некоторыми письмами историка к Ф. Борромео,
которые свидетельствуют о том, что темами обсуждения коллег-кардиналов были не
только вопросы устройства церкви в прошлом или нынешнего существования церкви в
светских государствах, но и насущные проблемы реформирования церкви.
Стремление подчеркнуть заслуги Баронио в его идеологическом противостоянии с
лютеранскими историками ценой научной беспристрастности вообще характерно для
49
50
Roncalli A. Il Cardinale Cesare Baronio. Roma, 1961. 63 с.
Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma, 1911. 663 c.
Ratti A. Opuscolo inedito e sconosciuto del card. Cesare Baronio con dodici sue lettere inedite ed altri documenti
che lo riguardano. V.: Ibidem. P. 177-254.
51
43
многих работ по католической историографии. В те времена, когда изучавшие
«Центурии» учѐные уже отошли от историко-идеологических нападок или не основанной
на научном анализе констатации превосходства одних историков над другими, в
исследованиях «Анналов» ещѐ некоторое время преобладала апологетика. Ярким
примером может служить сборник 1963 года52.
Следующий важный этап в изучении наследия Чезаре Баронио был начат
монографией американского историка С. Паллапилли «Цезарь Бароний, историк
Контрреформации»53. Критики не раз отмечали54 ограниченность этой книги лишь
изложением взглядов и позиций католической стороны в межконфессиональной
полемике, а также ряд других недостатков. Заслуги этого исследования менее известны,
но они также имеются. Прежде всего, эта книга была задумана как биография, и
применять к ней критерии сочинения по историографии, видимо, не вполне уместно.
Достоинства данной биографии Баронио заключаются, прежде всего, в описании среды
событий, людей и структур, среди которых пришлось работать кардиналу. Это описание
не страдает от излишней почтительности в адрес тех, кого уместно критиковать или в
отношении кого имеет смысл раскрыть истинные, порой – очень сложные для понимания
намерения и мотивы. Анализ деятельности Баронио как историка уступает по масштабу
описанию его биографии, однако несомненным плюсом является то, что Паллапилли
привлек для составления комплексной картины все известные ему крупные работы
Баронио, а его историко-церковную деятельность рассмотрел без отрыва от церковнополитической. Получилась очень впечатляющая картина. Наконец, американский историк
ввѐл нового персонажа в контекст международной англоязычной историографии, в
которой Баронио занял должное место; соотнеся результаты своего исследования с
общими трудами другой историографической традиции, Паллапилли создал «стартовую
площадку» для современных исследований комплексного характера.
Одним из наиболее авторитетных исследователей историографии католического
направления в ХХ веке был Хуберт Йедин, крупнейший специалист по истории
Тридентского Собора и вообще истории католической церкви XVI века. Ему
принадлежит, в частности, четырѐхтомная (в пяти книгах) «История Тридентского
Собора»; он возглавлял также коллектив авторов многотомного «Учебника по церковной
52
A Cesare Baronio. Scritti vari. Sora, 1963. 450 c.
Pullapilly C. K. Caesar Baronius: Counter-Reformation Historian. University of Notre Dame Press, Notre Dame
(Indiana), 1975. 222 c.
54
См. подробнее Jedin H. Kardinal Caesar Baronius. Der Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung im
16. Jahrhundert. Münster, Aschendorff, 1978. S. 13.
53
44
истории»55. Обе эти работы имели особое значение для изучения идейного климата
межконфессиональной дискуссии, а также консолидировавшейся в практике католической
церкви исторической концепции. Ряд статей, опубликованных докладов, очерков Х.
Йедина был взят нами в оборот в настоящей работе. Особый интерес для нас представляет
небольшая работа, подведшая итоги предшествующих исследований биографии Баронио
и его творчества и сформулировавшая в сжатом виде все положения концепции56.
Рассуждения Х. Йедина о Баронио сгруппированы по трѐм разделам, рассматривающим
его интеллектуальную биографию в контексте эпохи, его труды (и обстоятельства их
создания) и, наконец, историческое значение созданной в «Церковных анналах» историкоцерковной концепции. Характерно, что один из крупнейших католических церковных
историков сумел избежать апологетических тенденций, так характерных для данного
направления в историографии. Так, в жизнеописании Баронио присутствуют и факты,
свидетельствующие о присущей ему гордыне, и о сложных отношениях с семьѐй, и о
политических интригах вокруг избрания папы. При описании работы над «Анналами»
историк вполне признает, что католическая сторона не всегда оптимально использовала
имевшиеся в еѐ распоряжении ресурсы, что в рамках межконфессиональной полемики
свело на нет еѐ организационное и структурное превосходство. При описании концепции
«Анналов» историк сделал основной акцент на полной уверенности Баронио (и всей
католической партии) в успехе их поддержанной Господом миссии. Разумеется, заслугам
Ч. Баронио в области церковной истории также уделено должное внимание. Несмотря на
свободу от распространѐнных среди католических историков тенденций и клише, Х.
Йедин представил нам стройную, отлично отлаженную в деталях и свободную от
внутренних противоречий концепцию. Странно, что среди более чем 700 публикаций
этого выдающегося историка нет серьѐзных исследований произведений историковкатоликов XVI века до Баронио.
Подлинным прорывом в изучении наследия Баронио стала проведѐнная в 1979 году
5-дневная конференция, посвящѐнная Баронио как историку57. Важнейшую роль в
организации конференции, в разработке концепции последовавшей публикации еѐ трудов,
в определении затрагиваемых тем сыграл крупный итальянский историк Роберто Де
Майо. Разделяя взгляды Х. Йедина относительно различных «ипостасей» наследия
Баронио («существование в биографии, в мифе и в историографии»), Р. Де Майо
55
Jedin H. Geschichte des Konzils von Trient. Bd. 1-4 (5 Vol.). Freiburg, Herder, 1951-75; Jedin H. (hrsg.)
Handbuch der Kirchengeschichte. 6 Bd. Freiburg, Herder, 1962-1973.
56
Jedin H. Kardinal Caesar Baronius. Der Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung im 16.
Jahrhundert. Münster, Aschendorff, 1978. 63 c.
57
Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno internazionale di studi, Sora, 6-10 ott. 1979. A cura di R.
De Maio, L. Gulia, A. Mazzacane. Sora, 1982. 958 c.
45
сопоставляет
филологический
высказанным
Тридентским
инструментарий
Собором
автора
императивом
–
«Церковных
«героической
анналов»
с
концепцией
документа». Одной из важнейших тем, бывших в центре внимания большинства
участников той конференции, было сочетание творческой свободы историка и
идеологических рамок, внутри которых Баронио обладал реальным выбором. Тема
получила своѐ развитие на аналогичном мероприятии, проведѐнном 7 лет спустя
на
родине Баронио, но посвящѐнном его коллеге и другу кардиналу Роберто Беллармино58.
На конференции 1986 года были затронуты не только вопросы сотрудничества
Беллармино
и
Баронио,
но
и
более
широкий
культурно-исторический
и
историографический контекст: деятельность протестантских критиков католической
концепции истории церкви, некоторых светских историков, а также судьбы трудов
историков-католиков в ближайшей временной перспективе. Известнейший из учеников Р.
Де Майо Стефано Дзен подвѐл итог изучению деятельности историков-католиков,
пытавшихся продолжить «Церковные анналы» на латинском или новых языках 59.
Результаты многолетних изысканий этого историка стала монография, вышедшая в
Неаполе в 1994 году60. Среди методологических новшеств этой работы отметим
помещение трудов Баронио в широкий тематический и географический контекст, вроде
исследования влияния его творчества на польский иезуитский театр. Вклад Баронио в
развитие эстетики, церковной археологии и ряд других отраслей гуманитарного знания
бвл также впервые рассмотрен в этой книге. Особый интерес представляет исследование
зарождения «мифа о Баронио» - его иконографию, связанные с ним легенды, овеянные
славой отношения с коллегами-иерархами церкви и т. д61. Последней крупной
публикацией о Баронио стала книга, напечатанная по итогам очередной конференции в г.
Сора в 2009 году62. Среди нескольких десятков опубликованных в ней работ большинство
посвящено небольшим частным сюжетам, затрагивавшимся в «Церковных анналах»,
иногда – в противопоставлении «Магдебургским центуриям». Центральное положение в
книге занимают работы Р. Де Майо и С. Дзена, углубляющие на новом материале уже
сформулированные ими ранее взгляды.
Бросается в глаза тот факт, что почти вся католическая историография нашей темы
касается Чезаре Баронио и вклада его «Церковных анналов» в межконфессиональную
58
Bellarmino e la Controriforma. Atti del Simposio internazionale di studi sotto l'Alto Patronato del Presidente della
Repubblica. Sora, 15-18 ottobre 1986. A cura di R. DeMaio, A. Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane. Sora,
1990. 1051 c.
59
Ibidem. P. 303.
60
Zen S. Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico. Napoli, 1994. 416 c.
61
Ibidem. P. 325.
62
Baronio e le sue fonti. Atti del Convegno internazionale di studi. Sora 10-13 ottobre 2007. Sora, 2009. 962 c.
46
полемику. Труды его предшественников-католиков, первыми взявших на себя обязанность
выступить против идеологического противника, почти не получили исвещения в
исторической литературе. Единственной крупной работой о католической церковной
историографии, направленной против «Центурий» и предшествующей «Церковным
анналам» Баронио, остаѐтся книга испанского историка Орелья-и-Унсуэ «Католические
ответы на «Магдебургские центурии»», вышедшая ещѐ в 1976 году63. Автор включил в
своѐ повествование большое число произведений, даже совсем небольших, а также
множество документов из испанских и особенно римских архивов. Его эрудиция
впечатляет, особенно в том, что касается интриг Курии и всякого рода «подводных
течений», определявших повороты в культурной политике Рима. Однако Орелья-и-Унсуэ
не особенно скрывает своѐ скептическое отношение к «Центуриям», не обращая внимание
на то, что они дали толчок появлению столь массового историографического «ответа».
Его оценки иногда грешат поверхностностью, встречаются противоречия в аргументации.
Главным недостатком этой работы является продолжение еѐ достоинства: ставка на
массовость источника привела к потере критерия релевантности. Стремление авторакатолика воздерживаться от критических суждений в адрес своих единоверцев или
высказывать их в завуалированной форме приводят к тому, что тексты авторов-католиков
предстают мощной, массовой, но несколько безликой армией, хотя многие историки и
обрели на страницах книги живые и хорошо документированные портреты. Эта книга до
сих пор является самым серьѐзным исследованием католической историко-церковной
литературы в период между «Магдебургскими центуриями» и «Церковными анналами».
Отечественная
западноевропейской
историография
церковной
по
ряду
историографии
объективных
значительно
причин
меньшее
уделила
внимание.
«Магдебургские центурии» упоминались в некоторых общих трудах (А. П. Лебедев, О. С.
Вайнштейн), однако эти упоминания отличаются краткостью и обзорным характером и
неспособны удовлетворить запросы современной науки. Кроме того, в сугубо научном
отношении они требуют пересмотра.
Значительную
роль
в
формировании
отечественной
школы
изучения
историографии средневековой истории сыграла деятельность А. Е. Косминского. В 1963
году были опубликованы его лекции, подготовленные и прочитанные гораздо раньше – в
1938-40 годах64. Определѐнное внимание историк уделил и церковной историографии XVI
века. Основной заслугой А. Е.Косминского стало введение ряда основополагающих
63
Orella y Unzue J. L. de. Respuestas Catolicas a las Centurias de Magdeburgo (1559-1588). Fundacion
universitaria española, Madrid, 1976. 637 c.
64
Косминский Е. А. Историография Средних веков. V в. – середина XIX в. Лекции. М., Изд-во МГУ, 1963.
430 с.
47
текстов – в первую очередь «Магдебургских центурий» и «Церковных анналов», но также
«Хроники Кариона» и сочинений С. Франка – в общий историографический контекст. С
высоты новейших научных достижений несогласие вызывает помещение этих текстов в
главу «Историография реформации и контрреформации в Германии», что несколько
скрадывает значение этих трудов для европейской историографии в целом. Кроме того,
объективному восприятию ценности церковной исторической мысли мешает, на наш
взгляд, превалирование априорных оценок, в частности, «Хроники Кариона» как
безоговорочно неудачной работы (Меланхтон называется «робким буржуа») 65 и
«Исторической Библии» С. Франка (борца «за дело народа») как однозначно
прогрессивного явления в историографии66. Несмотря на это, в лекциях были сделаны
некоторые важнейшие для изучения церковной историографии XVI века выводы. Так, А.
Е. Косминский выделяет по значению и качеству «Магдебургские центурии» и
«Церковные анналы» среди других церковно-исторических сочинений, что полностью
соответствует и нынешним представлениям о данной отрасли историографии. В
частности, он отмечал и прогресс, достигнутый «в «Магдебургских центуриях» и
особенно у Барония» по сравнению с гуманистами в отношении критики источников67, и
особое место «церковной полемики XVI в.» в деле цитирования подлинных документов
как средстве доказательства исторической истины68. В то же время историк не
рассматривает
исторические
взгляды
М.
Лютера
в
контексте
реформационной
историографии, относя их к главе «Политические учения XVI в.»69. Хотя мотивы такого
решения А. Е. Косминского и отличаются от аналогичного принятого нами, результат
также подтверждает научную ценность написанных ещѐ в предвоенные годы лекций.
Наконец, в этих лекциях нашла подтверждение точка зрения Ф. Баура на важность для
межконфессиональной полемики «Каталога свидетелей истины», хотя роль этого текста
как средоточия исторической концепции «Центурий» и ускользнула от исследователя.
Таким образом, несмотря на очевидные заслуги лекций А. Е. Косминского, мы считаем
возможным
и
необходимым
западноевропейской
церковной
вернуться
на
исторической
современном
мысли,
этапе
выделив
еѐ
к
изучению
из
общего
историографического контекста в качестве самостоятельного объекта исследования.
65
Там же. C. 90-92.
Там же. C. 94-98.
67
Там же. C. 118.
68
Там же. C. 119.
69
Там же. C. 106 и далее.
66
48
Глава 1. История Церкви в историографической панораме первой половины
XVI века
Данная глава имеет целью реконструкцию историографической ситуации в отрасли
церковной истории с изучением основных произведений, написанных и изданных в
период между провозглашением учения Лютера и первым проникновением идей
религиозного протеста в исторические сочинения, с одной стороны, а с другой – выходом
в свет «Магдебургских Центурий». На конкретных примерах будут рассмотрены
распространѐнные жанры исторических произведений, в которых речь идѐт о церковной
истории. В подборку вошли тексты, созданные в первой половине XVI века и обильно
цитировавшиеся в церковно-исторических сочинениях второй половины столетия.
Обилие сочинений по церковной тематике неизбежно накладывает ограничения на
исследуемый материал. Например, в нѐм не рассматриваются работы таких историков, как
Иоганн Слейдан (1506-1556) и Карло Сигонио (1524-1584). Исторические труды Слейдана
посвящены в основном светским сюжетам и разработке традиционной периодизационной
схемы всемирной истории70; произведения Сигонио по церковной истории были изданы
лишь в XVIII веке и на судьбе европейской историографии в целом не сказались, а в
момент создания не отличались оригинальностью на фоне других, новаторских работ71.
Центр тяжести исследования неизбежно оказывается в пределах германского мира: в
конкретной ситуации начала Реформации и расцвета книгопечатания в Северной Европе,
ликвидации или значительного облегчения там религиозной цензуры на определѐнное
время немецкоязычные земли становятся полем наиболее интенсивной историкоцерковной дискуссии. Это явление будет относительно недолгим: после Тридентинского
Собора и последовавшего массового вступления в дискуссию историков католического
направления границы диспута расширятся до пределов всей Западной Европы.
Преодолению национальных рамок будет способствовать и тот факт, что подавляющее
большинство
сочинений
принадлежность
авторов
создавалось
(в
отличие
на
от
латинском
языке,
конфессиональной)
и
имела,
национальная
безусловно,
второстепенное значение.
70
(Sleidanus J.) De quatuor summis imperiis libri tres. Argentorati, Rihelios, 1556. Следует сделать важную
оговорку: работы Слейдана часто цитировались протестантскими историками в качестве источника тех или
иных фактов; никакой концептуальной преемственности или тематической зависимости не отмечено. 182 л.
71
См. подробнее McQuaig W. Carlo Sigonio: The changing World of the Late Renaissance. Princeton, NJ.
Princeton University Press, 1989. 380 c.
49
§1. Церковно-политическая ситуация. Тридентский Собор и церковная
историография
С момента своего появления на свет учение Лютера находилось в непримиримом
противоречии с современной практикой католической церкви. Это обстоятельство весьма
расстраивало императора Священной Римской империи Карла V: его планы по созданию
сверхдержавы
шли
вразрез
с
целями
новой
религиозной
идеологии.
После
первоначального распространения «лютеранской чумы» он, правоверный католический
государь, попал в сложнейшее положение: ситуация превращала его в главного
проводника папской идеологии, в то время как государственный интерес заставлял
стремиться к политической независимости прежде всего от папства. Реформация
практически спровоцировала раскол внутри его империи в преддверии великой борьбы не
только внутри христианского мира (за создание сверхдержавы), но и вне его (против
турок). Поощрять поддержавшие Лютера княжества император не мог, поскольку в борьбе
за верховенство светской власти над папской собирался сделать из своих католических
земель мощный форпост. Оставаться безучастным тоже было невозможно – конфликт
зашел слишком далеко, и над императором витала тень возможного обвинения в ереси.
Естественно, что Карл прежде всего стремился минимизировать конфликт. По его
приказу был подготовлен текст доктринального примирения между собой подданных
Священной Римской Империи – католиков и лютеран (так называемый «Интерим», от
латинского слова interim – «тем временем»). После череды конфликтов вокруг различных
версий Интерима в 1548 г. был разработан новый документ – так называемый
«Лейпцигский Интерим». Для удобства достижения компромисса было разработано
особое понятие – адиафора (множественное число от греческого слова ἀδηάθνξνλ «безразличное», «неважное»). В эту категорию были отнесены все вопросы, компромисс
по которым представлялся маловероятным, но сами они не отличались кардинальной
важностью в данной острой политической ситуации. Меланхтон с радостью воспринял
возможность достижения компромисса и счел потери от уступок несущественными.
Сблизив протестантов и католиков (а еще больше протестантов и Карла), этот новый
проект породил раскол в среде лютеран: группа несогласных с примирительной позицией
Меланхтона интеллектуалов стала называть себя гнесиолютеранами72.
72
Вопрос о взаимосвязи и особенностях религиозных взглядов Лютера, Меланхтона и гресиолютеран весьма
сложен; об этом подробно см. Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола 1555-1648.СПб.,
«Гуманитарная Академия», 2002. C. 75-81.
50
Тем временем углублялась политическая составляющая конфликта между
лютеранами и католиками. В 1545 г. открылся Тридентский Собор. Католическая сторона
продемонстрировала
готовность
использовать
в
противостоянии
разнообразный
административный ресурс, которому лютеранам было нечего противопоставить.
Требовалось найти новое, революционное средство идеологической борьбы, которое
смогло бы компенсировать отсутствие такого ресурса у последователей Лютера.
Идея
привлечь
в
идеологический
конфликт
историческую
аргументацию
датируется 1552 г. Согласно распространѐнной точке зрения, решающую роль в
обращении лютеран к исторической проблематике сыграло ориентирование нового
богословия непосредственно на текст Писания73. После перевода Библии на немецкий
язык важнейший для той эпохи исторический источник оказался доступен широкой массе
читающих людей. Занимавшиеся толкованием Писания интеллектуалы постепенно
распространили свой кругозор на созвучные по проблематике сюжеты из других эпох, и
со временем они стали складываться в стройную концепцию. На наш взгляд, эта теория
недостаточно принимает во внимание гуманистическое прошлое многих лидеров
лютеранской мысли. Как показывает биографический материал, многие протестантские
интеллектуалы пришли к экзегетике Писания и библейской герменевтике через
исторические штудии.
Более оправданной видится другая точка зрения, выводящая зарождение интереса к
истории Церкви из непосредственных обвинений противниками друг друга в отступлении
от данного Господом порядка вещей. Католическая сторона изначально делала ставку на
древность своей традиции и пиетет, который эта традиция должна была вызывать в душах
верующих. После появления первых документов Тридентского Собора лютеранам
пришлось опровергать утверждение оппонентов о «вредной новизне» своего учения,
наносящего ущерб вековой стабильности римской церкви. «Новизна» становится в глазах
католиков символом ущербности новой идеологии. Выражение nostri saeculi novatores
получает теперь широкое хождение по страницам сочинений полемистов-католиков;
обвинение в новизне воспринималось самими лютеранами крайне болезненно74. А ведь
согласно представлениям лютеран середины XVI в., их критика римской церкви, их
политические взгляды были залогом возврата к истинной церкви Христа. Без опоры на
исторический материал, однако, их доказательства повисали в воздухе. В пользу
73
См., например, Massner J. Kirchliche Überlieferung und Autorität im Flaciuskreis: Studien zu den Magdeburger
Zenturien. Berlin, Lutherisches Verl.-Haus, 1964. S. 74ff.
74
[Flacius M.] Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, opus varia rerum, hoc
praesertim tempore scitu dignissimarum, cognitione refertum..., cum Praefatione Matth. Flacii Illyrici. Basileae,
Oporinus, 1556. Praefatio. P. A.
51
«политического» происхождения интереса к истории говорит не только полученный (в
виде «Центурий») результат – аргумент a posteriori не может быть корректным. Впервые
тезис о необходимости обратиться к истории прозвучал в речи Меланхтона на похоронах
Лютера, то есть на мероприятии массовом и отчасти политическом75. Лютеране
отталкивались от представления об исконности своих представлений о церкви и ее роли в
общественной жизни. Идея «истинной древности» их взглядов требовала, однако, своего
исторического доказательства.
Принимавшиеся Тридентским Собором решения стали, без сомнения, стимулом,
который подстегнул действия оппонентов. Дело было не только в том, что Рим перехватил
идеологическую инициативу и грозил перейти в наступление в борьбе за души верующих.
Материалы Второго тридентского созыва (сессии XII-XVI, 1551-1552)76 сами по себе не
могли бы вызвать обеспокоенность лютеранских лидеров. Они были посвящены в
основном проблеме таинств, греху и покаянию, а также некоторым частным проблемам
церковного права. Были предприняты первые попытки усовершенствования устройства
католической церкви, нацеленные на устранение наиболее бросающихся в глаза
недостатков. Эти попытки пока не имели системного характера и не подразумевали
глубокого преобразования церковной жизни, однако слово Reforma уже использовалось в
качестве официального обозначения принятых Собором мер. Попытки сближения с
протестантами закончились выявлением глубокого идеологического противостояния. В
работе Собора был объявлен двухлетний перерыв «для достижения мира в Германии»,
который автоматически продлялся в случае отсутствия этого мира77. Война так и не
началась, но в распоряжении «протестантов»78 было минимум два года для того, чтобы
подготовиться к новому идейному наступлению Рима. Сразу после приостановления
заседаний Собора в 1552 г. папа Юлий III распорядился создать особую конгрегацию
кардиналов и других иерархов, задачей которой была разработка концепции реформ. Дело
опять застопорилось, но сам факт такого поворота не мог не обеспокоить протестантов79.
Все чаще встречавшееся вне Собора отношение к учению Лютера как «ереси»
представляло для его последователей явную угрозу. На последних сессиях Римская
75
См., в частности, Scheible H. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien… S. 17f.
См. также Sacrosanctum Concilium Tridentinum, additis declarationibus Cardinalium Concilii Interpretum…
Augustae Vindelicorum, Matth. Rieger et filiorum. 1781. P. 135. (The) Council of Trent. The canons and decrees of
the sacred and oecumenical Council of Trent Ed. J. Waterworth. London, 1848. P. 73.
77
Sacrosanctum Concilium … P. 214-216; The Council of Trent … P. 126-130.
78
В документах Тридентского Собора лишь дважды – и то с оговорками – встречается слово «протестанты».
Ii qui se protestantes nominant (XIII сессия, 11 октября 1551 г.), eos qui se protestantes vocant (XV сессия, 21
января 1552 г.). См. Sacrosanctum Concilium... P. 159, 210.
79
Сарпи сообщил, что после создания этой коллегии «вначале за реформу взялись рьяно, а затем из-за
множества препятствий несколько месяцев работа велась ни шатко ни валко, а в конце концов совершенно
затихла». Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino. Torino, Einaudi, 1974. P. 283.
76
52
церковь явно стремилась закрепить определение «реформа» за собственной политикой 80.
Если бы ей это удалось, если бы для лютеранского учения были отведены слово и концепт
«ереси» и если бы расставленные таким образом терминологические акценты получили
освящение временем, то все приобретенное в предшествующие века негативное значение
понятия «ересь» ударило бы по облику последователей Лютера в глазах еще не до конца
определившихся верующих, а особенно – князей мира сего. До тех пор, пока у учения
Лютера нет своей фундаментальной фактологической базы, позволяющей выйти за
пределы божественного и описывать состояние человеческого общества через события
«истории человеков», оно не выходит за рамки многочисленных движений по критике
церкви81. Казалось, что двухлетний перерыв, объявленный в работе Собора, будет
достаточным для того, чтобы заложить солидную теоретическую опору для выхода
идеологического противостояния на новый уровень. Именно этими обстоятельствами
объясняется тот факт, что Меланхтон обратился к мысли о необходимости написания
большого исторического сочинения.
80
Об «ожидании реформы» в церкви после Констанцского Собора см. Jedin H. Geschichte des Konzils von
Trent. Bd 1. Der Kampf um das Konzil. Freiburg, 1949. S. 23. Особенно последовательно нынешняя концепция
католической реформы представлена в двухтомнике Marcocchi M. La Riforma cattolica. Documenti e
testimonianze. 2 voll., Brescia, Morcelliana. 1967. 589+414 c.
81
Манфред Вихелаус заметил, что вообще исторические сочинения последователей Лютера следует
рассматривать сквозь призму важнейшего для Лютера вопроса (“Schicksalsfrage”) конституирования его
движения (“Kirche oder Sekte?”). См. об этом Wichelaus M. Kirchengeschichtsschreibung und Soziologie im
neunzehnten Jahrhundert und bei Ernst Troeltsch. Heidelberg, 1965. S. 111.
53
§2. Античное церковно-историческое наследие в эпоху гуманизма. Беат Ренан
Вплоть
до
создания
«Магдебургских
Центурий»
наиболее
авторитетным
источником сведений о церковной истории оставались тексты греческих авторов (так
называемая «Трѐхчастная история», Historia tripartita 82). «Церковная история» Евсевия
Кесарийского, книги Сократа Схоластика и Феодорита Кирского, а также Евагрия часто
печатались и хранились вместе: эти труды связывала общая история написания, эпоха
создания и историографическая традиция. Естественно, что и во второй половине XV, и в
XVI веке эти книги накладывали характерный отпечаток не только на изучение церковноисторических проблем, но и на способы и приѐмы их освещения. Популярность этих
текстов способствовала значительному количеству их изданий в Европе даже тогда, когда
книги ещѐ были дороги, и публикация того или иного текста становилась ответственным
коммерческим шагом.
В Европе середины XVI века ходило множество отличных экземпляров этих
церковных историй. Первые были напечатаны ещѐ в эпоху инкунабулов; особенно
популярны были эти книги среди издателей Страсбурга. Неоднократно переиздавались
они и в первой половине XVI века. Именно в страсбургских изданиях складывались
традиции подборки, группировки и совместного издания текстов. Так, в третьей четверти
XV века издатель Эггештайн выпустил отдельно Евсевия (с предисловием Иеронима) в
переводе Руфина Аквилейского, а к ним – отдельное издание Беды Достопочтенного83. В
1500 году Георг Хуснер84 подготовил новое однотомное издание Евсевия и Беды
Достопочтенного85. С особой изысканностью были изданы классические тексты по ранней
церковной истории в издательстве Иоганна Прюсса Старшего 86.
82
Название это первым употребил сенатор Кассиодор, составивший в VI из этих книг компиляцию и
переведший еѐ на латинский язык.
83
Prologus, Beati Jheronimi presbiteri in historias. Ecclesiasticas. Divi. Eusebii. Caesariensis. Episcopi. [Strassburg:
Heinrich Eggestein, до 1475]. 129 л.
84
Об этом издателе практически ничего не известно, при том, что он был довольно заметен в страсбургской
книжной жизни последней четверти XV века. Benzing J. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im
deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden, 1982 (2 Aufl.). S. 437; Reske Ch. Die Buchdrucker des 16. und 17.
Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: auf der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing.
Wiesbaden, 2007. S. 869; Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 13 (1881). S. 456.
85
Ecclesiastica Historia diui Eusebii:et Ecclesiastica historia gentis anglorum venerabilis Bede: cum vtraru[m]q[ue]
historiaru[m] per singulos libros recollecta capitulorum annotatione. Argentinae, 14.03.1500. 160 л. Мы можем со
стопроцентной уверенностью утверждать, что при подготовке «Магдебургских Центурий» Евсевий изучался
по этому изданию. В Вольфенбюттельской Библиотеке герцога Августа хранится экземпляр из личного
собрания Флация Иллирика, носящий следы интенсивного использования.
86
Ecclesiastice et Tripartite hystorie: insignia primitive ecclesie virorum gesta feliciter complectentis: libri
duodecim. Auctoribus grecis: Theoderico. Sozomeno. Socrate. Traductore. Latino Epiphanio. Auspicante.
Cassiodoro Senatore. [Strassburg: Joh. Prüss ок. 1500]. 96 л.
54
Постепенно стандартизируется набор текстов, включаемый в такие издания. Уже в
издание Иоганна Прюсса входят, помимо Евсевия в переводе Руфина Аквилейского и
двух книг самого Руфина, также книги Феодорита Кирского, Созомена, Сократа
Схоластика в переводе Епифания Схоластика, с кратким комментарием Кассиодора.
Издание текстов по ранней церковной истории перестаѐт быть прерогативой владельцев
издательств (чья роль в развитии различных отраслей знаний в первый век развития
книгопечатания особенно велика) и привлекает внимание ведущих гуманистов: в 1523
году за подготовку нового издания взялся крупный немецкий гуманист Беат Ренан (14851547).
Уроженец Эльзаса, Беат Ренан был одной из ключевых фигур европейского
гуманизма. Он получил образование в Париже, жил в Страсбурге и Базеле, был другом
Эразма Роттердамского и многих других крупнейших интеллектуалов своего времени. Его
основным занятием, помимо масштабной издательской деятельности, были греческие
штудии и германские древности. В нашу задачу не входит оценка его деятельности как
историка вне специфической церковной материи, хотя его заслуги в различных областях
не подлежат сомнению. Его считают одним из крупнейших новаторов в немецкой
историографии, наряду с Иоганном Авентином, Себастьяном Франком и Иоахимом
Вадианом87. Важнейшими трудами его являются датированный 1519 годом «Комментарий
к тацитовой «Германии»» и сочинение по германской истории Rerum Germanicarum libri
III (Базель, 1531). Для нас, впрочем, особый интерес представляют не они, а
принадлежащий перу эльзасского гуманиста аппарат, сопровождающий крупную
публикацию источников по истории ранней христианской церкви. Издание, известное под
сокращѐнным названием «Авторы церковной истории», впервые вышло в Базеле в
типографии Фробена в 1523 году. Оно выделяется не только объѐмом и скрупулѐзностью
проделанной филологической работы, но и ролью, которую ему пришлось сыграть в
историко-церковной полемике. Эта книга была широко представлена во множестве
европейских частных и монарших библиотек, а содержащиеся в ней тексты, впервые так
хорошо и профессионально представленные публике, составили корпус основных
источников для множества работ по церковной истории, включая «Магдебургские
Центурии», их многочисленную критику и даже «Церковные анналы» Чезаре Баронио.
Подготовленная Беатом Ренаном публикация выдержала несколько изданий, что
говорит о коммерческой целесообразности, а следовательно – о востребованности этой
87
Neue Deutsche Biographie, Bd. 1, Berlin, 1953, S. 682.
55
книги в европейской читательской среде. После первой публикации88 стандартизируется и
состав публикации: издание в целом будет называться Autores historiae ecclesiasticae, а
сочинения авторов, продолживших текст Евсевия (Феодорита, Созомена и Сократа) –
Historia Tripartita89. Беат Ренан сделал всѐ то, чего мы вправе ожидать от гуманиста –
выверил тексты по старинным рукописям, составил указатель, устранил большинство
разночтений, накопившиеся в предыдущих изданиях неточности. Издание 1523 года
становится своего рода «стандартом», который не только становится базой для
подготовки более поздних изданий по церковной истории, но и первым в истории
книгоиздания стереотипным изданием, которое при выпуске ряда последующих изданий
просто перенабиралось буква за буквой. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что
это издание, ставшее впоследствии образцом для переизданий, заранее рассматривалось
издателем как таковое. Фактически, перед нами одна из первых (если вообще не первая)
попытка
защиты
интеллектуальной
собственности:
в
книге
было
напечатано
подтверждение монопольного права на эту книгу, выданное самим императором Карлом
V еѐ издателю Фробену90. Тот, кто посмеет перепечатать эту книгу ранее начала третьего
года с момента еѐ выпуска, должен будет выплатить «десять марок чистого золота», при
этом часть из них уйдѐт в казну, а часть будет передана собственно Фробену, названному
в императорском патенте «наш знаменитый издатель».
В 1535 году вышло новое издание «Авторов церковной истории», ставшее
впоследствии стереотипным91: в него вошли некоторые новые тексты – «Церковная
история» Никифора патриарха Константинопольского, переведѐнная с греческого на
латынь неизвестным лицом, а также «Три книги о преследовании вандалов» епископа
Виктора. Книги Феодорита были напечатаны на языке оригинала. Датированное 1523
годом «посвятительное письмо» было перепечатано без изменений. Специально
88
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebi Pamphili Caesariensis Libri IX. Ruffino Interprete. Ruffini Presbyteri
Aquileiensis, Libri duo. Recognti ad antiqua exemplaria Latina per Beat. Rhenanum. Item ex Theodorito Episcopo
Cyrensi, Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano Libri XII. verso ab Epiphanio Scholastico, adbreviati per
Cassiodorum Senatorem. unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Emendati et hij multis locis. Additis passim
Graecis epistolis plerisque Synodorum ac Impp. e Tomis Theodoriti, cum ut Latinae versioni ex hijs succurratur,
tum ut velut monimenta quaedam Christianae antiquitatis conserventur, et habeat lector θηιέιιελ quod non sine
fructu conferat. Froben, Basileae, 1523. 636 c.
89
Иногда название Historia Tripartita употреблялось расширительно по отношению и к более полному
корпусу издаваемых текстов, в который, наряду с продолжателями, входил и прототип – «Церковная
история» Евсевия Кесарийского.
90
Ibid. P. аа2r-v.
91
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri novem, Ruffino interprete. Ruffini presbyteri
Aquileiensis, libri duo. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri
duodecim, versi ab Epiphanio Scholastico, adbreviati per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae
vocabulum. Omnia recognita ad antiqua exemplaria Latina, per Beatum Rhenanum. Praeterea non ante excusa
Nicephori ecclesiastica historia, incerto interprete, Victoris episcopi libri III De persecutione Vandalica. Theodoriti
Libri V graece, un sunt ab autore conscripti. Basileae, Froben, 1535. 667+176 c. (далее – Autores 1535…).
56
подготовленный Беатом Ренаном для данного издания Указатель составил 26 листов92.
Это издание переиздавалось ещѐ не раз; каждый раз его перенабирали по отдельным
буквам – «буквально» (buchstäblich), так как держать однажды набранные доски было
невыгодно – шрифты стоили дорого, при их производстве применялись самые передовые
на тот момент технологии. Издание 1544 года является самым известным и лучше всего
представлено в библиотеках. Анализ этой книги представляет для историка особый
интерес: тот факт, что издание стало «стереотипным», указывает на его коммерческий
успех, что, в свою очередь, является очевидным маркером соответствия основным
тенденциям в восприятии обществом истории. Таким образом, издание Беата Ренана не
только воздействует на читающую аудиторию, но – в наибольшей по сравнению с
другими рассматриваемыми в данной главе текстами – отражает обратное воздействие
аудитории, еѐ интересов и симпатий на пишущую гуманитарную элиту.
Динамика изданий, подготовленных Беатом Ренаном, показывает растущий
интерес к текстам, которые в контексте тогдашних представлений об истории составляли
корпус «источников»93 по истории христианской церкви первых веков еѐ существования.
Наличие не переведѐнных греческих текстов определѐнным образом характеризует
публику, для которой эта публикация предпринимается. Кроме того, повторяющиеся
переиздания показывают, что спрос удовлетворѐн не до конца, что количество этой
публики растѐт; большая часть текста издана, тем не менее, на латыни – она была
распространена, конечно, гораздо шире греческого. В «Обращении к читателю» Ренан
сообщил, что сочинение Никифора добавлено потому, что оно признано однородным
«Трѐхчастной истории» (букв. «из того же теста»). Сочинение епископа Виктора
привлекло внимание гуманиста тем, что в нѐм представлен внутрицерковный конфликт, и
«вряд ли какой-нибудь другой пример ущерба Церкви от рассечения религий (a religionis
sectis) будет показан более ярко». Налицо намѐк на современные Беату Ренану события, о
которых он по понятным причинам предпочитает не высказываться обязывающим
образом94.
92
Ibidem. [Beati Rhenani] Index rerum memorabilium utriusque historiae ecclesiasticae, tam eusebianae, quam
tripartitae. N. n.
93
Конечно, эти тексты с теоретической точки зрения относились к историографии, но в XVI веке, вплоть до
«Церковных анналов» Барония, ими пользовались как источниками не только в части описаний
современной им христианской церкви, но и для заполнения фактологической лакуны в период между
апостольскими временами и временем создания этих классических текстов.
94
См. Autores 1535… cit. P. aa2r. Africanam Victoris historiam vel in hoc perlegisse proderit, quod vix aliud
exemplum ad deterrendum a religionis sectis sit efficacius: quod ibi sub oculos ponatur, quam dura atque infanda
Christiani in Christianos perpetraverint, dum Barbari suo in Romanos odio morem gerentes, religionis praetextu in
illos saeviunt.
57
Книги Феодорита в 1535 году были изданы по-гречески (к изданию 1544 года был
подготовлен латинский перевод). Почему на греческом? Любопытно объяснение,
представленное самим Беатом Ренаном: причина – в том, что полная версия этого текста
(с письмами) вообще издавалась впервые. Какое это может иметь значение? Греческий
язык априори был значительно менее доступен по сравнению с латынью и даже по
сравнению с немецким языком; при этом греческий текст был ориентирован далеко за
пределы
Германии,
он
мог
быть
прочитан
гуманистически
образованными
интеллектуалами во всей Европе. Для гуманиста Беата Ренана важнее филологическая
ценность текста, его красота, форма; слово самоценно, оно является средоточием мысли, и
его первоначальная форма, как верилось в ту эпоху, содержала некоторое знание, которое
при переводе неизбежно утрачивалось. Приобретенное благодаря переводу (в первую
очередь, конечно, более широкая читательская аудитория) было менее ценным, чем то,
что, по мнению гуманиста, можно было потерять. Такого рода расчеты, и даже, если
угодно,
определѐнный
«интеллектуальный
снобизм»
были
тупиковой
веткой
интеллектуального развития Европы – это со всей очевидностью проявят последующие
события, в том числе – и в рамках церковной историографии.
В этом вопросе как нельзя лучше проявляется дух идеализации гуманитарного
знания, которым пропитана деятельность Ренана и ряда его современников. Обратим
внимание на то, что издание латинского перевода классических текстов, исключительно
высоко ценившихся римской Курией, содержит разностороннее и драматичное описание
великого внутрицерковного конфликта (Арианского раскола), который, несмотря на
былую его остроту и кажущуюся неразрешимость, в конце концов, закончился
установлением церковного мира. В выборе для публикации позднеантичных текстов,
помимо стремления избежать необходимости выносить какие-либо оценочные суждения в
адрес современников-«протестующих» и вообще вмешиваться в актуальные церковные
проблемы, мы видим установку на обращение к источникам, к историческому примеру.
Знание о прошлом, которое можно почерпнуть из данных текстов, знание, обѐрнутое в
античную обѐртку, изложенное на безупречном классическом языке, для гуманистов
ценнее, чем сиюминутные страсти, значительно менее изысканные по своему внешнему
виду и представляющиеся довольно низменными по содержанию. Подбор текстов,
осуществлѐнный Беатом Ренаном, с одной стороны, демонстрирует его широкую
эрудицию, уверенность в их общенаучной и даже актуальной ценности, но не только. Не
случайно «Авторы церковной истории» в издании Ренана стали последним существенным
эпизодом
участия
«классических»
гуманистов
в
набирающей
обороты
межконфессиональной историко-идеологической полемике: с открытием Тридентского
58
Собора гуманисты теряют интерес к теме, приобретающей вселенский масштаб, ведущей
к необратимым изменениям, уводящей всѐ дальше и дальше от понятных класических
моделей. Следующие участники церковно-исторической полемики – это гуманисты лишь
по образованию, но более не по образу мыслей и не по профессионально-культурной
ориентации. Флаций, Меланхтон, Бароний, Сарпи – практически все участники историкоцерковной полемики второй половины XVI и начала XVII века сочетали в себе широкую
гуманитарную образованность с готовностью включиться в обсуждение острых,
насущных проблем, и прошлое при всей своей изученности и понятности не могло
затмить настоящего, отвлечь учѐных полемистов от необходимости чѐтко обозначить
свою позицию, всей мощью своих знаний и интеллекта обрушиваясь на противников.
Адресат посвятительного письма в исторической литературе – лицо значимое, его
выбор всегда даѐт важную информацию в отношении позиционирования книги еѐ автором
или издателем95. Для данного издания Ренан выбрал очень значимую фигуру – епископа
чешского города Оломоуц Станислава Турцо (1496/97-1540). Этот представитель
католической церкви имел множество контактов в протестантском лагере, за время
обучения в Падуанском университете приобрѐл также широкие связи среди гуманистов.
Ренану он представлялся идеальной фигурой, воплощавшей в себе верность католическим
идеалам (сам Ренан придерживался также католической партии96, хотя в диспутах участия
не принимал) и возможность совмещения их с протестантским происхождением и
гуманистическим образованием. Как выбором текстов, так и посвятительным письмом
Ренан стремится сказать, что между двумя сторонами в нарождающемся конфликте нет
непреодолимых преград, что примирение во имя вечных гуманистических идеалов вполне
возможно.
Почему Беат Ренан обратился в своѐм интеллектуальном поиске именно к ранней
церковной истории? Он полностью разделяет обычную гуманистическую убеждѐнность в
первостепенной воспитательной функции истории. Перечисляя наиболее популярные
среди современников тексты языческой историографии, Беат Ренан выделяет из латинян
Ливия, Саллюстия и Юстина, а из греков – Фукидида, Дионисия Галикарнасского и
Ксенофонта; он считает вполне уместным расширить последний список за счѐт
произведений по ранней истории церкви. «Церковная история» Евсевия является не
только самым авторитетным с познавательной точки зрения, но и наиболее совершенным
с художественной точки зрения примером.
95
96
Genette G. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. S. 115ff.
Neue Deutsche Biographie, Bd. 1(1953). S. 682.
59
Такая позиция Ренана фиксирует для нас важную тенденцию: спрос на
исторические тексты растѐт, и растѐт он далеко за пределами круга гуманистических
монархов-меценатов и их учѐных протеже. Кроме того, растѐт и спрос на церковные
истории, причѐм (и это тоже очень важно) вне межконфессионального конфликта,
нарождающегося как раз в эти годы. Интерес к истории Церкви существовал и независимо
от лютеровской критики Рима, он зародился в рамках проблематики позднего
Возрождения и медленно рос по мере роста политического и гражданского самосознания
грамотных слоѐв населения, по мере углубления их религиозного самоощущения. Та часть
общества, которую воспитали гуманисты, жаждала книг, текстов; публикации уже
имевшихся текстов утоляли жажду познания, но лишь отчасти. Отметим также, что Беат
Ренан говорит о «церковных историях» как, во-первых, об уже устоявшемся роде
исторической литературы, а во-вторых, как о сравнительно массовом направлении. Что он
имел в виду, если о массовой церковно-исторической литературе, созданной в первой
половине XVI века, речи всѐ-таки быть не может? Очевидно, он имеет в виду античные
тексты, в первую очередь – многочисленных продолжателей Евсевия. Эти тексты почти
исключительно существуют в латинских версиях; первая немецкая церковная история –
Каспара Хедио – ещѐ только должна была появиться. Следующие слова Беата Ренана,
обращѐнные к чешскому епископу, иллюстрируют предпочтение, которое питала
читающая образованная публика к исторической литературе.
И всякой истории, почтеннейший предстоятель, как бы внутренне присущe, что
она и каким-то образом воздействует на читателя и захватывает его внимание, с одной
стороны, своей разнообразностью, которая устраняет всякую возможность для скуки, а
с другой – непосредственно познанием фактов, которых так жаждет человеческий ум и
которые в столь обильном количестве предлагает история, более чем любой другой
литературный жанр. 97
Эти слова, при всей своей неоригинальности с точки зрения позднеренессансных
трактатов «о том, как писать историю», характеризуют и самого автора – человека
блестяще образованного, владеющего замечательной латынью (к примеру, стиль
«Центурий» значительно хуже). Беат Ренан находился вполне на высоте современных ему
достижений литературы «о том, как писать историю». Если большинство его коллег в
этом жанре не стремились внести непосредственный вклад в развитие исторического
97
Autores 1535 … P. aa2r.
60
знания98, то о германском гуманисте этого сказать нельзя: подготовленная им публикация
вполне достаточна для того, чтобы считать его и «практикующим» историком. Важной
отличительной чертой Беата Ренана как историка является также оптимизм относительно
способности истории удовлетворить разнообразные потребности человека; своеобразие
именно церковной истории отошло на второй план. Дело здесь, конечно, не в особой
актуальности церковных материй в эпоху Лютера, а в особенностях еѐ содержания по
сравнению с «историей государей», которые не подвергаются у Ренана никакому
теоретическому осмыслению.
Заслугу Евсевия Беат Ренан видит не только в написании собственно «Церковной
истории» - связного высокохудожественного текста, заложившего основу целого
направления в историографии, но также и в том, что он своим обширным цитированием
донѐс до нас фрагменты других церковных историков, о которых мы без Евсевия ничего
бы не знали. В соответствии с общей тенденцией эпохи Возрождения Беат Ренан особо
подчеркнул воспитательную роль сочинения Евсевия. Особенностью этого тезиса у Беата
Ренана стало выведение моральной функции истории за пределы традиционно
воспринимаемых общих категорий «добра» и «зла», познанию которых должна учить
историческая литература. Дело в том, что в истории ранней церкви вопрос о
классификации отдельных фактов с точки зрения соответствия «добру» или «злу»
упрощѐн и следует из самого замысла сочинения. Основную практическую пользу из
истории, по мнению Ренана, можно было извлечь… из подвигов христовых мучеников, «с
весѐлостью и бесконечной твѐрдостью» претерпевавших выпавшие им испытания99.
Беат
Ренан
сообщает,
что
сочинение
Евсевия
не
всегда
пользовалось
безоговорочным уважением иерархов Церкви. Папа Геласий I, к примеру, вообще
наложил запрет на его чтение. При разборе этой коллизии Ренан обнаружил абсолютное
отсутствие пиетета перед иерархом церкви, пиетета, для многих писателей-католиков
совершенно обязательного. Очевидной методологической заслугой Беата Ренана стала
способность не только выискать у авторитетнейшего церковного писателя недочѐты и
поводы для упрѐков, но и оправдать его по большинству поводов! Например, гуманист
сетует на то, что Евсевия часто упрекали в проступающих кое-где симпатиях к арианам. В
учѐных спорах в гуманистической среде авторитеты редко принимались безоговорочно,
поэтому подобный упрѐк был вполне возможен, хотя, конечно, по адресу крупных
церковных авторитетов подобные тезисы высказывались с особой осторожностью. Беат
98
Об этом см. подробнее Cotroneo G. I trattatisti dell’”ars historica”. Napoli, 1971; Bellini E. Agostino Mascardi
tra “ars poetica” e “ars historica”. Milano, 2002. 481 c.; Бобкова М. С. "Historia Pragmata". Формирование
исторического сознания новоевропейского общества. М., РАН, 2010. 526 c.
99
Autores 1535… cit. P. aa2r et v.
61
Ренан берѐт на себя смелость процитировать их и даже оспорить, то есть обсудить
предметно100. Другая возможная претензия к Евсевию заключается в недостаточно
критическом отношении к некоторым легендам, таким, как переписка Иисуса и правителя
Эдессы Абгара V Ухама или к некоторым сюжетам из сочинений Отцов церкви101. Нам
неизвестно, чьи претензии к Евсевию Беат Ренан имеет в виду, тем более что он сам
никаких более конкретных сведений не привѐл. Ответ критикам был прост: прилежный
историк не имеет права умалчивать какую-либо информацию, особенно если он берѐт чтото из вторых рук102. Вина Евсевия в том, что он излишне доверился «комментариям
сирийцев» или сочинениям Климента Александрийского, незначительна, ей можно
пренебречь: ведь подобные упрѐки могут быть выдвинуты в адрес даже наиболее
авторитетных католических авторов (в качестве примера использованы «Жизнеописания»
св. Иеронима)103. Беат Ренан отлично представлял себе состояние современной ему
критики текстов, вышедшей на новый уровень после знаменитого сочинения Лоренцо
Валлы «О подложности Константинова Дара». Приведѐнное выше замечание Беата Ренана
не противоречит нашим представлениям о гуманистической критике, ибо Ренан имел в
виду следующее: принимая на веру сообщение из вторых рук, историк не имеет права
относиться к этому сообщению выборочно, отбирая из него наиболее правдоподобное и
опуская остальное. Локальный метод авторов «Магдебургских центурий» уничтожит это
достижение позднего гуманизма: информация будет препарироваться на мельчайшие
локусы, которые будут жить в книгах и на диспутах самостоятельной жизнью.
Особый протест Беата Ренана вызывают чудеса, сверх меры переполняющие
благочестивые сочинения. Примечательно, что немецкий гуманист даже не обсуждает
вопрос об истинности или ложности тех или иных чудес (обычно поднимаемый в
тогдашней богословской литературе) – он считает, что они просто неуместны. По его
мнению, «добродетельная простота» святых мужей является более уместной, чем
разжигающая ненужное любопытство тенденция «воздать природе максимум, а
божественному провидению минимум»: именно этому, по мнению автора, нас учит
100
Autores 1535… P. aa2v.
В частности, упоминается взятая на веру у Климента Александрийского легенда об обращѐнном Иоанном
Богословом юноше, который затем стал главарѐм разбойников, а впоследствии был увещен Иоанном и
возвращѐн к делам праведным.
102
Autores 1535… Ibid. “A fideli diligentique historico nihil omitti debere, maxime qui alienos commentarios
sequatur”.
103
Ср. у И. Ю. Ващевой по поводу переписки Иисуса с царѐм Эдессы: «Но даже если указанные письмалишь литературные произведения, передающие красивую легенду, а не реальные факты, то и в этом случае
мы не вправе обвинять Евсевия в целенаправленном искажении действительности. Его «вина» лишь в том,
что он не смог установить их подлинность или подложность на рубеже III-IV веков, как это сделали
Лоренцо Валла в XV веке или современные исследователи». Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и
становление раннесредневекового историзма. СПб., 2006. C. 190.
101
62
Святое Писание. Однако дело не только в этом: описание множества чудес делает
историческое сочинение уязвимым, в него легче проникнуть всякого рода неточностям.
Среди множества «ошибок» Беат Ренан особо выделяет огрехи переводчиков. Нет
сомнений, что он выверил многие фрагменты, причѐм не только описательного, но и
сугубо богословского характера. В качестве примера он приводит цитируемый Евсевием
неправильно понятый им фрагмент из Иринея о традициях соблюдения поста. Беат Ренан
предложил свой вариант104, однако неправильный оригинальный отрывок из Евсевия не
процитировал – ошибке не место в публикации!
Беат Ренан проделал с издаваемыми текстами ту же работу, которую другие
гуманисты
уже
проделывали
с
обнаруженными
ими
латинскими
памятниками
классической эпохи. Он выверил разночтения, определил наиболее точные варианты и
привѐл их в своѐм издании. В этой работе онпользовался поддержкой некоторых
иерархов католической церкви – «ведь в Риме огромное количество не только учѐных
мужей, но и очень древних рукописей». Ренан считает, что публикация Евсевия вместе с
авторами «Трѐхчастной истории» нуждается в теоретическом обосновании именно в этой
связи: неясные места из последней могут быть лучше поняты в том случае, если у
читателя имеется возможность сопоставить их с текстом Евсевия, от которого Созомен,
Сократ Схоластик и Феодорит отталкивались не только хронологически, но и
методологически.
Компилятор «Трѐхчастной истории» сенатор Кассиодор удостоен уничижительной
оценки Беата Ренана. Он работал в тот «несчастливый век», когда «варварство среди
италийцев воцарилось не только во Дворце, но даже в школах». Перевѐл эти тексты на
латынь «некий Епифаний, хваставшийся знаниями в греческом языке», однако «в равной
степени не владевший ни тем, ни другим языком». Описывая сделанное, Беат Ренан
особенно подчеркнул стремление при наведении порядка в «подобном лоскутному
одеялу» классическом тексте как можно меньше привнести от себя, ограничившись по
возможности чисткой его от варваризмов и прочих «наиболее заметных и наиболее
нестерпимых» лингвистических огрехов. Для этого он воспользовался некоторыми
древними
списками,
предоставленными
ему
высокопоставленными
церковными
иерархами из собственных библиотек.
В довольно подробном описании проделанной работы мы не находим, однако,
ничего, что пошло бы дальше филологической «техники». Нет сомнений, что Беат Ренан
блестяще разобрался в тех проблемах, которые смог перед собой поставить при издании
этих важных текстов. Периодичность публикации (1523, 1535, 1544 гг.) указывает на
104
Autores 1535… P. aa3r.
63
относительно устойчивый спрос на такого рода литературу. До поры до времени
скрупулѐзность в «мелочах» вполне удовлетворяет читателей, не требующих от историкоцерковной литературы цельной концепции и других подобных идеологических
императивов. Беат Ренан умер в 1547 году, и это событие совпало с утверждением новых
читательских интересов, с возникновением – благодаря, в частности, деятельности
Тридентского Собора – новой проблематики. Требовались новые концепции, и для них
публикации Беата Ренана и насыщенный этими публикациями читательский спрос стали
необходимой «питательной средой»105.
Проделанная Беатом Ренаном филологическая работа скрупулѐзна, хотя и не всегда
очевидна. Важнейшим из частных моментов автор считал сличение полученной в
результате отделения частей «Трѐхчастной истории» друг от друга картины с тем, что
содержится в тех античных источниках, добротность информации из которых не вызывает
сомнений. Основной точкой отсчѐта стало сочинение Аммиана Марцеллина. Примерно
7/8 объѐма его «Письма к читателю» в публикации «Авторов церковной истории»
занимает перечень разночтений между уважаемыми церковными историями и Аммианом
Марцеллином. В самом начале письма он констатирует, что среди читателей этих книг
много таких, кто не расположен слепо верить всему, что пишут в церковных историях.
Отсюда возникает желание проверить полученную информацию, а выбор текстов для
сравнения очень невелик. К подобному сопоставлению следует подходить осторожно;
даже если в одном из публикуемых текстов встречается неправдоподобное утверждение,
оно не означает, что неправдоподобным становится сочинение в целом. Этот момент
очень важен:
«Если (в источнике. – ИА) и встретится что-то подобное (имеется в виду
сомнительная или фантастичная информация. – ИА), то по этой причине не следует
отбрасывать и всѐ остальное, оценивая по одному фрагменту ту другую информацию,
которую читателям подтверждает согласие (других. – ИА) повествований (narrationis
consensus) или последовательность событий (rerum series). Наверное, нигде этого не
происхоит чаще, чем в жизнеописаниях отшельников или святых людей, где в
105
Отметим, что по уровню мастерства в работе с греческими текстами Беату Ренану будут уступать не
только авторы «Магдебургских Центурий», но и их основной противник – кардинал Чезаре Баронио в
«Церковных Анналах». Однако оба эти масштабных проекта предложат, прежде всего, всеобъемлющую,
глубоко фундированную историко-церковную концепцию, а публикации Беата Ренана при всей
филологической добротности быстро устареют с методологической точки зрения, сохранив свою роль как
корпус важных источников по истории ранней Церкви.
64
назидательных целях древность прощает себе больше всего в стремлении создать
наиболее совершенный образец жизни для прочтения»106.
С одной стороны, Беат Ренан соблюдает подчѐркнуто корректную позицию по
отношению к церковной традиции, стремясь минимизировать ущерб еѐ авторитету в тех
случаях, когда утверждения авторов «Трѐхчастной истории» противоречат здравому
смыслу или надѐжным источникам. С другой стороны, нельзя не отметить саму
возможность подвергнуть церковную традицию осознанной и целенаправленной критике,
возможность при определѐнных условиях отвергнуть некоторые из еѐ утверждений.
Безусловно, при всей непоследовательности такой подход говорит и о научной
принципиальности, и о житейской смелости немецкого гуманиста.
Сличение некоторых утверждений «Трѐхчастной истории» со сведениями Аммиана
Марцеллина предполагает, в первую очередь, перечисление наиболее существенных
расхождений, в которых истинными признаются всѐ-таки тезисы светского историка. Беат
Ренан изо всех сил стремится избежать такой ситуации, из которой могло бы показаться,
что он безоговорочно признаѐт Аммиана Марцеллина правым всегда или в большинстве
случаев. Более того, нигде не указывается, что расхождения многочисленны, или что они
имеют закономерный, системный характер. Примером могут служить два эпизода из
истории древней церкви – о ссылке Афанасия Александрийского (кн. V Трѐхчастной
истории или кн. XV сочинения Аммиана Марцеллина) и о Георгии Киликийском. В
Деяниях» Аммиана Марцеллина (книга 15, глава 7) рассказывалось о том, как в 355 году
император Констанций II решил лишить сана епископа Александрии Афанасия (в
православной традиции Афанасий Великий, ок. 298-373), использовав для этого авторитет
римского первосвященника Либерия107. Либерий отказался примкнуть к стороне
обвинения, сославшись на невозможность судить кого-либо в его отсутствие. Император
низложил и сослал Либерия, возведя на престол своего кандидата. Авторитет
первосвященника был столь высок, что, как напоминает Беат Ренан (почти буквально
воспроизводя слова Аммиана Марцеллина), вывозить его из Города пришлось ночью, «из
страха перед народом, который был к нему очень расположен»108. Этому эпизоду
непросто дать однозначное идеологическое толкование. Дело в том, что Афанасий, против
106
Autores 1535… P. aa4r. Si quid occurrat tale, non sunt idcirco reiicienda caetera, et ex uno aliquo loco
cunctorum facienda aestimatio, quorum alioqui fidem quim narrationis consensus tum rerum series lectoribus
approbat. Id forte nusquam frequentius accidit, quam in Eremitarum et divorum vitis, ubi docendi gratia plurimum
sibi indulsit antiquitas, dum perfectissimam vitae formulam legendi delineat.
107
В православной традиции Ливерий Исповедник, ум. 366.
Autores 1535… P. aa4v. “Liberius aegre populi metu, qui eius amore flagrabat, cum magna difficultate noctis
medio potuit asportari”.
108
65
которого так энергично боролся император, на тот момент был едва ли не единственным
авторитетом Восточной церкви, боровшимся против арианства. Либерия римская
католическая традиция вполне уверенно называет папой; он является важным элементом
череды римских первосвященников от самого апостола Петра, на которой зиждется
претензия Рима на особую религиозную и историческую роль. Дело в том, что позже он,
как известно, поддержал осуждение Афанасия (о чѐм у Аммиана Марцеллина нет ни
слова), вернулся на епископскую кафедру и, в конце концов, помирился с Афанасием.
Второй эпизод – это описание городского бунта в Александрии Египетской в 361
или 362 году, когда чернь, ободрѐнная репрессиями верховной власти против ряда
представителей местной, растерзала епископа Георгия, занимавшего александрийскую
кафедру во время изгнания Афанасия. В книге Аммиана Марцеллина, в которой
действительно эти события представлены очень красочно, об Афанасии нет ни слова, как
нет ни слова о его позиции в конфликте с арианством (именно эта позиция была в
«Трѐхчастной истории» одним из наиболее надѐжных критериев для оценки того или
иного церковного деятеля). Георгий был убит за то, что запятнал себя доносительством и
вообще
был
неприятен
александрийцам,
вызывая
их
раздражение
различными
необдуманными шагами.
Что можно прочесть на эту тему в «Трѐхчастной истории»? Ермий Созомен
построил практически всю 4 книгу своей «Церковной истории» на коллизиях, связанных с
именами Либерия и Георгия. В его изложении Либерий (гл. 11 и далее) предстаѐт
последовательным
политиком,
крупнейшим
предстоятелем
церкви,
доблестно
защищавшим Афанасия от гнева императора. Георгий (главы 5-10 4 Книги) предстаѐт
перед его читателем как жестокий тиран, а народ, напротив, как сумма невинно
страдающих праведников. Определяющим для александрийцев представлено мнение
египетских монахов, «потому что они подвизались в добродетелях и проводили жизнь в
любомудрии».
Историографический «конфликт» заключается в том, что сочинение Созомена,
содержащее по сравнению с Аммианом Марцеллином намного больше информации,
одновременно уступает ему по надѐжности, по крайней мере, в глазах критиковгуманистов XV и первой половины XVI столетия. Аммиан Марцеллин же с самого
момента обнаружения его рукописи Поджо Браччолини пользовался славой надѐжного в
целом источника по римской истории IV века. Насколько вообще можно верить
информации, представленной в источнике, который заметно противоречит данным,
признанным научной общественностью? За сличением двух источников стоит более
широкая проблема – о сочетаемости источников по светской и церковной истории, о
66
возможности
беспристрастно
судить
об
их
информативности,
об
истинности
содержащейся в них информации. В частности, какова должна быть оценка личности и
политики императора Юлиана, прозванного в христианской традиции Отступником?
Оценка Аммиана Марцеллина была весьма умеренной, император у него – лишь один из
субъектов исторического процесса, наряду с чиновниками, народом, христианскими и
языческими деятелями. Оценка Юлиана, например, в приложении к Евсевию переводчика
Руфина или в «Церковной истории» Феодорита Кирского одномерна; она определяется
лишь его отношением к язычеству, понятому к тому же упрощѐнно. Те же слова о
пламени, извергавшемся в том месте, где Юлиан приказал восстановить Иерусалимский
Храм, интерпретированы различным образом и, при схожести сюжета, оттеняют образ
императора в соответствии с общими воззрениями авторов. Если оценка Аммиана
Марцеллина (кстати, вполне праведного христианина) сдержана и отдаѐт должное
диалектической сложности образа, то у авторов «Трѐхчастной истории» эта оценка –
отрицательная – гораздо проще и понятнее. Избегая, на первый взгляд, острых
столкновений с Курией, Беат Ренан фактически ставит вопрос о соответствии светских и
церковных текстов и источников, о ценности одних для толкования и оценки других.
Германский гуманист придерживается скрытых симпатий к светской истории. Это видно
и по постановке данного вопроса, и по его симпатиям в публикаторской деятельности: в
течение жизни он издавал множество светских авторов (Сенеку, Тацита, Ливия и других),
а из церковных, помимо анализируемого нами сочинения, только Тертуллиана (без
комментариев). Первый бой был Беатом Ренаном выигран – римская Курия не только не
возразила ему, но и благосклонно взирала на последующие переиздания текстов по
истории ранней Церкви. Благо от распространения этих текстов было признано
значительно превосходящим ущерб, который церковная традиция (Священное Предание)
могла претерпеть от слишком вольной и непредвзятой постановки некоторых
теоретических проблем.
Последнее издание «Авторов церковной истории», подготовленное Беатом
Ренаном109, несколько отличается от первого. Крупнейшее отличие заключается в том, что
греческий текст Феодорита был заменѐн на специально подготовленный латинский
перевод. Скорее всего, подготовка этого перевода, сделанного блестящим филологом
Иоахимом Камерарием (1500-1574), и стала поводом к переизданию всего корпуса
109
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri IX. Ruffino interprete. Ruffini presbyteri
Aquileiensis, libri II. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri XII,
versi ab Epiphanio Scholastico, adbreviati per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae vocabulum.
Omnia recognita ad antiqua exemplaria Latina, per Beatum Rhenanum. His accesserunt Nicephori ecclesiastica
historia, incerto interprete. Victoris episcopi libri III De persecutione Vvandalica. Theodoriti libri V. nuper ab
Ioachimo Camerario latinitate donati. Basileae, Froben et Episcopius, 1544. 851+36 с.
67
текстов. В конце издания 1544 года помещѐн составленный им же перечень императоров
(Catalogus caesarum). Он охватывает период от Константина Великого до начала IX века,
что отлично стыкуется с уже господствовавшей в XVI веке в Европе теорией «переноса
империи». Кроме этого перечня, публикацию сопровождают некоторые материалы
справочного характера – дополнения биографического характера по поводу некоторых
персонажей Феодорита, список епископов различных церквей, а также краткий перечень
еретических учений, упоминаемых в этой книге110. На последних страницах книги
приводится
богословское
рассуждение
неизвестного
авторства
«О
сущности
и
субстанции», а также письмо Василия Великого о различии между сущностью и
субстанцией.
Одновременно с последней публикацией Беата Ренана в Париже вышло издание
большей части тех же текстов, но на греческом языке 111. Оно свидетельствует об
определѐнной тенденции на книжном рынке, противоположной той, что мы отметили
выше: наряду со стремлением заполнить нишу, вызванную интересом всѐ более широкой
публики к церковно-историческому чтению, существовало и стремление удовлетворить
запросы интеллектуальной элиты путѐм высококачественного издания текстов на
труднодоступном языке оригинала. Его отличало очень высокое для своего времени
качество, минимум опечаток и неточностей. Помимо обычных текстов, в эту публикацию
были включены и сходные по содержанию отрывки из не дошедшего до нас сочинения
Феодора Анагноста (ум. до 550), донесѐнные до нас Никифором Каллистом Ксанфопулом.
Издание текстов по ранней церковной истории было весьма прибыльным делом, и
это доказывает исключительную актуальность этой тематики в середине XVI века, даже
определѐнный ажиотаж вокруг неѐ. После кончины Беата Ренана издатель Фробен не стал
перекрывать золотую жилу и предпринял ещѐ несколько переизданий. Новые публикации
помог подготовить известный богослов Вольфганг Мускулюс (Мюслин, 1497-1563). Уже
через два года после кончины Беата Ренана, в 1549 году, вышло новое издание 112; для
110
Ibid. P. 834-840. INDICATIO HAERESEΩN quarum in hoc scripto mentio est. Отметим уникальный в
данной работе случай – написание слова на двух языках одновременно!
111
Έθθιεζηαζηηθήο ἱζηνξίαο Επζεβίνπ ηνῦ Πακθίινπ ἐπηζθόπνπ θαη Σαξδὰο ηεο παιαηζίλπο βηβιία η'. Τνπ ἀπηνῦ
εἰζ ηνλ βίνο ηνῦ καθαξίνπ θνλζηαληίλνπ βαζηιέσο ιόγνη ε'. Σσθξάηηο ζρνιαζηηθνῦ βηβιία δ'. Θενδσξίηνπ
ἐπηζθόπνπ θύξνπ βηβιία ε'. Εθινγῶλ ἀπὸ ηεο ἐθθιεζηαζηηθῆο ἰζηνξίαο ζενδώξνπ ἀλαγλώζηνπ βηβιία β'. Εξκείνπ
ζσδνκέλνπ ζαιακηλίνπ βηβιία ζ'. Επαγξίνπ ζρνιαζηηθνῦ ἐθθιεζηαζηηθῆο ἰζηνξίαο βηβιία ο'. Lutetiae Parisiorum,
1544. 353 л. Это издание также использовалось для подготовки «Центурий» - его экземпляр попал в
Вольфенбюттельскую Библиотеку герцога Августа вместе с другими книгами из частного собрания Флация.
Текст «Центурий» содержит обильные отсылки на «Никифора Каллиста», имеющие в виду именно это
издание.
112
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi historiae Ecclesiasticae lib. X.
Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De
vita Constantini, Musculo interprete. lib. V. Socratis Scholastici Constantinopolitani, Idem interprete lib. VII.
Theodoriti episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib.
68
издания 1554 года113 были подготовлены некоторые новые переводы с греческого языка;
текст Феодорита остался в версии Иоахима Камерария.
Мускулюс проделал большую работу, которая, впрочем, носит некоторые следы
спешки. Бросается в глаза, что теперь текст Евсевия состоит не из 9, а из 10 книг, а
«Трѐхчастная история» разделена на три отдельные книги различного авторства. Всем
отдельным книгам, на которые разбиты помещѐнные в издание сочинения, предпосланы
краткие оглавления, не особенно тщательно подготовленные составителем.
Мускулюс посвятил свой труд «королю Англии и Франции, государю Ирландии,
Защитнику христианской веры» Эдуарду VI. Для такого посвящения имеется интересный
предлог: как известно, Константин, «некогда успешнейший поборник христианской
веры», после кончины отца своего Констанция первым делом усмирил Британию,
«воспользовавшись помощью небес, погасил тиранию нечестивцев и сумел утвердить
христианскую религию». Посвящение датировано 11 июля 1549 года и подписано из
Берна; по традиции, оно дублируется без изменений (в том числе в датировке) и во втором
издании.
Разделение
«Трѐхчастной
истории»
на
изначальные
элементы
было
продуманным шагом.
Этим же пятнадцати книгам Евсевия следуют семь Сократа, пять Феодорита и
девять Созомена; они извлечены из того материала, который свален в одну кучу в
истории, называемой «Трѐхчастной» (Tripartitam). Видимо, вряд ли мне нужно
предупреждать о том, что лучше изучать (сочинения) этих авторов по отдельности,
чем блуждать в выдержках, которые обычно из них делаются из них114.
Перевод Камерария Мускулюс решил оставить без изменений, сочтя его, очевидно,
удовлетворительным по качеству. Сокращению подверглись только некоторые книги,
повествующие о сюжетах, далѐких от Рима и католической церкви.
IX. Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, Idem interprete lib. II. Evagrii Scholastici, Idem
interprete lib. VI. Basileae, Froben et Episcopius, 1549. 890 с.
113
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebij Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi historiae Ecclesiasticae. lib. X.
Vuolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae Ecclesiasticae. lib. II. Eusebij Pamphili De
vita Constantini, Musculo interprete. lib. V. Socratis Scholastici Constantinopolitani, Idem interprete lib. VII.
Theodoriti episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete. lib. V. Hermij Sozomeni Salaminij, Musculo interprete.
lib. IX. Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, lib. II Idem interprete. Evagrij Scholastici, Idem
interprete. lib. VI. Index memorabilium rerum sub finem additus est copiosissimus. Basilii Magni epistola ad
Gregorium fratrem suum De discrimine inter Essentiam et Substantiam. Basel, Hier. Froben et Nic. Episcopius,
1554. 506 л.
114
Ibid. Epistola, p. 4.
69
Здесь мы излагаем и представляем Твоему Величеству, о милостивейший король,
латинскую версию того, что учѐнейший муж Иоахим Камерарий перевѐл из пяти книг
Феодорита и что я счѐл нецелесообразным отвергать. Относительно моего перевода я
могу лишь искренне заверить, что ничего не добавил в него, что бы выдумал сам, хотя
кое-что на мой вкус было (описано) слишком кратко, главным образом то, что
расходится в описании с тем, что представлено в последующих нескольких текстах, а
также со свидетельствами предшествовавших исторических сочинений. И тем не менее,
поскольку в данной работе я выступаю не в роли судьи, а в роли переводчика, я не считал
своей задачей ничего иного, кроме как научить говорящих по-гречески историографов
молвить, а порой – и бормотать, по-латыни115.
Сохранил Мускулюс и паратексты, подготовленные Камерарием для издания Беата
Ренана. Так, в его издании присутствует и «Каталог цезарей» от Константина Великого до
Феодосия II, и краткий перечень епископов, и «Указатель ересей» (с сохранением
двуязычного написания последнего слова!), и рассуждение De essentia et substantia, и
письмо Василия Великого брату своему Григорию. Общий Указатель был составлен
специальным работником – Иоганном Гастием. В самом конце Индекса был приведѐн
довольно скудный (по сравнению с обильными цитатами) перечень цитируемых на
страницах книги локусов Писания.
Этому изданию тоже было суждено стать стереотипным. К публикации 1557
года116 был добавлен (также в переводе Мускулюса) «Синопсис» Дорофея Тирского117.
Сохранено и посвящение с его датировкой, и обильные непереведѐнные греческие цитаты
в нѐм из Евсевия и Иоанна Златоуста (в обращениях это было в высшей степени не
принято и могло быть плохо воспринято адресатом). «Синопсис» Дорофея содержит
справочный материал о жизни и главным образом о смерти и – часто – погребении
апостолов (включая апостолов от 70). Симона Петра Дорофей называет «корифеем
апостолов»; Мускулюс не стал исправлять оригинал, возможно, обнаруживая в данном
факте отсутствие симпатий в адрес лютеранства. Известие об апостоле Андрее содержит
ошеломительные детали и выглядит следующим образом:
115
Ibid.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi historiae Ecclesiasticae lib. X.
Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De
vita Constantini, Musculo interprete. lib. V. Socratis Scholastici Constantinopolitani, Idem interprete lib. VII.
Theodoriti episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib.
IX. Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, Idem interprete lib. II. Evagrii Scholastici, Idem
interprete lib. VI. Dorothei, episcopi Tyri Synopsis, Apostolorum ac Prophetarum vitas complectens, Idem
interprete, nunc primum in lucem aedita. Basileae 1557. 819 с.
117
Ibid. P. 806-819.
116
70
Брат Симона Петра Андрей, как передают наши предшественники, проповедовал
Евангелие Господа Иисуса Христа в Скифии, Согдиане, среди саков и в окрестностях
Севастополя, где живут эфиопские крестьяне. Похоронен же он был в городе Ахайе
после того, как был распят царѐм эдесситов Эгеем118.
Дорофей приводит также несколько менее скудную биографическую информацию
о ветхозаветных пророках. В конце перечня, после Даниила, приведены также сведения о
пророках, «которые не распространили никаких книг» - Илия, Елисей, Захария, Нафан,
Ахий, Иоаф, Азария.
Третье издание мастерской Иеронима Фробена и Николая Епископия 1562 года119 в
основной своей части слово в слово повторяет предыдущее (спустя пять лет оно только
было набрано заново, о чѐм свидетельствует небольшое отклонение в вѐрстке).
Примечательно только вполне справедливое отсутствие в названии книги указания на
первоиздание паратекста Дорофея, а также совершенно иной указатель. Из него исчезло
обозначение авторства, из чего можно предположить, что его сделал рядовой работник
издательства. Он стал конкретнее и точнее, но существенно короче (14 листов вместо 25),
появился список опечаток. По нашим сведениям, более поздних изданий этой антологии
по ранней церковной истории в XVI веке предпринято не было.
Подводя итог сказанному выше, отметим, что публикации Беата Ренана
«подготовили
почву»
для
центуриаторов;
Вольфганг
Мускулюс
несколько
усовершенствовал продукт, но существенного вклада в прогресс уже не внѐс. Скорее, его
заслуга видится в продолжении тиражирования известных текстов, в поддерживании
интереса к темам из ранней церковной истории, а также в том, что он своими трудами
неопровержимо доказал нам актуальность этого вопроса на всех уровнях, даже на
коммерческом120. Историческая литература обходит молчанием важнейший факт
интеллектуальной жизни середины XVI века – резкое увеличение «учѐного» интереса к
церковной истории. Этот интерес был подпитан множеством экземпляров текстов по
118
119
Ibid. P. 806.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi historiae Ecclesiasticae lib. X.
Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De
vita Constantini, Musculo interprete. lib. V. Socratis Scholastici Constantinopolitani, Idem interprete lib. VII.
Theodoriti episcopi Cyri, Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib.
IX. Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, Idem interprete lib. II. Evagrii Scholastici, Idem
interprete lib. VI. Dorothei, episcopi Tyri Synopsis, Apostolorum ac Prophetarum vitas complectens, Idem
interprete. Basileae 1562. 818 с.
120
Отметим, что именно успех Мускулюса, многократное переиздание его текстов давало центуриаторам
дополнительный повод надеяться на нахождение необходимых для издания средств, а также на успешность
«Магдебургских Центурий» как коммерческого проекта их издателя.
71
этому предмету, в которых интересные исторические сведения перемежались не только
рассуждениями на тему морали, но и явными легендами. Неоднозначность их
стимулировала обращение к оригинальным версиям, а также рост любопытства публики,
недостаточно для этого образованной. Мы можем констатировать интересное явление,
проявившееся ещѐ раз в начале европейского Просвещения: доступность в целом
известных текстов вызвала обострение жажды новых текстов со стороны учѐной публики.
Когда древние церковные истории были приведены в порядок, выяснилось, что церковноисторический материал очень востребован: в особенности это касалось столетий, не
освещѐнных в этих книгах. Если роль публикаций Беата Ренана и парижского издания в
эволюции собственно исторического знания значительно уступает по масштабу
некоторым другим книгам этого времени, то в отношении подготовки общественного
мнения можно констатировать весомый результат. Эти книги обозначили высшую точку
сугубо гуманистического интереса к теме, а одновременно – и тупиковую ситуацию:
издание для самых подготовленных читателей не стимулировало более широкого
массового интереса, считавшиеся классическими тексты не удовлетворяли новых
запросов, целые века оказывались
«за
бортом» изданий по истории церкви.
Филологической критики для движения исторического познания вперѐд было уже явно
недостаточно.
72
§3. Зарождение лютеранской церковно-исторической концепции. С. Франк
Сочинения немецкого мистика Себастьяна Франка (1499 – 1542) были, несмотря на
разрыв
с
церковно-исторической
традицией,
важным
элементом
европейского
историографического пейзажа первой половины XVI века. Дело здесь не только в том,
что, во многом благодаря конфликту с ведущими реформаторами и глубоким
расхождениям во взглядах на историю с Лютером и его ближайшими соратниками, Франк
пользовался значительной популярностью, а его сочинения широко читались и
переиздавались. Причина, по которой мы обращаемся к краткому рассмотрению
исторических сочинений Франка в данной работе, заключается в закономерности их
появления, в возможности такого новаторского подхода к истории, основанного к тому же
на своеобразной мировоззренческой базе.
Творчество Себастьяна Франка обычно исследуется под углом зрения его
оригинальных религиозно-философских взглядов. Исторические сочинения его также
привлекали внимание исследователей, ни один из которых, однако, не выделял его
историко-церковных взглядов из общей концепции121. Одобрительный отзыв о Франке из
уст Карла Маркса способствовал некоторому интересу к данной персоне, и в
отечественной науке он оказался заметно выделен его среди большинства других
протестантских богословов и историков первой половины XVI века 122. Ярко выраженные
классовые взгляды Себастьяна Франка, вкупе с его отрицанием схоластики и безусловным
новаторством, стимулировали историков; тем не менее, в книгах анализируются в
основном социальные и общеисторические теории этого интереснейшего автора, и
гораздо реже – его взгляды на историю Церкви. Интерес к его идеям несколько снижает
тот факт, что как представители противоборствующей конфессии, так и лидеры
лютеранского лагеря не разделяли его взглядов и преследовали (или игнорировали) его
идеи. На наш взгляд, настало время более тщательного рассмотрения историко-церковной
концепции Себастьяна Франка, помещѐнной в более широкий контекст ранней
протестантской историографии.
Основные положения концепция церковной истории Себастьяна Франка изложены
в книге «Хроника, летопись и историческая Библия от начала мира до 1530 года»
121
Onken H. Sebastian Franck als Historiker//Historisch-politische Aufsätze und Reden. München-Berlin, 1914;
Левен В. Г. Исторические взгляды Себастьяна Франка// Средние века. В. 6, М., 1955. С. 268-294; Verheus S.
L. Zeugnis und Gericht: kirchengeschichtliche Betrachtungen bei Sebastian Franck und Matthias Flacius.
Nieuwkoop, 1971. Müller J.-D. (Ed.) Sebastian Franck (1499-1542). Wiesbaden, 1993. 121 с.
122
Цит. по: Левен В. Г. Цит. соч., с. 270.
73
(1531)123. Третья часть этой книги представляет собой историю христианской церкви, с
течением времени трансформировавшейся в историю папства.
Эта книга представляет собой объѐмный труд по хронографии и библейской
хронологии, содержащий также обильную общеисторическую и историко-церковную
информацию. Такой жанр был в XVI веке весьма популярным и почти гарантировал
материальный успех. Сочинение Себастьяна Франка выделяется среди себе подобных
оригинальным
авторским
взглядом,
связывающим
части
столь
разнородного
повествования воедино.
Прежде всего, в реконструкцию Франка обильно включѐн материал из
классических древностей. Помимо обычных для позднегуманистической исторической
литературы свидетельств, подтверждающих тезисы Библии, во множестве привлечены
также сведения из языческой религии. Рассказ о Меркурии, Геракле, других героях
мифологии соседствует со страницами хронологических выкладок из ветхозаветной
истории. Этому посвящѐн первый том сочинения. Второй реконструирует историю
светских государств после эпохи Октавиана Августа, повторяя обычную фактологию (она
встречается у Хедио или – чуть позднее – в «Хронике Кариона»). Основное внимание
уделяется преемственности между императорами Древнего Рима, Византии (до конца VIII
века) и Запада (Священной Римской империи) в соответствии с господствовавшей
идеологией
«переноса
империи» с
Востока
на
Запад.
Третий
том
посвящѐн
непосредственно истории христианской Церкви.
Исходя из деления труда на тома, В. Г. Левен утверждал, что Франк создал учение
о двух эпохах истории – ветхозаветной и новозаветной124. Конечно, Франк не мог
«создать» нечто, бывшее общим местом не только для всей ранней лютеранской
историографии (включая Лютера и Меланхтона), но и в более широком смысле для
критического направления в Церкви XV-начала XVI веков. Себастьян Франк особенно
выделял социальную составляющую христианского учения; для него печальные страницы
в истории Церкви начались тогда, когда церковные общины начали изменять
первоначальной бедности и отклоняться от своего первоначального предназначения.
Основные вехи церковной истории воспринимались Франком примерно так же, как
Хедио, Беатом Ренаном и рядом других современников: высшая точка государственного
устройства приходится на эпоху Августа, Иисус явился людям именно в этот момент,
чтобы создать идеальную церковь в идеальном государстве. Безусловным достижением
123
[Franck S.] Chronica, Zeytbuch und geschycht bibel von anbegyn biß inn diß gegenwertig M.D.xxxj. jar: Darinn
beide Gottes vnd der welt lauff, hendel, art, wort, werck, thun, lassen, kriegen, wesen, und leben ersehen und
begriffen wirt. Mit vil wunderbarlichen gedechtniß würdigen worten und thatten. […] Straßburg, 1531. 66 с.
124
Левен В. Г.. Цит. соч. C. 292.
74
Себастьяна Франка, как отмечал ещѐ Д. Н. Егоров125, было различие между
историческими личностями и институтами, которые они представляли. Дальнейшая
история Церкви в изложении Франка – это история постепенного грехопадения Церкви;
он
лишь
придаѐт
этому
процессу
подчѐркнуто
социальный
смысл.
Впрочем,
демократичность мышления Себастьяна Франка давно уже поставлена историками под
сомнение. В частности, несмотря на демократические симпатии, Франк считает идеальной
формой правления монархию. Она идеальна хотя бы потому, что именно она
господствовала в мире в момент Первого пришествия!126
Заслуга В. Г. Левена состоит в том, что для оценки идей Франка он предложил
сравнение с другим компендиумом широко распространѐнных сведений из истории –
«Хроникой Кариона», вышедшей под редакцией Меланхтона127. С. Ферхѐйс сопоставлял
взгляды Франка с идеями «Магдебургских Центурий»128. Советский историк исходил из
представлений о реакционности идей Меланхтона и представлял полемику между двумя
мыслителями в несколько манихейском виде. Как бы то ни было, взгляды Меланхтона
носили не реакционный, а скорее компромиссный характер, а написанное им
произведение служило для распространения лютеранской историко-церковной концепции
вширь, а не вглубь. Идеи же Себастьяна Франка были, несмотря на свою неординарность,
широко распространены среди читающего общества – об этом говорит хотя бы большое
количество переизданий, явных спутников коммерческого успеха книги в XVI веке.
Симон Ферхѐйс ставит в заслугу Франку то обстоятельство, что он превратил
светскую историю из некоего приложения к Священной в отдельную самостоятельную
дисциплину, однако к такому странному выводу можно прийти только путѐм сравнения
«Хроники» с «Магдебургскими Центуриями» - произведением, целиком посвящѐнным
истории христианской Церкви. Мы считаем, что в действительности главной заслугой
Франка было признание равноправия светской и церковной истории христианской эры.
Обсуждая многие темы, характерные для последующей лютеранской историографии –
бенефиции, сложную структуру церкви, симонию и прочие злоупотребления – он выделил
их из контекста более общей проблемы отношений между церковной и светской властью.
Последующая лютеранская историография от такой практики откажется, но уровень
ставившихся Франком в его сочинении проблем значительно превосходит «Хронику
Кариона», да и другие современные ему произведения.
125
Егоров Д. Н. История средних веков (историография и источниковедение). М., 1913. C. 60.
См. Verheus S. Op. cit. S. 98.
127
Chronica Ioannis Carionis. Halae, Suevorum, 1537 и мн. др. изд.
128
Verheus S. Op. cit. S. 95.
126
75
Однозначная заслуга Франка заключалась в том, что ветхозаветная история
инкорпорировалась
в
более
широкое
концептуальное
построение
и
не
была
противопоставлена христианской эре так, как это было сделано, к примеру, в «Каталоге
свидетелей истины» Флация Иллирика129.
Франк, в отличие от Меланхтона, например, понимает различие между «видимой»
и «невидимой» Церковью, то есть между пониманием Церкви как институции и как
вселенской христианской общины. В этом отношении Франк действительно оказался
далеко впереди своего времени; эта линия получит своѐ развитие лишь в «Магдебургских
Центуриях». Впрочем, в «Исторической Библии» различие между этими двумя понятиями
не проведено, что приводит к определѐнным противоречиям. Преодолеть его в рамках
данной работы оказалось Франку не под силу; это будет сделано в позднейшей
историографии. Тем не менее, в историографии принято несколько абсолютизировать
конфронтацию Франка и «ортодоксального» лютеранства. Тезис об оппозиционности
Франка Лютеру и его теологии был существенно уточнѐн в трудах Хорста Вайгельта130.
Для книги Франка характерно нечѐткое понимание отношений между Церковью (в
одном или другом понимании этого термина) и христианским Учением. Является ли
Церковь организмом, необходимым для существования учения, или же она представляет
собой более общее явление, а Учение – более частное внутри неѐ? Эта проблема также
будет решаться позднее, в межконфессиональных дебатах второй половины XVI века.
Определѐнную точку на долгие годы поставит лишь католический кардинал Чезаре
Баронио в «Церковных Анналах» (1589-1607).
В отличие от большинства своих современников, Франк по-новому определяет
цель своего труда. Отринув традиционные для позднего гуманизма рассуждения об
утилитарности истории или еѐ способности «развлекать и учить», он неоднократно
говорит о «свидетельстве» (Zeugnis), которое представляет его книга о былых временам, и
«суде» (Gericht), на который будет способен читатель после прочтения книги. Тем самым
читатель возносится на небывалую для историографии XVI века высоту, с которой он
будет судить былые эпохи и их деятелей, опираясь на «свидетельские показания»
истории. Ян-Дирк Мюллер отмечал131, что Франк как бы «не хотел» быть автором: по его
собственному мнению, он лишь передавал определѐнные сведения, первопричиной
129
Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, opus varia rerum, hoc praesertim
tempore scitu dignissimarum, cognitione refertum..., cum Praefatione Matth. Flacii Illyrici. Basileae, Oporinus,
1556.
130
Weigelt H. Sebastian Franck und die lutherische Reformation. Gütersloh, 1972. 84 с. Синтетическая версия
этой концепции была опубликована в 1993 году. Weigelt H. Sebastian Franck und die lutherische Reformation.
Die Reformation im Spiegel des Werkes Sebastian Francks/ Müller J.-D. (Ed.) Sebastian Franck (1499-1542).
Wiesbaden, 1993. S. 39-52.
131
Müller J.-D. Op. cit. S. 21f.
76
которых была Божья воля. Сам Франк прибегал для описания своей роли в создании труда
к неожиданным и красочным метафорам: о собирающем растения аптекаре, о храмовом
сосуде, которым пользуются по надобности, а также – очень смело – о собственном
«воровстве» из сокровищницы фактов или о «попрошайничестве»132. На многих
страницах своего труда он претендует лишь на то, чтобы свидетельствовать, а не чтобы
поучать. На титульном листе его «Хроники» присутствует гордое упоминание о том, что
ничего подобного на немецком языке ещѐ не появлялось: в этом видел Франк свою
основную заслугу. Такое позиционирование автора, наряду с совершенно необычным
отношением
к
читателю,
добавляло
оригинальности
авторской
концепции
и
скандальности самой книги. Последователей в этом смысле в XVI веке у Франка не
обнаружилось.
132
См., например, Franck S. Chronica… Bl. aiii.
77
§4. Историческая литература для массового читателя. Х. Эгенольф
Исторический жанр, представленный в литературе эпохи Возрождения особенно
богато, получил с изобретением книгопечатания новый толчок к развитию. Новые
стимулы коснулись, конечно, «передовой» исторической литературы (это определение
вообще очень условно и в данном контексте означает лишь те произведения, которые в
силу своего новаторского характера или особенного воздействия на умы становились
этапами совершенствования механизмов исследования, изложения и т. п.). Культура
Возрождения породила, среди многого другого, и пласт такой исторической литературы, к
которой вышеуказанное определение не может быть применено даже в кавычках.
Несмотря на то, что существование исторической литературы, написанной из
сиюминутных
исторические
соображений,
тексты,
давно
известно
предназначенные
для
историкам133,
«массового
подробному
читателя»,
анализу
также
пока
подвергнуты не были. На фоне роста грамотности различных слоѐв населения происходит
также рост рыночного «предложения» - разного рода текстов, предназначенных для
удовлетворения спроса не относящихся к интеллектуальной или социальной элите групп –
купцов, лиц свободных профессий, клира, мелких государственных или частных
служащих и так далее.
В контексте нашего исследования анализ новаторства в историографическом
контексте должен опираться не только на картину линейной эволюции «передовых»
методов (то есть главным образом тех, которые легли в основу дальнейшего
профессионального совершенствования «ремесла историка»), но и на более широкий
интеллектуальный «фон», которым, увы, историки часто пренебрегают. Этот «фон»
составлен из десятков исторических произведений, составленных (почти всегда без чѐтких
критических критериев) из сочинений предшественников, порой – даже отдалѐнных во
времени. Задачей автора (компилятора) была не популяризация своих источников и не
«продвижение» той или иной концепции, а заполнение рыночной ниши, требующей
исторического «чтива», основанного не на художественной, а на хоть сколько-нибудь
научной информации. С определѐнной натяжкой такую литературу можно назвать
«научно-популярной», поскольку она основывалась всѐ-таки на научных трудах, хоть и
методически устаревших; популярной она становилась благодаря непритязательности
содержания, сознательному уходу автора-компилятора от актуальных идеологических
конфликтов, а маркером этого типа литературы является невысокая цена издания. Новая
133
См. Фойгт Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма. М., К. Т. Солдатенков. 2
т. М., 1884, 1885. 455+540 с.
78
книга должна была быть дешевле экземпляров тех текстов, на основе которых она была
создана; она должна была быть доступна более широким слоям населения, быть
несложной для их восприятия, содержать привлекательную с рыночной точки зрения
информацию134.
В первой половине XVI века, в эпоху особенно активного формирования
европейского книжного рынка, появление исторической литературы для массового
читателя
играло
особенно
важную
роль
в
приготовлении
почвы
для
межконфессионального конфликта. Среди тех, кто внимал Лютеру и его последователям,
было немало тех людей, которые приобщились к чтению благодаря появлению в ярмарках
и в лавках посвящѐнных истории недорогих книжек. Интересно отметить, что, хотя
информация религиозного содержания присутствовала в этой «массовой» литературе
довольно широко, еѐ количество с течением времени заметно увеличивается, что является,
в свою очередь, значимым маркером роста общественного интереса к религиозной
тематике. Отметим, что понятие «массовая литература» должно быть применяемо к
исследуемой эпохе с особенной осторожностью, поскольку ни о каком «массовом» с
нашей нынешней точки зрения читателе речи идти ещѐ, конечно, не могло.
Ярким примером для изучения описанной выше тенденции может стать творчество
известного страсбургского издателя Христиана Эгенольфа135 (1502-1555). В 1516 году
Эгенольф начал учѐбу в университете Майнца; там же – на родине книгопечатания – он
обучился ряду ремѐсел, связанных с книжным производством. Самым технологически
сложным было литьѐ шрифтов из различных сплавов; для того, чтобы овладеть им в
совершенстве, Эгенольф отправился (видимо, в 1524 году) в Страсбург, к издателю
Вольфгангу Кѐпфелю. В 1528 году молодому мастеру удалось открыть собственную
мастерскую, но уже в конце 1530 года он был вынужден покинуть признанный
европейский центр книжного производства и переехать во Франкфурт-на-Майне. Во
134
В 70-80-е годы ХХ веканачалось изучение народной и развлекательной литературы как составной части
историографии; до сих пор, впрочем, это научное направление не набрало ещѐ максимальных оборотов,
особенно в том, что касается историографии XVI века. См. Keute H. Reformation und Geschichte. Kaspar
Hedio als Historiograph. Göttingen, 1980. S. 36. Тот же автор отмечал (Ibidem, S. 37): «Самыми популярными
книгами по истории чаще всего были не самые учѐные или самые оригинальные: достаточно вспомнить
только о «Всемирной хронике» Шеделя или «Хронике императоров» Куспиниана».
135
В современных автору текстах, в том числе – в его собственных сочинениях, встречается написание
Egenolph, Egenolff и Egenolf. Мы предлагаем наиболее удобочитаемый на русском языке вариант.
Литературы об этом интереснейшем представителе позднего немецкого Возрождения, человеке различных
интересов, по основному роду занятий – книгоиздателе, совсем не много. Недавняя публикация Christian
Egenolff 1502-1555. Ein Frankfurter Meister des frühen Buchdrucks aus Hadamar. Limburg, 2002 посвящена
главным образом краеведческому материалу и библиографической информации. Не утратила научного
значения статья Йозефа Бенцинга из Neue Deutsche Biographie, Bd. 4 (1959). S. 325-326, а также справочные
издания Benzing J. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden, 1963.
565с.; Reske Ch. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: auf der Grundlage des
gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Wiesbaden, 2007. 1090 с.
79
Франкфурте конкуренция отсутствовала, а спрос на книжную продукцию был велик.
Переезд и получение патента на книгоиздательскую деятельность были беспроигрышным
ходом: в городе, знаменитом своей книжной ярмаркой, отсутствовало собственное
стабильное книжное производство! После открытия издательства Эгенольфа книжное
производство во Франкфурте уже никогда не прерывалось. Кроме того, на протяжении
нескольких лет работали филиалы в Аугсбурге и Марбурге, где Эгенольф был даже
официальным университетским издателем. Йозеф Бенцинг насчитал 45 наименований
книг, выпущенных этим издательством в Страсбурге, около 90 в Марбурге и свыше 430 во
Франкфурте, отмечая, что эти данные, скорее всего, не полны136. В искусстве
изготовления шрифтов Эгенольф также достиг небывалых высот: большинство
современных ему германских типографий заказывало шрифты у него 137.
Как и другие издатели той эпохи, Эгенольф имел свои выраженные тематические
предпочтения. Особенно охотно (и коммерчески успешно) он издавал книги по ботанике,
медицине, в меньшей мере – по богословию; популярны были справочники
франкфуртских законов, вышедшие в типографии Эгенольфа в более позднюю эпоху.
Больше всего это издательство прославилось своими нотными публикациями, для чего
авторы модифицировали заимствованные из Франции стандарты печатной нотной
грамоты, что внесло значительный вклад в формирование современного нотного письма.
Приобретший широкий гуманистический кругозор в одном из лучших европейских
университетов, Христиан Эгенольф и сам изредка выступал в роли автора. Из списка
работ Эгенольфа легко сделать вывод, что история не занимала центрального места в
тематике его интеллектуальной деятельности. Несмотря на довольно широкий круг
интересов, главной для книгоиздателя была всѐ же предпринимательская деятельность,
сопровождавшаяся щедрым материальным стимулом. Помимо сочинений по ботанике и
нескольких полемических текстов, он оставил нам и историческое сочинение –
«Хронику».
За
основу
своего
текста
Эгенольф
взял
весьма
популярную
в
предшествующем столетии «Немецкую хронику» Генриха Штайнхѐвеля 138, сыгравшую в
своѐ время (1473 год) важную роль в становлении общегерманской исторической
перспективы. Хроника Штайнхѐвеля, дополненная и доведѐнная до эпохи императора
Карла V «опытным» летописцем Якобом Кѐбелем, была переиздана Христианом
136
Neue Deutsche Biographie. Bd. 4, Berlin, Duncker und Humblot, 1959. S. 325.
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 6, Leipzig, Duncker und Humblot, 1877. S. 467-468.
138
(Steinhöwel H.) Tütsche Cronica von anfang der welt vncz vff keiser fridrich. Ulm, 1473. 36л. (далее –
Steinhöwel…). Генрих Штайнхѐвель (1412-1480) – известный немецкий гуманист, известный своими
переводами (в первую очередь, авторов итальянского Ренессанса). «Немецкая хроника» - первый печатный
текст такого рода, опубликованный в качестве приложения к сборнику переводов. Распространѐнная в
Интернете версия, согласно которой сочинение Эгенольфа представляют собой редакцию «Нюрнбергской
хроники» Хартмана Шеделя, является несостоятельной.
137
80
Эгенольфом во Франкфурте в 1531 году139. Некоторое время спустя Эгенольф пожелал
развить коммерческий успех, издав в 1535 году под собственным именем глубоко
переработанный и существенно расширенный текст140.
Жанр хроники был самым популярным в немецкой исторической литературе
второй половины XV и первой половины XVI веков. Наиболее известными примерами
являются произведения Себастьяна Франка и знаменитая «Хроника Кариона». Перу
Франка принадлежат несколько произведений, построенных по анналистскому принципу
и имеющих слово «хроника» в заглавии. Это – «Турецкая хроника» 1530 года,
«Историческая библия» 1531 года, и, наконец, «Немецкая хроника» 1538 года. «Хроника
Кариона» - текст особой судьбы. Известный астролог и предсказатель Иоганн Карион
(1499-1538) издал в 1532 году краткую «Всемирную хронику»141. Эта работа сыграла
значительную роль в становлении общегерманской исторической перспективы, причѐм
отчасти «вопреки» своему содержанию. Дело в том, что Карион, не имея никакого опыта в
занятии историей, собрал по имеющимся в его распоряжении другим «Хроникам»
сведения и аккуратно расположил их, совместив две схемы популярные в те времена
хронологические схемы – умозрительную, имевшую определѐнное хождение «схему 6000
лет», выведенную из апокрифического пророчества, и прочно обосновавшуюся в
исторических сочинениях «схему четырѐх монархий», основанную, в свою очередь, на
предсказании пророка Даниила142. Иоганн Авентин также отдал должное этому жанру143.
Жанр «Хроники» (Annales) предполагал, что события в тексте располагаются в
хронологическом порядке, а работа историка должна укладываться в него, не нарушая
139
(Egenolf Ch.) Beschreibunge einer Chronic, Von anfang der Welt Biß auff Keyser Friderich den Dritten kurtz
Sumirt vor Jarn durch den Hochgelerten Hern Heinricen Steinhowel Doctorn Stattartzt zu Ulm Aussgezogen vnnd
gemacht. Vnnd ietzo durch Erfarnen H. Jacob Köbeln Stattschreiber zu Oppenheym an etlichen Ortenn gemeret vnd
auff Keyser Carlen den V. erstreckt. Mit anhang beschreibung der zeit Isidori. Franckfurt am Meyn, Christian
Egenolph, 1531. 53 л.
140
(Egenolf Ch.) Chronica Beschreibung und gemeyne anzeyge Vonn aller Wellt herkommen Fürnamen Lannden
Stande Eygenschafften Historien wesen manier sitten an und abgang. Auss den glaubwirdigsten Historie On all
Glose und Zusatz Nach Historischer Warheit beschriben. (137 ff). Franckenfort am Meyn, Egenolff, 1535. 137 л.
(далее – Beschreibung…).
141
Chronica durch Magistrum Johan Carion vleissig zusamen gezogen meniglich nützlich zu lesen. Wittenberg,
1532. 129 л.
142
Е. А Косминский считал приверженность «германской историографии» этой схеме признаком еѐ
отсталости от итальянской гуманистической исторической мысли (см. Косминский Е. А. Цит. соч., с. 89), в
то время как для нас эта схема является свидетельством приоритета светского политического принципа
(империи) над церковным (чередой пап).
143
Латинский текст Annales ducum Boiariae вышел в 1521, а немецкий вариант – «Баварская хроника» - в
1532 г. См. подробнее Доронин А. В. Историк и его миф. Иоганн Авентин (1477-1534). М., 2007. Ос. с. 1017.
81
хода времѐн. Типологическое различие между понятиями Historia и Annales давно
устоялось – его корни уходят в античность144.
Если в период 1450-1550 годов в итальянских государствах, к примеру, жанр
«Хроники» уходит в арьергард историографической моды145, то в Германии он, напротив,
обретает всѐ большую популярность. В чѐм здесь дело? На выбор жанра могли влиять
либо спонсоры исторического произведения (будь то монарх или муниципалитет), либо
предпочтения автора, не связанного узами зависимости от своего покровителя. Монарх,
заказывающий (напрямую или через посредников) исторический труд у подконтрольного
автора, более всего заинтересован в прославлении своих собственных деяний и величия
династии, а это значит, что соображения объективности подбора данных для сочинения,
критерии этой объективности отступают на второй план. «Хроника» претендует на
определѐнную независимость от «творческой» стороны исторической реконструкции –
факты, по крайней мере внешне, превалируют над авторским элементом. Конечно, именно
автор подбирает эти факты и выстраивает их в определѐнную последовательность, и
именно в этом проявляется его авторская позиция и то «послание», которое он своим
историческим трудом стремится донести до читателей. При этом очевидно, что
«послание», заключающееся в той или иной «Хронике», будет более доступно для
восприятия публики, не особо искушѐнной в условностях исторического жанра.
Историческое
сочинение
Эгенольфа
весьма
репрезентативно
для
нашего
исследования, прскольку он не собирался влиять на общественное сознание и доказывать
какую-либо историческую истину: его текст – это товар на продажу. Чтобы составить
правильное представление о среде, в которой появилось то или иное выдающееся
произведение, необходимо не только напряжѐнно искать его предшественников (которых
может и не быть, или которых можно увидеть там, где их не было), но и восстанавливать
«нулевой уровень», массовую литературу и представления широких масс неспециалистов.
Безусловно, определяющим в изучении книжной полемики является столкновение мнений
противников; однако, помимо них есть и другая читающая масса, которая, кстати, и
определяет, в конце концов, победителя. Эту массу вполне возможно охарактеризовать
через посредство текстов, которые она читает.
Текст рассматриваемой книги Эгенольфа состоит из нескольких субстратов,
каждый из которых может быть изучен и отдельно от других. Прежде всего, это текст
144
Классическое различие между этими жанрами было сформулировано Авлом Геллием («Аттические
ночи», 5-18). См. Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Воронеж, изд-во Воронежского
университета, 1979. С. 152 и далее.
145
См. Андронов И. Е. Формирование национальной историографии в Неаполе эпохи Возрождения. В:
Средние Века. Исследования по истории Средневековья и раннего Нового Времени. Вып. 72 (1-2). М.,
Наука, 2011. C. 130-152.
82
Штайнхѐвеля. Он является композиционной основой, от него отталкивается Эгенольф для
создания собственной исторической концепции. Следы текста Штайнхѐвеля заметны
повсеместно; для основной части текста они составляют хронологическую канву. И всѐ же
этого недостаточно, чтобы вместе с некоторыми современными немецкими учѐными
рассматривать данную книгу как очередную публикацию «Немецкой хроники». Так было
сделано, к примеру, при подготовке в Марбурге масштабной интернет-публикации
немецкоязычной литературы Возрождения146.
Написанное Эгенольфом краткое вступительное слово следует всем традиционным
канонам такого рода текстов. Следует подчеркнуть, пожалуй, лишь настойчивость автора
в утверждении: весь изложенный далее в книге материал демонстрирует волю Господа.
Типичный для историографии предшествующих эпох топос практической пользы для
читателя определяется двояко – как возможность на основании чтения разобраться в том,
что есть Добро, а что Зло, а также как возможность определения своего положения по
отношению к этим категориям. Отметим этот момент: необходимость «определить свою
позицию» автор выставляет в качестве важного приоритета для своего читателя.
А ещѐ подлинные истории обнаруживают, что они никогда не бывают настолько
дурны, чтобы не принести какую-либо пользу добросердечному читателю. Дурные
покажут, какого примера следует избегать; хорошие нужны для того, чтобы он их
примерял на себя, подражал им, а из иных ситуаций учился их избегать и поступать так,
чтобы они не случались. Ибо богобоязненному человеку проповедуют все твари, как у
Иова в 12 Книге: «спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе.
Или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе птицы морские», как учит нас
и Иисус в Матф. 6 взглянуть на птиц и смотреть на полевые цветы. И у этих созданий и
творений Божьих учится благочестивый человек больше, чем все безбожники из всех
Библий и Писаний.
Поэтому «Истории» пишутся не для того, чтобы в них находить только события
и дивиться им, а для того, чтобы видеть в них Промысл Божий и воспринять его в тиши,
со словами Давидовыми из 8 Псалма на устах, чтобы каждый на Земле с чистыми
чувствами, непредвзято рассмотрит язычников и еретиков, с тем, чтобы отделить
злато от нечистот, чтобы не дать смешать истину с ложью, чтобы почитать эту
истину больше, чем чистое злато, и чтобы любить Господа даже в (деяниях) язычников,
иудеев и еретиков. Так и следует это читать, и тогда польза от этого будет немалой
[…] Здесь ты увидишь грех и искупление его, и наказание за него, справедливость и
146
Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus, URL: http://www.mrfh.de.
83
воздаяние за неѐ, и начало и того, и другого, и возмездие, и результаты, и средства, и
конец его и снова начало. Кто беден, найдѐт здесь своѐ утешение, кто богат и
высокомерен, найдѐт здесь окончательное о себе суждение и печальный исход, Кто
высоко, тот увидит, как он падѐт, кто низко, - как воспрянет147.
Очевидно, эта риторика предназначена не для состоятельных и не для власть
имущих. Ориентация на среднего грамотного горожанина подтверждается, к слову, и
скромностью оформления издания. Книга вышла на недорогой бумаге, еѐ небольшой
объѐм при богатом тематическом разнообразии повествования предполагает не особо
искушѐнную аудиторию, падкую на всякого рода сенсации, легковерную и не требующую
особенных доказательств. Будущий читатель обязательно заметит при выборе книги
крупный шрифт и подчѐркнуто простой язык (разумеется, книга написана на немецком – о
латыни не может быть и речи), обильные портретные иллюстрации (подчас довольно
схематические). Итак, перед нами издание для простолюдинов, для хранения дома (как
отмечали историки148, формат ин фолио предназначен в первую очередь для длительного
стационарного использования, а фолианты большого объѐма – почти исключительно для
длительного хранения информации) и назидательного чтения, возможно, с семьѐй.
Главная декларируемая цель автора – показать, что, поскольку мир есть реализация
божьей воли, то наблюдение за всем произошедшим столь же полезно для праведника, как
и «наблюдение за небесами», то есть знакомство с истинами религии.
Собственно «Хроника» начинается с рассказа о сотворении мира, за которым
следует краткое географическое описание известных автору земель. Помимо германских
земель, хорошо ему знакомых, в описание попадают также Восточная Европа, Прибалтика
и другие части европейского континента; чем дальше они расположены от Германии, тем
более крупными частями земли описываются. Африка описывается целиком, в ней
различаются только Египет и Эфиопия, где «живут удивительные звери и люди»149. Среди
африканских народов встречаются, например, ихтиофаги – питающиеся исключительно
рыбой племена. Автору известен город Каир, а также то, что по величине он «примерно
равен Ульму150 или половине Нюрнберга». В понятие «Германии» относятся, помимо
привычных для нас земель, также Голландия (со всеми историческими землями),
147
148
Beschreibung … F. ij.
См. Шартье Р. Репрезентации письменного текста. В: Шартье Р. Письменная культура и общество. М.,
Новое Издательство, 2006. С. 18-44.
149
Beschreibung … F. 3v.
150
Сравнение Каира с Ульмом напоминает о зависимости текста от книги Штайнхѐвеля и вне перечня
императоров и пап, которые заимствованы из источника целиком.
84
прибалтийские страны, Богемия, Дакия и «полуостров», то есть Дания. Конечно, к ней
относятся и Австрия со всеми историческими землями, и Швейцария, и Эльзас.
Хотя с помощью заголовка Эгенольф позиционирует свою книгу как «Хронику», то
есть текст, имеющий отношение к прошлому в его хронологическом разрезе, еѐ открывает
материал географического характера. Историческая информация внедрена в него
несистематически и непредсказуемо, искать еѐ там было бы невозможно (еѐ присутствие
ничем внешне не обозначено) и бессмысленно. Географическое описание известных
автору земель следует распространѐнной схеме многочисленных «хорографий», бывших
одним из популярнейших книжных жанров на протяжении всего XVI века.
Первым идѐт описание различных германских земель, помещѐнных, таким
образом, в своеобразный идейный «центр повествования», культурно-географический
«пуп Земли». Сначала даѐтся описание знакомых автору (и представляющих интерес для
читателя) земель151, включающее некоторые нетривиальные подробности (например,
отмечено круглосуточное пьянство немцев152). Затем, вопреки логике, помещѐн краткий
рассказ о семи мудрецах Греции с характеристикой каждого из них и приписываемых им
высказываний. Далее следует пространное описание «Татарии» и турецкой державы 153.
Этот поворот обнаруживает стремление Эгенольфа угодить острому читательскому
интересу к Турции и связанным с нею проблемам. Актуальность турецкой темы
объясняется, конечно, обострившимся военным противостоянием, в частности, недавней
осадой Вены. Турция описана очень познавательно, материал собран из различных
источников. Нечего и говорить о том, что у Штайнхѐвеля ничего подобного не было (и в
его эпоху и быть, видимо, не могло). Отметим к слову, что в итальянской литературе,
более замкнутой на классическую гуманистическую тематику, а позже – на барочные
модели такого интереса не слишком образованной читающей публики к заморским
чудесам, к иноверцам и вообще «врагам христианского рода» отметить нельзя. И это при
том, что папство играло ведущую роль в организации сопротивления христианской
Европы турецкой угрозе, а католическая церковь – в определении политико-культурных
ориентиров позднего Возрождения! Турецкая тема развита рассказом о Магомете и
пересказом некоторых мест из Корана154. Эгенольф знает, что Коран – это «свод законов и
веры»155, однако основное внимание он уделил всѐ-таки упоминаниям в нѐм христиан,
151
Beschreibung … S. 4v-11v.
При описании Германии (Beschreibung … S. 5v-6r) сделана неконкретная ссылка на С. Франка, приведены
любопытные традиции, например, старинные свадебные обычаи, а также некоторые из связанных с
рождением и смертью (похоронами).
152
153
154
Beschreibung … S. 15r-17v.
Beschreibung … S. 20r – 22v.
85
иудеев, их святых и их священных книг. Соразмерно подробен также рассказ об иудеях,
их религиозных праздниках и обычаях, о традициях, церемониях и проч156.
Географические познания Эгенольфа выглядят весьма характерно. Целевая
аудитория этой книги – это, очевидно, читатель–немец, житель огромной территории в
центре Европы. Соседние страны этому читателю чужды, но знакомы и потому
неинтересны. Страны подальше вновь обнаруживают свою привлекательность, поскольку
сочетают в себе фактор отчасти известного и малопонятного (например, Московия).
Очень интересна Турция: она сильна, опасна, но живѐт с точки зрения германского
(европейского) обывателя середины XVI века «неправильно». Как при более развѐрнутых
описаниях турецких реалий, так и часто при кратких упоминаниях упор делается на
различия, а не на сходства; отличия от христианского мира – это «странно», это
неправильно, это вызывает интерес, смешанный со страхом. Такая подача информации
подогревает интерес к ней; успокаивает только то, что христиан «больше»: помимо
папского Рима, есть ещѐ два десятка христианских конфессий. Среди этих конфессий
встречаются
не
только
реально
существовавшие,
но
и
вымышленные,
вроде
последователей Пресвитера Иоанна.
Об уровне тогдашних географических представлений говорит тот факт, что
Эгенольф считает вполне уместным некритично привести некоторые сведения из
Геродота и других античных историй: среди населения Земли упомянуты люди с
собачьими головами, рогами, одноногие бегуны из Эфиопии, которые в жаркий день
закрываются своей единственной, но очень широкой ступнѐй от Солнца, и прочие
подобные народы157. Топоним Rusia, Reussen или Ruthenia зарезервирован за территорией,
граничащей на западе с Пруссией, а на севере – с Польшей. Восточным соседом еѐ
является Московия. Среди совсем немногих сведений о ней говорится, что это большое
княжество в 400 миль в длину и ширину, и что еѐ жители согреваются напитком, который
готовится «из овса и мѐда с водой». Этот напиток настолько крепок, что горит, если его
поджечь. «Два или три раза в году, - сообщает Эгенольф, - пьянство без ограничений
дозволяется, а в другие моменты карается смертной казнью». Сообщается также, что
московиты «продают своих детей и самих себя только ради того, чтобы выручить
достаточное количество грубой пищи, ибо они часто страдают от жестокого голода»158.
155
„Gesatz, Artikel und glaub“. Beschreibung … S. 21v.
Beschreibung … S. 23r-26v.
157
Даѐтся абсолютно серьѐзная сноска на Плиния, Исидора Севильского и Августина. См. Beschreibung … S.
3r.
158
См. Beschreibung … S. 8v: «Zwei oder dreimal in jar wirt in voll sein vergünner und die trunckenheyt gestattet
sunst strafft mans am leben»; «Ir kinder und sich selbs verkauffen sie/ allein das sie gnug su essen haben grober
speiß/ dann sie vilmals grossen hunger leiden».
156
86
Тема пьянства – отнюдь не только применительно к московитам – вообще заметна в
сочинении Эгенольфа, в отличие от «Немецкой хроники» Штайнхѐвеля. Перед нами –
пример действия новых ценностей, получивших распространение вследствие проповеди
Лютера. По мере дальнейшего отдаления от германской ойкумены знания становятся всѐ
более отрывочными, а попытки дать объяснение известным фактам – всѐ менее серьѐзные.
Например, Эгенольф считает, что название «Сирия» произошло от Ассирии, а армяне
называются так из-за своей бедности (arm по-немецки означает «бедный»).
Собственно историческая концепция опирается на «Хронику Кариона» - первую
протестантскую
хронику,
переведѐнную
на
латинский
язык
и
переработанную
Меланхтоном. В частности, оттуда заимствована периодизация истории на семь «эпох»,
принятая «для наибольшей пользы читателя». Семь традиционных эпох – общее место
историографии второй половины XV и начала XVI века. Эгенольф повторяет расхожую
схему, причѐм отмечает, что в первоисточнике этой периодизации – у Евсевия – этих эпох
шесть (четвѐртая эпоха по Евсевию – «Царство Давидово» - соответствует четвѐртой и
пятой «по Библии и Иудеям» - «Исходу из Египта» и «строительству Храма»).
Представления обо всех эпохах, за исключением последней, сложены по Ветхому
Завету159; собственно история (более или менее самостоятельная работа автора)
начинается с рассмотрения последней. Тезис о 6000-летнем существовании мира
подхвачен, без сомнения, из «Хроники Кариона». Сообщается, что первые два
тысячелетия – это время «пустыни», вторые – «закона» (под этими красочными эпитетами
имеется в виду время до и после Закона Моисеева), и, наконец, последние две тысячи лет
станут «эпохой Христа». Когда они подойдут к концу, мир рухнет160.
Вся хроника, как это было заведено, была «нанизана» сначала на библейскую
историю, к которой добавлялись рассказы о римских царях, а затем – на перечень римских
императоров от Юлия Цезаря вплоть до ныне правящего Карла V. Перечень императоров
был главным фактором, обеспечивавшим континуитет истории последней эпохи от
Иисуса Христа к современности. Поворотным моментом всей истории является «перенос
империи» (translatio imperii). Отметим, что в тексте Штайнхѐвеля этого нет, хотя череда
пап и императоров (опиываемых попеременно) также является фактором контитуитета и
обеспечивает цельность концепции161. У Штайнхѐвеля папство описывается как нечто
структурно единое, имеющее чѐткую последовательность и очерѐдность. История
Эгенольфа многовекторна, гораздо более сложна композиционно.
159
Крайне редко встречаются упоминания других источников, например, Плиния и Иосифа Флавия.
Beschreibung … S. 32r и далее
161
Сам Штайнхѐвель это прекрасно осознавал и развѐрнуто сформулировал. См. Steinhöwel … F. 63r.
160
87
Уникально оформление Эгенольфом «переноса империи», представленного как
нечто само собой разумеющееся, как продолжение прежней линии, а не разрыв с
прошлым. В упомянутом выше перечне императоров после Никифора и Михаила
следующим номером идѐт сразу Карл Великий, и никаких особенных комментариев не
делается.
В течение двух лет после правления его шурина Ставракия этот император
(Михаил I Рангаве. – ИА) правил мирно, хотя ему и приходилось сражаться против
болгар. Наконец, он был побеждѐн, потеряв не только своѐ войско, но и мужество, и
сердце, и тогда он в сомнении отступился от императорской власти (Keyserthumb), ушѐл
в монастырь и жил там до самой смерти.
Карл
Великий был коронован папой Львом III как римский император; он
доблестно сражался с оружием в руках против всего мира. И тогда всему миру явились
его пригодность (для того, чтобы стать следующим императором. – ИА), и любовь к
нему многих, и он вновь подчинил себе своей добродетелью и силой Римскую Империю, и
правил 14 лет162.
Далее кратко описываются отдельные походы Карла и династическая политика.
При этом медальоны с изображением Михаила I и Карла помещены рядом, как это
делалось выше при описании соправителей. В другом месте «Хроники» Эгенольфф
составил перечень римских императоров163, в котором принята иная нумерация (очевидно,
не включавшая на сей раз 7 царей древнейшего Рима). Здесь после номера 73 (Никифор,
правил 9 лет) идѐт сразу Карл (номер 74, правил 14 лет), и для читателя этого
исторического сочинения переход императорского достоинства от византийских
правителей к Карлу проходит совершенно безболезненно.
После описания всех заслуживающих того событий всемирной истории автор
знакомит читателя с событиями недавнего прошлого, имеющими труднооценимые, но
однозначно необыкновенные, последствия. Главным из событий «новейшей истории»
являются географические открытия, среди которых – открытие Америки, совершѐнное в
1497 году Америго Веспуччи. Приблизительно в том же регионе Земли были недавно
открыты Сенегал и Канарские острова, Острова Зелѐного Мыса, Будомель и другие земли.
Открытия Колумба тоже известны, но считалось, что открытые им очень странные
острова к «четвертой части света» (а именно так называли Америку) не относились. Автор
162
163
Beschreibung … S. 88r.
Summa aller Römischen Keyser und Päbst. Beschreibung … S. 129 (sed 123) r.
88
хроники понимал, что Эспаньола и Куба расположены очень далеко, но типологически
они приравнял их и другие открытые Колумбом земли к Канарским островам. Подробно и
красочно описано «чудесное морское путешествие Фердинанда Кортезия» - походы
Фернана Кортеса164. Из событий ещѐ более близких по времени выделены ахенская
коронация Карла V (1520), осада Родоса турками в 1522 году, битва при Павии 1525 года
и взятие Рима в 1527. Отмечено произошедшее в 1525 году «по всей Европе» (на поверку
– только в южнонемецких и пограничных с ними землях, а также на Сицилии) «всеобщее
и очень опасное восстание против Бога». Выступление «капитана Йорга Трухсеса»
началось во Франконии и быстро охватило соседние земли. Восстание было направлено
против Бога, «ибо мы должны знать, что Богу никогда не нравились никакие восстания, а
Евангелие учит нас терпеть насилие, но никогда не восставать»165.
Собранный автором исторический материал был подвергнут разнообразной
классификации
за
пределами
характерной
для
«Хроник»
хронологической
последовательности. Например, книга содержит алфавитный справочник ересей,
составленный только по классическим книгам по церковной истории – «Церковной
истории» Евсевия и «Трѐхчастной истории» Созомена, Сократа Схоластика и Феодорита.
Этот список обогащѐн сведениями о внутрицерковных конфликтах Средневековья, а
также об антицерковной борьбе некоторых светских правителей. В частности, в нѐм
можно обнаружить катаров, фра Дольчино, Иеронима Пражского и Яна Гуса, Джона
Уиклифа, вальденсов и других. К XVI веку относятся совсем немногие. 1502 годом
датируется сожжение «со многими книгами» голландского (зеландского) еретика Германа
Риссвика. Имеется также краткое сообщение о выступлении и казни Томаса Мюнцера166.
Довольно неожиданно встретить в этом перечне рассказ о совсем недавних
событиях – казни в 1527 году трѐх баварских анабаптистов. При описании этих событий
автор утратил обычную отстранѐнность, и его тон приобрѐл необычную драматичность.
Очевидно, воспоминание было свежим, а роль этих людей в исторических событиях
виделась автору значительно большей, чем роль Томаса Мюнцера.
Михаэль Саттлер, Йорг Вагнер и Леонард Кайзер сожжены как еретики в трѐх
городах. Михаэль Саттлер был лидером некоторых анабаптистов и анабаптисток,
сожжѐн в Роттенбурге на Неккере. Они были обвинены по 9 статьям, самые тяжкие
среди которых касались их представлений о Спасении и их веры. Что тело Христово и
164
Beschreibung … S. 107v-108r.
Beschreibung … S. 116r.
166
Beschreibung … S. 126-129.
165
89
кровь не присутствуют в Причастии, что крещение младенцев не является необходимым
для Спасения. И что не нужно обременять себя начальством. Христианин не должен
иметь над собой начальника, который бы носил меч или нуждался бы в нѐм. Не следует
оказывать сопротивление туркам, ибо они не участвуют ни в справедливых, ни в
достойных войнах.
В том году подобное произошло и в Мюнхене с Йоргом Вагнером, настолько
праведным мужем, что даже гофмейстер и сам князь уговаривали его в темнице
отречься от взглядов и обетов в отношении его самого и его людей. К нему привели жену
и детей, чтобы они растрогали его; однако он препоручил их Отцу Небесному и
отказался отрекаться. Князь не пожелал взять на содержание своего княжества его
жену и детей, однако тот из-за них не стал отрекаться от своего Бога, а оставил всѐ
как было и сложил собственную голову. Его ересь заключалась в следующем: что они не
верил в то, что священник способен отпускать грехи; II. что в алтарном хлебе Бога нет;
III. что Крещение не служит Спасению.
Итак, он также был сожжен, и звучали предложения сжечь ещѐ больше
подобных еретиков. Однако Земельный судья на следующее утро был обнаружен
мѐртвым в своей постели. С таким же приговором в Шердинге в Баварии епископ Пассау
осудил Леонарда Кайзера; он также принял смерть с большим достоинством167.
По окончании этих ересей приводится перечень основных католических
монашеских Орденов с данными об их основании, а также сведения о различных формах
христианства. Ориентированный на самую массовую аудиторию Эгенольф избегает
давать отрицательные характеристики и создаѐт панораму нарождающихся ветвей
христианства, причѐм не обозначает открыто и своих собственных симпатий. В 1535 году
автор совершенно не стремится к обострению конфликтов, не хочет рисковать и не готов
высказываться по поводу истинности или ложности той или иной религии. По этой
причине он старается максимально нейтрально представить все известные ему формы
веры в Единого Христа (Двадцать вер, или сект, веры в единого Христа, все Ордена,
направления и прочие формы Веры168). Нарождающийся межконфессиональный конфликт
ощущается в книжной полемике всѐ больше и больше. Попытка Эгенольфа соблюсти
167
168
Beschreibung … S. 128v.
Zweintzig Glauben/ oder Secten /allein des einigen Christen glaubens/ On alle orden/Secten unnd sundere
Glauben. Beschreibung … S. 132v и далее. Встречающееся здесь и далее слово «секта» употребляется в
латинском смысле и не носит никакого оценочного характера, поскольку применяется в равной степени по
отношению к Лютеру, римской церкви, «грекам» и даже Пресвитеру Иоанну.
90
непредвзятость, корректность, уход от вынесения суждений – тоже своего рода
позиционирование. Хотя перечень и начинается с «латинян, или римской веры», но здесь
можно встретить и «Греческую веру или орден», и «Якобитов» (Александрийский
патриархат), и
армянскую
церковь
(которую
автор
считает
принадлежащей
к
Антиохийскому патриархату и рассказывает о ней много интересного). Эгенольф не
воспринимает Православие как единое целое, дробя его на разделы и никак не
характеризуя в целом. Тем не менее, попытка увидеть общее в перечислении конфессий
может считаться бесспорной заслугой Эгенольфа.
Отдельная главка посвящается «Московитам и вере Белой Руси»169, в которой
даѐтся лестная характеристика царя Василия. При этом автор допустил довольно много
неточностей, в том числе и грубых. Например, он сообщает о состоявшейся «в 29 году»
битве войск Василия с Турком под Веной в Австрии, коверкает элементы царской
титулатуры. Характерно, что в 1535 году во Франкфурте Эгенольфу ещѐ не было
известно, что двумя годами ранее Василий уже умер. Другой в высшей степени
интересной главкой является рассказ об «Индийской вере», повествующий о Пресвитере
Иоанне. Пресвитер Иоанн представляется своего рода дублѐром папства, его зеркальным
отражением в зеркально отражѐнном мире. Возможно, в этом рассказе содержатся
отголоски тех скудных известий об абиссинских христианах, которые были известны
германским гуманистам по рассказам португальских миссионеров. Возможно также, что
Эгенольф находился под влиянием сообщений Марко Поло об апостоле Фоме как
основателе христианской конфессии в Азии. Текст Эгенольфа, увы, не оставляет нам
никакой возможности более определѐнно об этом судить.
Индийский орден, или вера индийцев.
Ешѐ один орден, вера и секта христиан называется «индийские христиане» из
Индии. Их папа – это священник Иоанн, и власть его превосходит власть всех христиан.
Ибо ему подчиняются 72 короля со своими королевствами. И когда этот священник едет
куда-нибудь верхом, перед ним несут деревянный крест, и если он отправляется в
военный поход, перед ним вместо знамени несут двенадцать золотых крестов, роскошно
отделанных драгоценными камнями. В этих местах в большом почѐте содержат мощи
Св. Фомы. Они крестят огнѐм, иногда водой, и, как и папство, тоже разделены между
собой на множество сект170.
169
170
Beschreibung … S. 133r.
Beschreibung … S. 132 r.
91
По этому описанию можно определѐнно судить, что ситуация с дроблением
христианства в «посюстороннем» мире представляется Эгенольфу типовой и не
удивительной. Разделение на «секты» ему кажется тоже вполне нормальным, но, тем не
менее, он видит в христианах всех направлений много общего, что позволяет ему
рассматривать их совокупно как представителей собственного лагеря. Конфликты между
«сектами» освещаются им крайне редко, только при описании армянского или
грузинского сопротивления «Солдану» и различной политики этих двух церквей по
отношению
к
турецким
завоеваниям.
Эгенольф,
преуспевающий
книгоиздатель,
обеспеченный ремесленник с гуманистическим образованием и кругозором, считает
существование различных христианских конфессий естественным и не заслуживающим
столкновений
делом.
Скажем
больше:
его
взгляд
представляется
нам
вполне
современным, если мы сравним его с идеологией сегодняшних лютеран или сторонников
многих
других
протестантских
конфессий,
отвергающих
идею
«единства
по
необходимости». Очевидно, в 1535 году, задолго до Тридентского Собора и
последующего определения позиций, задолго до доктринального конституирования
протестантского лагеря, до споров вокруг интеримов и адиафоры, в самом сердце Европы
религиозная ситуация казалась нормальной, не требующей экстренных мер. Если принять
допущение, что автор данной Хроники выражал мнение грамотной части тогдашнего
европейского общества к северу от Альп, то напрашивается вывод о том, что именно в это
время инструментализация истории претерпевает существенные изменения. Историческое
сочинение этой эпохи посвящено описанию тех, кто в том или ином отношении
отличается от автора или представляемой им группы. Вплоть до эпохи Просвещения,
делающей ставку на поиск общего, а не единичного, книги по истории и по географии
основаны на «удивительном», воспринимаемом и изображаемом как «чуждое».
В книге Эгенольфа, в которой автор не претендует на новизну концепции и вообще
на свою роль в познании (а не описании) реальности, инструментализация истории
является минимальной. Стремление доказать что-либо новое традиционно опирается на
изображение действительности. Автор, напротив, стремится «доказать старое», то есть
продемонстрировать преимущества, которыми обладает modus vivendi его читателей
перед соседними народами и даже перед более отдалѐнными, чуждыми цивилизациями.
Мы сможем увидеть, как инструментализация истории на уровне общей концепции вновь
появляется и постепенно становится традицией по мере роста межконфессиональной
напряжѐнности. А пока предлагаемая Эгенольфом историческая схема покоится на
цепочке императоров, наличии множества «версий» истинной религии и где-то в
отдалении – религий неистинных, даже враждебных христианскому миру, но
92
периферийных и, в общем, неопасных. Характерно его суждение «о вере Лютера, Цвингли
и анабаптистов».
Эти три секты или веры возникли недавно и распространились не только в
Германии, но и во многих других странах. Хотя между ними есть много общего, во
многом они и различаются, а у каждой партии – своя вера и свои церкви. И каждая из
них хочет именоваться не сектой, а исконной, истинной и христианской церковью и
верой (Vnd wil ein iede kein sect, sonder die alt, recht, Christlich kirch vnnd glaub gnent
werden). Какая же из этих партий права, то решать не мне и никому из людей, а лицам
духовным и христианским церквям. Которая есть не что иное, как собрание истинно
верующих в одну веру, слово, Бога и Господа. Ибо только она может судить, и не о плоти
и крови171, а о делах духовных (geystliche händel)172.
В конце Эгенольф рекомендует читать книги этих лидеров и говорит о том, что, по
слухам, подобные течения успешно распространяются «в земле готов, вандалов и
Склавонии», то есть где-то на периферии, возможно, в юго-восточной Европе.
Традиционно важным элементом христианской исторической литературы того
времени является в целом негативное «суждение о евреях»173. Иудейство необходимо
было осудить, дабы подчеркнуть религиозно-политическую благонадѐжность автора.
Каждый раз очень сложно судить, насколько искренним является такое суждение, однако
его краткость, обязательное параллельное упоминание магометанства наводят на мысль о
своего рода «свидетельстве благонадѐжности», обязательной программе. Обязательно
приводятся ссылки на Евангелия, причѐм тем местам, которые когда-то служили для
позиционирования христова учения по отношению к духовному истоку – иудейской вере,
теперь придаѐтся актуальное значение174.
Сочинение Эгенольфа заканчивается тем, чем, по расхожему представлению той
эпохи, должна заканчиваться история, - кратким напоминанием об Антихристе (на основе
Священного Писания), а затем – указанием на Конец Света. В качестве «памятки
читателю» приводятся
все
внешние
признаки
скорого
прихода
Судного
Дня.
Подразумевается, что как только верующий узрит землетрясения, чуму и холеру,
небесные знамения, всеобщее обжорство и пьянство, а также распространение огромного
171
Как указал проф. В. В. Симонов, эти слова – явная реминисценция на Священое Писание (Ин. 1, 13; Еф.
6, 12; 1 Кор. 15, 50).
172
Beschreibung … S. 133v.
173
Beschreibung … S. 136v.
174
Мф 24, Кор 11, Ин10.
93
количества сект, он должен начать непосредственную подготовку к Страшному Суду.
Основными источниками приводимых Эгенольфом сведений являются Послания
апостольские (Пет 2 2, Фесс 5, Кор 3), а также Лактанций Фирмиан175.
Книга Эгенольфа вышла в деликатный момент, через 3 года после появления
«Хроники Кариона». Конечно, 3 года – это по тем временам небольшой срок для книжной
полемики, да и обилие исторической (в том числе – и конкретно хроникальной)
литературы в Германии не исчерпывается рассмотренными нами, но наличие на книжном
рынке такой книги, целесообразность выпуска еѐ в условиях наличия другой книжной
продукции существенно уточняют характеристику германского и европейского книжного
рынка. Историки-полемисты второй половины XVI века имели дело не только с наиболее
профессиональными историческими концепциями, но и с наиболее популярными, а это
далеко не всегда одно и то же. Первые лютеранские историки, поставившие перед собой
задачу перевода межконфессиональной дискуссии в историческую плоскость, должны
были
завоевать
симпатии
не
только
учѐной
публики
(а
для
этого
быть
конкурентноспособными в противодействии имеющимся историческим концепциям), но и
массового читателя (а для этого, в свою очередь, требовалась способность соответствовать
всем основным клише массовой литературы того времени, той литературы, относительно
которой слово «ренессансная» может употребляться с важными уточнениями). Сочинения
Эгенольфа очень важны для понимания процессов, происходивших в умах европейских
читателей исторических сочинений. Эгенольф не критикует своих эвентуальных
оппонентов, а его работы в целом находятся вне межконфессиональной полемики. Тем не
менее, они прекрасно иллюстрируют интеллектуальный фон, на котором эта полемика
развивается. Книга Эгенольфа – своего рода итог предшествующей эволюции
исторического знания, подведѐнный для более массового читателя, попытка свести
воедино и обратить к собственной (в т. ч. коммерческой) выгоде все накопленные перед
этим научные результаты. При всей широте проблематики, впрочем, «Хроника мира»
Эгенольфа сводима к хронике Европы, а европейская – к германской. Этот стереотип
восприятия всемирной истории сохранится в Европе очень надолго, и его отголоски
постоянно слышатся и сегодня, причѐм порой далеко за пределами исторической науки.
175
См. подробнее на эту тему [Freund S.] Laktanz. Divinae institutiones. Buch 7 "De beata vita". Einleitung, Text,
Übersetzung und Kommentar von Stefan Freund. Berlin, de Gruyter, 2009. 707 c.
94
§5. Первая протестантская история Церкви: К.Хедио
«Магдебургские
Центурии»
были
не
первым
историческим
сочинением,
посвящѐнным истории Церкви и написанным с протестантских позиций. Среди работ,
которые подготовили почву для создания новой концепции и новой философии истории,
выделяются произведения страсбургского реформатского богослова Каспара Хедио.
Каспар Хедио родился в 1494 году недалеко от Карлсруэ в обеспеченной семье. С
раннего детства он имел возможность получить наилучшее образование. В 1513 году он
поступил во Фрайбургский университет, где получил в 1516 году степень магистра
искусств и занялся теологией. В 1518 году он занял свою первую церковную должность
викария церкви св. Феодора в Базеле, где сошѐлся с такими мыслителями, как Эразм
Роттердамский и Вольфганг Капито. В следующем году он познакомился с Ульрихом
Цвингли и подготовил квалификационную работу по богословию, в которой уже было
заметно влияние Реформации. Затем молодой человек сменил несколько церковных
должностей, уехал в Майнц, а в 1523 году поселился в Страсбурге. Во всех церквях, в
которых ему довелось работать, ему приходилось вступать в диспуты со сторонниками
Римской курии. В эту эпоху своей жизни Хедио, уже зарекомендовавший себя
поборником Реформации, увлекался учением Лютера, однако следовать ему не стал.
Окончательным разрывом с Римом стала женитьба в 1524 году – этот шаг имел в ту
эпоху, помимо прочего, глубокое символическое значение176. Дальнейшая деятельность
Хедио на ниве церкви развивалась главным образом в сфере организации новых приходов
и участии в теологических и политических диспутах (о Причастии и вокруг проектов
договоров с Римом). Умер Хедио в 1552 году, во время эпидемии чумы.
Деятельность Хедио по переводу и популяризации церковных сочинений
заслужила большую признательность современников177. Среди предпринятых им
публикаций наибольшее внимание исследователей привлекли те, в которых автор
разрабатывал как всемирно-историческую концепцию в самом широком смысле слова, так
и наиболее насущные еѐ проблемы – германского единства, преемственности власти
римских императоров и некоторые другие178. В тени других работ осталась «Хроника
176
См. Adam M. Vitae Germanorum Theologorum qui superiori seculo Ecclesiam Christi ... propagarunt ... Frankfurt : Jonas Rosa; Heidelberg: Johannes Georgius Geyder, Acad. Typogr., 1620. P. 241.
177
Меланхтон считал Хедио лучшим из современных ему переводчиков. См. Stupperich R.
Der unbekannte Melanchthon: Wirken und Denken des Præceptor Germaniæ in neuer Sicht, Stuttgart, 1961. S. 191.
Keute H. Reformation und Geschichte. Kaspar Hedio als Historiograph. Göttingen, 1980. S. 18, 250.
178
В частности, следующие: Augustini des Heyligen Bischofs IIII Bücher von Christlicher leer… Durch Doctor
Caspar Hedion vertolmetscht. Straßburg, Beck, 1532. 92 л.; (Hedio C., red.) Chronicum Abbatis Urspergensis, a
Nino Rege Assyriorum Magno, usque ad Fridericum II. Romanorum Imperatorem, ex optimis autoribus per
studiosum historiarum recognitum, et innumeris mendis repurgatum. Argentorati, Mylius, 1537. 506 с.
95
древних христианских церквей» - попытка охватить историю средневековой церкви,
оставшуюся за пределами безусловно авторитетных текстов его времени – «Церковной
истории» Евсевия и «Трѐхчастной истории». Область церковной истории оставалась ещѐ
крайне слабо освоенной, и браться за неѐ можно было только посредством установления в
том или ином виде преемственности по отношению к авторитетным историко-церковным
сочинениям далѐкого прошлого. По этой причине Хедио подготовил собственный перевод
на немецкий язык Евсевия и «Трѐхчастной истории», а собственную «Хронику» издал
вместе с переводами этих книг на немецкий язык. Тем самым он стремился утвердить
преемственность между своей «Хроникой» и классическими сочинениями по ранней
церковной истории, однако это обстоятельство осталось не понято позднейшими
исследователями. Авторитет Евсевия и авторов «Трипартиты» был таков, что
собственный текст Хедио (вполне соразмерный по объѐму и значительно больший по
хронологическому охвату) зачастую рассматривался позднейшими исследователями как
своего
рода
«комментарий
переводчика».
Первый
исследователь
германской
историографии XVI века Мельхиор Адам вообще обошѐл еѐ молчанием, упомянув
разнообразные заслуги Хедио как переводчика на немецкий язык различных латинских и
греческих текстов179. Авторы крупнейшей энциклопедии деятелей церкви сочли
гуманистическую деятельность Хедио (переводы и самостоятельные исторические
работы) вторичной по отношению к организационной и преподавательской, а «Хронику»
едва упомянули180. В авторитетных исследованиях Фютера и Нигга
181
о Хедио нет ни
слова. Культурно-историческая ценность переводов Хедио в целом была отмечена в ряде
исследований182, однако историко-церковные вопросы получили в них явно недостаточное
освещение. Порой доходит до абсурдных ситуаций: П. Майнхольд, к примеру, называет
«первой протестантской историей Церкви» «Магдебургские Центурии»183. Между тем,
этот объѐмный текст имел в ряде важнейших параметров новаторское значение.
Отвергнув традиционную для католической церкви точку зрения на свою историю, его
автор стал у истоков новой историографии и обрѐл множество последователей. Мы
рассмотрим последнее прижизненное издание «Церковной хроники» Хедио 1545 года184.
179
Adam M. Op. cit. S. 242f.
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexicon. Bd. 2, 1990. S. 635f.
181
Fueter E. Geschichte der neueren Historiographie. München, 1911. 670 с.; Nigg W. Die
Kirchengeschichtsschreibung. 1934.
182
См. Keute H. Op. cit. S. 22.
183
Meinhold P. Geschichte der kirchlichen Historiographie. Freiburg, 1967. Bd. 1. S. 268f, 276ff. См. также Keute,
Op. cit. S. 20.
184
(Hedio K.) Chronica, das ist Warhafftige Beschreibünge Aller alten Christlichen Kirchen. Historia Ecclesiastica
Eusebii Pamphili Caesariensis xj. Bücher. Historia Ecclesiastica Tripartita Sozomeni Socratis und Theodoreti xij.
Bücher. Historia Ecclesiastica sampt andern treffenlichen Geschiechten die zuvor in Teütscher sprach wenig gelesen
sind auch vij. Bücher. Von des zeit an da die History Ecclesiastica Tripartita auffhöret das ist von der Jarzal an
180
96
Написанный собственно Хедио текст был опубликован как «Третья часть»
«Хроники»; первую составил перевод «Церковной истории» Евсевия, а вторую –
«Трѐхчастной истории» (сделанный по изданию Беата Ренана 1523 года 185). Тем не менее,
не подлежит никакому сомнению, что текст III части должен рассматриваться как
самостоятельное произведение. В издании 1545 года «Хроника», охватывающая период от
400 до 1545 года, занимает 187 листов из общего объѐма фолианта в 485 листов. Однако,
прежде чем мы обратимся к анализу собственно «Хроники», стоит рассмотреть паратекст,
позволяющий оценить значение, которое сам автор придавал своей работе.
Книге предшествует посвящение, обращѐнное к архиепископу кѐльнскому
Герману. Как указывает сам Хедио, в этой книге «речь должна идти о христианской
реформации, улучшении религии и церковной традиции»186. Понятие «реформация»
(Reformation) в представлении Хедио соответствует латинскому reformatio и включает в
себя и то, что мы сегодня называем католической реформой, и даже в более широком
смысле любую деятельность по изменению положения церкви в обществе. Переведѐнному
немецким богословом тексту авторитетных писателей предпосланы слова о Евангелии и
Писаниях апостольских как единственных источниках истины; помимо прочего, эти слова
призваны десакрализировать переведѐнные тексты и сделать Хедио вполне равноправным
соавтором, а не компилятором или бесславным продолжателем. «Дописывание»
исторических сочинений, доведение повествования в них до современной эпохи были в
эпоху Позднего Ренессанса массовым явлением, но перед нами нечто иное: Хедио не
ощущает
своей
предшественников,
методологической
притом,
что
или
объективно
иной
зависимости
определѐнная
от
знаменитых
зависимость
всѐ-таки
существует.
Стоящая перед Хедио задача непроста: предлагая в первых двух частях книги
тексты, на которых основывается и официальная историко-церковная доктрина Рима, он
стремится сочетать еѐ с основными положениями протестантской критики. Например,
тезисы о наличии в учении Христа всего необходимого для праведной жизни, скепсис
относительно авторитетности сочинений Отцов церкви никогда ещѐ ранее не становились
базовыми элементами новой всемирно-исторической концепции. Церковные писатели в
послеевангельскую эпоху, указывал Хедио, лишь «описывали традицию»187, часто вступая
в противоречия не только друг с другом, но и сами с собой. Например, «святой Августин,
CCCC. nach Christi geburt biß auff das jar M.D.xlv. Basileae, 1545. (Далее – Chronica...). Первое издание
перевода увидело свет в 1530 году. 282 л.
185
Это было доказано Х. Кѐйте. Keute H. Op. cit. S. 26, 255.
Chronica ... Bl. †ij r.
187
Chronica ... Bl. †ij v.
186
97
бывший, наверное, одним из самых учѐных и благочестивейших мужей, оставил две
большие книги, в которых он усовершенствовал собственные предыдущие писания и
учения»188. Представленные Хедио доказательства обнаруживают статичность его
картины прошлого, отсутствие в ней динамики, а также отказ от любого возможного
компромисса.
Развенчав авторитет церковных авторов, Хедио должен был обосновать свой
перевод насущной надобностью – показать, как изначальная церковь восприняла
Христово учение. Что должны продемонстрировать читателю «Церковная история»
Евсевия
и
«Трѐхчастная
история»?
Конечно,
не
только
Истинную
церковь,
представленную в Писании, но и «наиболее выдающихся служителей Сатаны и
Антихриста и действия Тиранов». Если под последними традиционно понимались
представители
светского
общества
(например,
римские
императоры-гонители
христианства), то в числе первых оказались и некоторые представители римской церкви.
Сохранив
в
целости
переводимые
тексты,
Хедио
одним
ударом
лишил
их
апологетического характера. «Третья книга», написанная им в продолжение первых двух
(переводов), становится, таким образом, естественным и логическим продолжением
описания единого исторического процесса.
«Из этого чтения совершенно ясно и очевидно можно узнать, что христианская
реформация церкви, которую в нас вызывает Господь, никакая не новость, как
утверждают с очевидной кривдой служители Антихриста; отнюдь, это возвращение
нашей истинной, древней и единственной религии, домоуправления в церкви Христовой к
единственной древней форме и идее, которую нам предписал Господь своими действиями
и через Апостолов, и которую древнейшие и самые лучшие христиане и самые подлинные
мученики верно и честно хранили, с таким постоянством также переносили страдания и
пролили за неѐ так много крови»189.
Книги Евсевия, Феодорита, Созомена и Сократа Схоластика используются в
данном издании для цели, прямо противоположной привычной – для демонстрации плана
Антихриста, проявившегося, в частности, в возвышении в Риме и в некоторых других
местах «верховных патриархов и епископов» над другими церквями и епископами, а
также над христианскими Соборами190.
188
Chronica ... Bl. †iij r.
Chronica ... Bl. iiiij r.
190
Chronica ... Bl. †iiiij v.
189
98
Каспар Хедио чѐтко осознаѐт своѐ положение среди других критиков церкви. Вопервых, он преисполнен сознанием собственной правоты; излагая свою программу
«реформы» (которая главным образом касается юридических вопросов взаимоотношений
между клириками разных рангов, их денежного содержания и некоторых других
вопросов), он сравнивает возможных оппонентов в деле церковных преобразований с
«ложными пророками», о которых предупреждало Евангелие. Других авторитетных
лидеров протестного движения (Меланхтона, Лютера, Иоганна Писториуса, Эразма
Сарцерия и других) он именовал «любезными братьями и доверенными соратниками и
служителями», не выделяя никого из них и не определяя иерархических отношений191.
Другим важным элементом паратекста является обращение Хедио к читателю192,
открывающее написанную им самим «Третью книгу». Этот фрагмент подтверждает
оригинальность представленной в книге историко-церковной концепции, основанной на
классических сочинениях поздней античности. Делается это в яркой, эмоциональной
манере, существенно отличающейся от основного текста книги по целевой аудитории.
Такое жанровое различие между паратекстом и собственно текстом исторического
сочинения станет в дальнейшем важнейшей отличительной чертой межконфессиональной
полемики, в особенности – с протестантской стороны.
Первым поворотным моментом во всемирной истории (воспринимаемой в данной
книге как тождественной истории христианской церкви) объявляется не эпоха императора
Константина и не военные поражения Рима начала V века, а «времена правления Аркадия
и Гонория», то есть разделение Римской империи на Западную и Восточную. Главным
итогом этого события стало нарождение национального чувства. Хедио, очевидно,
обнаружил в поздней античности элементы того процесса, который обрѐл актуальность в
современном ему мире. «Нации, - писал страсбургский теолог, - повернулись друг против
друга». Аэций представлялся носителем «римского» элемента, так же как Аттила –
гуннского или Аларих готского. Народы в лице своих вождей становятся главными
действующими лицами исторического процесса; разумеется, этого не было и не могло
быть в первых двух «книгах» - переводах из познеантичных историков. В истории
действуют целые народы, и основными источниками по ранней истории являются
сочинения Августина (в большей степени) и Иеронима. Тяготение к поиску причин
исторических событий в национальном факторе вообще характерно для творчества
Каспара Хедио. Материал третьей части книги Хедио хронологически пересекается с
переведѐнными им же классиками, однако противоречия тут нет: этот материал до поры
191
192
Chronica ... Bl. †iiiiijv.
Chronica ... Bl. 300r.
99
сосредоточен на национальной истории, в которой церковь играет явно второстепенную
роль. Определяющей для успехов или неудач на полях сражений становится не столько
деятельность во благо или во вред церкви как организации, а более абстрактная «вера».
«Вера» является ключевым понятием, определяющим, к примеру, большинство
долговременных военных успехов: Хедио имеет тенденцию считать праведниками
победителей в битвах и в большей или меньшей степени еретиками тех, кто терпел в них
поражения. Исходя из возможности расставления именно таких оценок, подбирает Хедио
и события для своей «Хроники». Он выдвигает на первый план те из них, в которых такие
оценки кажутся наиболее очевидными или могут быть поучительными с точки зрения
читателя. Другие возможности доказательства своей правоты, помимо политических
успехов или военных побед, в «Хронике древних христианских церквей» также иногда
встречаются, хотя играют значительно меньшую роль. Например, в отличие от многих
других протестантских авторов, Хедио снисходительно относится к традиционным
«чудесам» вне библейского контекста193. Так, часто будущие победители в битве
обеспечивали себе благоприятный исход своевременной молитвой военачальников или
анонимных «святых людей»194.
Хотя история, в соответствии с распространѐнными в ту эпоху представлениями,
делалась великими людьми, причины принятия ими тех или иных решений историка
совершенно не интересовали. Критерии оценки личности сводятся к еѐ принадлежности
церкви, иногда – позиции в отношении одной из самых известных ересей. Сами ереси
раскрываются схематично, так, будто автор уверен: всѐ необходимое читатель и так знает,
а дополнительные сведения могут быть просто излишними, как небогоугодная
информация195. Оценки как таковой (положительной или отрицательной) удостаиваются
только главные действующие лица – правители и папы. Остальные люди оказываются на
страницах сочинения Хедио только в том случае, если им даѐт на это право какой-либо
совершѐнный поступок. Это значит, что по отношению к ним понятие «критерии оценки»
вообще вряд ли применимо: автор не поместит в книгу человека, который этого не
заслуживает. И только правители и папы попадают в книгу самим фактом своего
существования, поэтому их образы в историческом сочинении и нуждаются в оценке его
автора. Хедио избегает художественных приѐмов ренессансной историографии, поскольку
не стремится к целям, традиционно ставившимся ею перед сочинениями по истории.
193
См., например, Chronica ... Bl. 327-328 и др. (скорпионы мучеников не кусали, а слепые во время
крещения прозревали, и т. п.).
194
Например, 2 глава 3 книги целиком посвящена тому, как «через молитву святых людей пять тысяч
разгромили 80 тысяч». Chronica ... Bl. 301v.
195
К примеру, пелагианская ересь описывается в четырѐх строчках. Chronica ... Bl. 322v.
100
Хедио подчѐркнуто не стремится ни «усладить» (delectare), ни «наставлять» (docere); у его
книги другая цель – продемонстрировать цельность церковной истории как сюжета,
возможность написания единой картины истории христианской церкви, не используя
Римско-католическую традицию в качестве смыслового стержня. Иногда автор прибегает
к распространѐнному приѐму (характерному ещѐ для древнегреческой историографии) –
вкладывает в уста своих персонажей художественно составленные историком речи.
Однако, в отличие от писателей Возрождения, речи у которых были художественной
формой выражения политической или этической программы того или иного деятеля перед
началом решающего момента его биографии (как правило, сражения или похода), у Хедио
эти выступления были явной данью условностям жанра. Речи героев Хедио были кратки и
трогательны, очень однотипны; чаще всего в них исторические персонажи вверяли себя
Господу или говорили о своѐм следовании Истине.
По мере продвижения по историческому материалу оформляется и явный крен в
сторону германской истории. Важнейшим элементом историко-церковной концепции
является понятие «переноса империи», напрямую связанное с превосходством светской
власти над церковной. Для того, чтобы доказать правомочность своей ориентации на
светские власти, историк должен, во-первых, продемонстрировать преемственность
нынешних правителей по отношению к правившим «миром» в эпоху Иисуса Христа
римским императорам, а во-вторых, доказать безнравственность светской власти
церковников. По этой причине с течением времени всѐ больше внимания уделяется
франкским королям, затем – германским императорам.
Главными действующими лицами средневековой истории (в нашем нынешнем
понимании, разумеется – у Хедио отсутствует представление о Средних Веках) являются
светские государи, и лишь изредка – «учѐные мужи», чья учѐность проявляется в
поддержке того или иного «доброго» правителя. Важной положительной характеристикой
правителей является также их отношение к бедным («любовь к бедным») и
«гостеприимство»196. Сличение характеристик императоров приводит к определѐнному
выводу о существовании бинома – «любящий бедных» император не бывает «тираном», и
наоборот. И та, и другая характеристики суть исключительная прерогатива государей –
главных действующих лиц истории. Для остальных персонажей в конце многих глав
имеется специальный раздел «О примечательных людях этого времени», в котором
группируется информация о тех, кто не относится к носителям общей концепции книги.
В свою очередь, обвинение в «тирании» обычно не влечѐт за собой доказательств и
звучит весьма огульно. Одним из свидетельств «тирании» восточных императоров может
196
Например, Юстин II (Chronica ... Bl. 343r) или Карл Великий (392r).
101
быть народное восстание против данного правителя; в отношении западных этот критерий
отсутствует. Вообще, в книге Хедио, как и в ряде других ранних протестантских
исторических сочинений, прослеживается некоторое неприязненное отношение к
византийским императорам.
Отсутствие критерия, который бы позволил провести чѐткую границу между
историей «вообще» и историей церкви, проявляется, в частности, в периодизации.
Важными этапами исторического процесса являются чаще всего крупные деяния
государей, так или иначе связанные с церковью, события собственно церковной истории
или крупные катаклизмы. Например, границей между 2 и 3 книгами III части стали
основание франками Трира (основанного в действительности римлянами!), захват ими
Кѐльна, а границей между 3 и 4 главами – «кровавый» метеоритный дождь,
Константинопольский Собор 360 г. и запомнившаяся эпидемия чумы, «когда за один день
умерло десять тысяч человек»197. Важное условие помещения исторического события в
книгу – его масштабность, эффектность в общей экспозиции. Динамического развития «от
меньшего к большему» не прослеживается: подобранные Хедио события ярки, ужасны,
цифры круглы и впечатляют (будь то речь о христианских мучениках, жертвах эпидемий
или сарацинских набегов).
Дат в истории Хедио очень мало. Они не нужны: при огромном распространении в
XVI веке различных «хроник» и «хронографий», предлагавших неопределѐнные и
противоречивые хронологические выкладки, цифры становятся очень ненадѐжными
структурными элементами всемирно-исторической схемы: гораздо удобнее пользоваться
отсылками на правителей. Они являются эпонимами, и дополнительные цифровые
обозначения, во-первых, могут оказаться невынужденно неточными, а во-вторых, имеют
обыкновение уточняться в ходе написания многочисленных «хронографий». Как правило,
без точных дат упоминаются все ужасные факты, случаи массовых убийств, эпидемии,
землетрясения. Даты нужны для сопоставления с другими датами; большая часть
катаклизмов воспринималась не как кара Господня, а как абстрактное проявление воли
Божией, безо всякой связи с людскими деяниями.
Дата в сочинении Хедио выступает как важное средство выделения информации,
имеющей концептуальное значение. В этом случае дата не бывает одинокой;
непосредственно предшествующие или иным способом логически связанные события
также датируются. Этот приѐм позволяет достичь значительного эмоционального
воздействия. Приведѐм пример. Неожиданно точно датируется понтификат папы
Григория Великого (590-604), причѐм указывается, что со смерти Августина прошло 157
197
Chronica ... Bl. 342r-343r.
102
лет198. К чему такая подробность? Безусловно, этот папа – одна из крупнейших фигур во
многих историко-церковных концепциях, причѐм не только протестантских, но и
католических. Однако даже сопоставимые с ним фигуры (императоры Константин или
Карл, папы Сильвестр или Лев) удостоены меньшего внимания с точки зрения
хронологии. Видимо, дело в том, что спустя всего несколько страниц сообщается самая
подробная из дат книги – зарождение мусульманства199. Эти даты связаны глубокой
причинно-следственной связью. Представления о мусульманстве как каре за прегрешения
римской церкви – довольно популярный тезис для раннепротестантской литературы,
однако именно в «Хронике древних христианских церквей» Хедио он впервые получил
чѐткое историческое оформление. Вся 5 книга III части200 посвящена повороту в политике
Рима в конце VI века и его последствиям. Автор пересказывает известные ему сведения из
биографии Пророка и даѐт характеристику священной книги мусульман; в строку
пришлось суждение гуманиста Иоанна Авентина о том, почему Господь заслуженно
вознаграждает турок победами над христианами201. Собственно «турка» пришѐл,
утверждал Хедио, «из московитской земли»; спишем эту ошибку на счѐт крайне слабой
эрудиции историков середины XVI века в области географии Азии. Само свидетельство,
впрочем, весьма интересно.
«Как пишут Помпоний Мела, Плиний, Агафий и другие, более сведущие в греческом
и латыни и знающие, турки сначала жили в Герцогстве Московитов в Белой Руси на
границе с Татарией; как ныне говорят, они были призваны против сарацинов и персов
римскими и греческими императорами. Со временем они поселились на границе
Каппадокии и Армении между Римской империей и персами, подчинили себе также
королевства сарацинов. Столицу они держали в городе Иконии, в котором Святого
Павла когда-то выпороли розгами»202.
Последняя деталь совершенно не случайна – она служит для дополнительной
эмоциональной характеристики города и его значения для христианства. Читателю было
понятно: ничего хорошего из такого города ждать не следует.
198
Chronica ... Bl. 360 r.
Эта дата приведена неопределѐнно и неточно, однако с максимально доступной автору детализацией: «В
лето Господа 630, Ираклия 18, от основания мира 4674, от основания Рима 1380 в Аравии, среди агарян и
сарацин, на роль короля и пророка стал претендовать (hat sich... auffgeworffen) Магомет». Chronica ... S. 363r.
199
200
Chronica ... Bl. 350.
Книга Хедио способствовала росту интереса к «Алькорану», и в 1543 году он был переведѐн на латынь и
издан в Базеле в издательстве Иоганна Опорина известным гуманистом и богословом Теодором
Библиандером.
202
Chronica ... Bl. 364r.
201
103
В книге Хедио упоминается и ряд событий, на первый взгляд не имеющих
отношения к церковной истории; тем не менее, им уготована важная роль в решении
поставленных перед книгой задач. В частности, деяния императоров являются
аргументами в пользу законности их притязаний на роль истинных лидеров
христианского мира в противовес римским епископам (особенно это касается
императоров Запада). Победы Карла Великого над саксами – событие сугубо светской
истории. Хедио, однако, помещает его в несколько неожиданный для нас контекст,
воспользовавшись упоминанием историков о почитании саксами языческих идолов.
Борьба против распространившегося в Восточной римской империи и некоторых других
землях почитания икон стала для протестантов XVI века одним из важнейших аргументов
для обоснования «переноса империи» от восточных императоров к Карлу и его
наследникам. Хедио считал поклонение иконам частным проявлением общего понятия
«идолопоклонничества». Оно изображалось важнейшим грехом восточной церкви –
иконоборцы чаще всего воспринимались как праведники, а боровшиеся с ними
византийские императоры представлялись выступавшими против истинной веры. Таким
образом, основной причиной, оправдывающей агрессию Карла, было не язычество и не
необходимость распространения христианства, а демонстрация принадлежности к
«правильной» стороне в том конфликте, которому историк XVI века придал
эпохообразующее значение. Не случайно события сопровождаются многозначительными
намѐками на неслучайность событий и переломность момента (например, промѐрзшее до
дна море и другие знамения)203. В книге присутствует множество природных катаклизмов,
и историк не выработал к ним единого подхода. Чаще всего они упоминаются с
восхищением и служат для демонстрации божьей власти над людьми и не
интерпретируются как знамения, хотя, как мы видели, бывают и исключения.
Личность Карла Великого весьма привлекает историка, хотя и не становится
центральной фигурой. Так, Хедио снабжает образ императора даже описанием внешности
(в отличие от многих других исторических персонажей). Мы узнаѐм, что
«Карл Великий был исполинского сложения, высокого роста, имел круглую голову,
довольно большие и живые глаза, среднего размера нос, грациозную седую голову, весѐлое
и доброжелательное лицо, покрытое богатой и даже излишне густой растительностью.
203
Chronica ... Bl. 369v.
104
Он соблюдал умеренность в еде и питье, причѐм гораздо большую – в питье, ибо за один
приѐм пищи он редко пил больше трѐх раз»204.
Последнее обстоятельство казалось издателям книги настолько важным, что было
отмечено даже в оглавлении.
Карл Великий не выступает как основатель новой линии императоров, пришедшей
на смену византийским правителям в роли наследников великого Рима: эта роль в книге
Хедио передана Пипину, коронованному папой Стефаном (Стефаном II или III, 752-757).
Следующий узкий момент общеисторической концепции – это преемственность между
наследниками Карла и современными историку германскими императорами. Являются ли
франки германцами? Этот вопрос приобретает особенную злободневность. Воплощает
Карл V Габсбург в себе мир истинной веры в противовес Риму? В Страсбурге,
находившемся на перекрѐстке культурных влияний, этот вопрос имел и историческое, и
религиозное, и острое политическое значение.
Современные автору немцы выступают как «хранители церкви», и этой роли
первые императоры Запада вполне соответствуют. Решающим для Хедио становится то
обстоятельство, что родным языком матери Карла был немецкий, а родился он на Рейне, в
Ингельхайме (к слову, относительно точного места рождения Карла Великого единого
мнения не было никогда). Хедио призывает в свидетели авторов «старинных историй» Прокопия Кесарийского, Агафия Зонору и некоторых других писателей.
Следующим важным поворотом в христианской истории являются для Хедио
Крестовые походы. Разумеется, они трактуются как святое дело, направленное на
отвоевание того, что некогда принадлежало христианскому миру. Этот сюжет (10 Книга
III части) завершается Авиньонской схизмой, которая, по мнению историка, обусловила
провал такого благого начинания. Начинается эпоха глубокого упадка папства,
сопровождающаяся сатирическими описаниями римских нравов и претензий пап на
мировое господство. Конфликт между папством и империей разрешается, разумеется, в
гибеллинском духе, причѐм Хедио (обычно избегающий ссылок на документы или
цитирования) приводит мнение падуанского юриста кардинала Франческо Дзабареллы205.
Наконец, последним концептуальным узлом «Хроники» Хедио являются события
недавнего прошлого. Своего рода «новейшая история» для него начинается с выступлений
204
Carolus Magnus ist eins fürschrötigen leibs gewesen, einer langen person, eines runden haupts, hat fast grosse
vnnd lebhafftige augen, ein mittelmessige nasen, ein zierlichen grawen kopf, ein frölich vnd freüdsam angesicht,
wol vnd überflüssig beredt, messig in essen vnd trincken: doch im tranck vil messiger, dann er ob imbiß selten über
drei mahl tranckte. Chronica ... Bl. 394v.
205
Chronica ... Bl. 451r.
105
Яна Гуса и Иеронима Пражского. Посвящѐнная этим событиям 11 книга III части
«Хроники» отличается гораздо большим по сравнению с предыдущими объѐмом (почти
40 страниц in folio).
Как уже отмечалось, Хедио в целом избегает ссылок на источники; его «Хроника»
содержит незначительное количество самостоятельно обработанного исторического
материала и фактически является собранием общеизвестных фактов. Ценность «Хроники»
с точки зрения историографии заключается в самостоятельной концепции, в ряде пунктов
предвосхитившей развитие межконфессиональной полемики последующих десятилетий.
При этом следует особо отметить, что с другими историками Хедио также не
полемизирует. Отношение к источникам несколько меняется в последних книгах.
Встречаются цитаты из Энея Сильвио Пикколомини, Пико Делла Мирандолы и Поджо
Браччолини, а также постановлений церковных Соборов последних 100 лет. Экзотической
с источниковедческой точки зрения можно назвать цитату эпитафии на могиле Яна
Жижки206. События в Чехии стали для Хедио явным знаком приближающегося глубокого
кризиса. Гус предсказал отмщение за свою казнь по просшествии ста лет; за это время пал
Константинополь – один из исторических носителей имперской идеи. С этого момента для
Хедио изменяется сама сущность исторического процесса: теперь история состоит почти
исключительно из критических выступлений отдельных лиц и целых собраний,
направленных против демонстрации римской церковью своей власти. В историю
вторгается теология: важным элементом еѐ становятся выступления богословского
характера,
направленные
против
сложившегося
порядка
вещей207.
Собственно
выступление протестантов (Protestierende Stend) началось, по мнению Хедио, в 1527 году,
в ходе Регенсбургского рейхстага. В заключительной главе автора интересуют
политические отношения Империи и папства: он оценивает колоссальные доходы Рима208
и даже использует их для того, чтобы объяснить причины разграбления Рима 1527 года.
Приводимые цифры круглы, что подчѐркивает их приблизительность, однако автор явно
стремится ошеломить читателя. У последнего складывается чѐткая картина долгого
беззастенчивого разграбления Германии папством, а протест против этого разграбления
изображѐн на страницах «Хроники» также как исключительно массовое явление. «Доктор
Лютер» не является ни первым, ни крупнейшим среди лидеров этого движения, хотя ему
отводится заметная роль (особенно после Вормсского рейхстага 1521 года). Историк не
подчѐркивает внутренней связи между отдельными событиями Реформации, представляя
206
Chronica ... Bl. 455r.
См. подробнее об этом Keute H. Op. cit., S. 124 и далее. Этот вывод сделан на основании анализа всего
корпуса сочинений Хедио, не только историко-церковного характера.
208
Chronica ... Bl. 465v.
207
106
их как поток событий, вызванный непреодолимыми объективными причинами. При
прочтении последних книг «Хроники» становится ясно: именно события последнего
времени являются главной целью всего замысла, начиная с перевода позднеантичных
классиков церковной историографии. Хедио обладает определѐнным «туннельным
зрением»: чем ближе к его времени, тем выше интенсивность истории, плотность
событий, и тем уже географический кругозор. События прирастают в актуальности, а
актуальность воспринимается им глубоко лично и поэтому вынужденно должна была
быть германской. Географический и тематический охват событий сужается по мере
продвижения историка во времени. «Церковь» не выступает в «Хронике» Хедио как
консолидированное явление общественной жизни. Вместо него на страницах книги
присутствует абстрактное «папство» (papsttumb), действующее посредством пап и их
ближайших сподвижников.
Последнее
столетие
перед
Реформацией
является
важнейшим
элементом
общеисторической концепции Хедио. Еѐ основные положения, чѐтко и элегантно
подмеченные Х. Кѐйте по всем произведениям историка209, легли в основу всех
развѐрнутых концепций протестантской стороны в межконфессиональной полемике. С
поправкой на «Хронику древних христианских церквей» она выглядит следующим
образом.
Всѐ началось с Базельского Собора (1431-49), после которого политика папства в
версии Хедио сводится к игнорированию или противодействию его решениям.
Одновременно прослеживается чѐткая линия на усиление экономической эксплуатации
церквей, особенно на Севере Европы. Противостояние Рима с германскими епархиями
приводит к формулированию и закреплению в общественном сознании претензий к
папству, постепенно в течение нескольких десятилетий консолидировавшихся в единую
идеологическую систему. Со своей стороны, считает Хедио, папство всѐ более выступает
как экономически вредная, разрушительная сила, претендующая на тираническое
господство над единоверцами. Важнейшая линия исторической концепции Хедио
составлена из «праведников» - деятелей, отстаивающих церковные добродетели и
протестующих против узурпаций Курии; их череда непрерывна, и присутствие в
историческом процессе становится всѐ более массовым. Разумеется, всѐ происходящее в
период после Базельского Собора является частью Промысла Божиего, нацеленного на
демонстрацию величия господня и конечного торжества истинного христианства.
Личность Лютера довольно важна; в «Хронике» Хедио он впервые выступает персонажем
исторического сочинения. Впрочем, историк всячески подчѐркивает, что его историческая
209
Keute H. Op. cit. S. 126.
107
роль не уникальна и что он, как и его современники-единомышленники, представляет
собой реализацию Божьего замысла по противостоянию Церкви Сатаны. Реформация не
имеет осязаемых причин в политической или доктринальной деятельности Курии и не
является делом рук человеческих; при этом она не может быть персонифицирована в
одном или нескольких деятелях. Напротив, последнее столетие истории в «Хронике»
мастерски
представлено
как
массовое
движение,
распространившееся
на
всю
«Германию», то есть германскую ойкумену в самом широком смысле. В этом движении
нет деятелей, сыгравших решающую роль, и их «предтеч» - Хедио вообще не оперирует
такими категориями причинно-следственной связи. Видимо, довольно близка к истине
версия Хедвиги Кѐйте, согласно которой критики церкви XV века были «своего рода
«партнѐрами» реформаторов, объединѐнными с ними в борьбе против общего противника
и за Истину»210. В определѐнном смысле можно вести речь о Реформации Хедио как
движении «большинства», поскольку при почти полном безразличии к социальным
вопросам и вообще к классификации людей по тем или иным сословным признакам (без
которой само понятие «большинства» неопределимо) историк показывает редкое
единодушие практически всех исторических деятелей конца XV и особенно начала XVI
веков. Для него нет истории этого времени вне конфликта вокруг церкви; почти нет
людей, которые заслуживали бы упоминания в историческом сочинении и не были
задействованы в этом конфликте.
Эта историческая концепция надолго задержится в протестантской исторической
литературе. Важным этапом еѐ развития станет «Каталог свидетелей истины» Флация
Иллирика: в нѐм череда церковных деятелей будет прослежена на всѐм протяжении
церковной
истории,
станет
самоцелью
и
важнейшей
моральной
ценностью211.
Представление о Реформации как движении большинства, распространившемся на всю
германскую ойкумену, как мы увидим, будет характерно и для «Магдебургских
центурий», хотя и не получит вещественного оформления. «Хроника древних
христианских церквей» является важнейшим ключом к пониманию дошедших до нас
рукописных материалов, составленных для последних двух томов «Центурий»212.
Концепция последнего столетия перед Реформацией как переломного времени будет
210
Keute H., Op. cit. S. 140.
Было подмечено, что противонаправленная деятельность католической стороны в конфликте имела
целью создание универсального «каталога ересей», по временной протяжѐнности и плотности
соответствующего «каталогу праведников» (или, по Флацию, «свидетелей истины») лютеранской партии.
Эти две коллекции неожиданным образом аналогичны по форме, несмотря на совершенно разную логику
создания и, в общем, разнличное наполнение. См. об этом Oberman H. A. Forerunners of the Reformation: the
shape of late medieval thought. NY, Holt, 1966, p. 31; Benrath G. A. Kirchliche Opposition, kirchentreue
Frömmigkeit und Humanismus. In: Ökumenische Kirchengeschichte. 2. Mittelalter und Reformation. Mainz, 1993.
Bd. 3, S. 273.
212
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, HAB 11. 11. Aug. fol (15 Центурия), 6. 5. Aug. fol. (16 Центурия).
211
108
звучать в лютеранских церковных историях на протяжении всего XVII века, постепенно
усложняясь и распространяясь на соседние эпохи. Во времена Хедио только «Хроника
Кариона» обнаруживала понимание политических и религиозных противоречий внутри
христианского мира, однако последняя значительно уступала «Хронике древних
христианских церквей» в драматизме и остроте изложения.
Исследования показывают, что практически вся использованная Хедио в
«Хронике» историческая фактура была незадолго до публикации его сочинения
опубликована другими авторами. Иными словами, он создавал своѐ сочинение, опираясь
на вышедшие недавно книги. В «Хронике» практически отсутствуют источники или
данные, совершенно не известные современникам. Новизна «Хроники» заключалась во
взаимосвязи фактов, в изложении, в цельности концепции. Последовательный характер
исторической реконструкции, исключительная информативность позволила не только
сказать новое слово в уже формирующемся жанре церковной историографии, но и
выступить вразрез с устоявшимися нормами гуманистической историографии. Хедио
разделял
с
предшественниками-гуманистами
исторический
материал,
но
не
концептуальный подход; в результате этого появилось качественно глубоко отличное от
гуманистических образцов сочинение213. Использование современных публикаций
документов, подготовленных римской Курией (например, «Комментарии о деяниях
Базельского Собора» папы Пия II) обеспечило всеохватность исторического материала,
однако никоим образом не повлияло на концепцию. Более того, широкое привлечение
материала из публикаций обеих сторон диспута способствовало складыванию нового
механизма
полемики,
направленной
на
учитывание
«позитивной»
информации,
накопленной и предоставленной идеологическим противником.
Важнейшим достоинством «Хроники древних христианских церквей» стал
континуитет изложения, возведѐнный в основополагающий историографический принцип.
Историческая
преемственность,
взаимосвязь
эпох
были
важнейшим
элементом
мировоззрения, сформулированного уже в первых сочинениях Мартина Лютера. Именно
на непрерывности Истины, наличии еѐ защитников во всех исторических эпохах
основывалась уверенность в собственной правоте, в глубокой религиозной связи с
Евангелием и утверждаемыми им ценностями. Собственно, противная сторона и еѐ
деятельность также рассматривались сквозь призму континуитета: отправной точкой
лютеровской критики был тезис о том, что уже несколько столетий Церковь христова
управлялась Антихристом в обличии римского папы. В этой обстановке было немыслимо
представить себе, что Истинная церковь прерывала своѐ существование; следовательно,
213
Подобную мысль высказала Х. Кѐйте. Keute H. Op. cit. S. 127.
109
«во все времена» необходимо было прослеживать еѐ присутствие, а доказательством его
могла быть только деятельность еѐ защитников (в более поздней формулировке Флация
Иллирика – «свидетелей истины»). Лютеровское видение церкви в еѐ историческом
развитии делится на две вышеописанные концепции Церкви Антихриста и Истинной
церкви. В поздних сочинениях Мартина Лютера прослеживается вполне манихейское
восприятие двух традиций214, укоренившееся в собственном восприятии известного тезиса
св. Августина.
«От начала мира до конца его существует две Церкви, которые Св. Августин
называет Каином и Авелем. И Иисус Господь наш требует от нас, чтобы мы не
принимали ложной Церкви, и сам различает две Церкви – истинную и ложную»215.
Воздействие праведников на церковную историю было различным в разные
исторические эпохи, и Лютер предлагает даже собственную периодизацию. Во времена
Апостолов, Отцов церквии первых Вселенских Соборов церковь следовала истинным
путѐм и управлялась в целом правильно, хотя и небезошибочно. Затем, по мере
политического усиления папства, церковь всѐ дальше отходила от верного пути;
установившаяся «тирания папы» обозначила новую эпоху, после которой Истина
«невидимо присутствовала в видимой церкви». Особо заметной Истина становилась в
трудах таких выдающихся деятелей, как св. Бернард, Бонавентура, Франциск Ассизский,
Савонарола, Ян Гус и другие216.
В «Хронике древних христианских церквей» концепция континуитета получила
своѐ дальнейшее развитие. В отношении первых веков христианства Хедио «принимает на
веру» концепцию Лютера, никак не уточняя еѐ – по Воле Божией защитников Истины во
все, даже самые сложные времена, было мало, но они были обязательно. Самостоятельной
концепция Хедио становится лишь применительно к последнему столетию перед
Реформацией: еѐ начало неизбежно датируется 1517 годом (а не 1521 или 1525, как у
некоторых других авторов) во исполнение знаменитого пророчества Яна Гуса.
Пророчество и его исполнение вступает в определѐнное логическое противоречие со
схемой непрерывной, но не слишком обильной череды праведников. Несовместимые друг
214
«Дуалистическим» называют его ведущие протестантские историки. См, напр., Oberman H. Op. cit. S. 20,
Keute H. Op. cit. S. 132.
215
Luther M. Gegen Hans Worst (1541). In: (Luther M.) D. Martin Luthers Werke : kritische Gesamtausgabe.
Weimar: Bohlau. Bd. 51, 1914, S. 477. Далее в тексте Лютер развѐрнуто формулирует, каких верований
должен придерживаться тот, кто стремится к Истинной церкви. Разумеется, подобные высказывания
содержатся и в других поздних сочинениях Лютера.
216
См., например, сочинение «О злоупотреблении Мессой» (1521). Luther M. Vom Mißbrauch der Messe.
: (Luther M.) D. Martin Luthers Werke : kritische Gesamtausgabe. Weimar: Bohlau. Bd. 8, S. 530.
110
с другом способы реализации причинно-следственной связи, характерные для двух
концепций, наводят на мысль: переходом к логике пророчества Хедио подчѐркивает
исключительность столетнего периода между Констанцским собором и обнародованием
95 тезисов Мартина Лютера. Исключительность объясняется тем, что в представлениях
Хедио и большинства его единомышленников мир идѐт к своему завершению, поэтому
ход истории неизбежно меняется, а столетие перед решающей религиозной битвой имеет
поворотное эсхатологическое значение. Ещѐ одного (после времѐн евангельских и
столетия перед выступлением Лютера) эпизода истории, в которой вновь могла бы
реализоваться схема «предсказание-исполнение», уже не будет! Эта теория не была
сформулирована
эксплицитно,
однако
была
довольно
очевидна
читателю,
наполнявшемуся торжественностью и пониманием исключительной важности настоящего
момента для реализации божественного замысла в целом. «Линия Каина», то есть череда
служителей Антихриста, так же непрерывна, как и последовательность защитников
Истины, и при этом более многочисленна, однако она свободна от логической коллизии
последнего столетия перед Реформацией. Более того, на материале 1417-1517 годов никак
не выделяется, что в эти годы Римская церковь находилась под особенно жѐстким
контролем Сатаны: пророчество Гуса, видимо, не касалось противной стороны.
Как мы видим, Хедио вводит в историческую практику ряд новаторских элементов.
Не менее важно, однако, и то, от чего Хедио отказывается: исследователи историографии
традиционно реже замечают «новаторский отказ», то есть отход от устоявшихся в науке
клише. Между тем, безусловным прогрессом является отход историка от всемирноисторических построений в духе гуманистической всемирной истории. В частности,
целью написания «Хроники древних христианских церквей» не является «услаждение»
или «поучение» (пресловутые delectare ac docere) читателя. Воздействие на читателя у
Хедио
вторично;
деятельность
историка
воспринимается
как
самодостаточная,
направленная на создание объективной, не зависящей от нюансов восприятия обществом,
ценности. В связи с этим обвинение, выдвинутое Хайнцем Шайбле в «журналистском»
характере трудов Хедио217, не выдерживает критики – специфика журналистского труда
заключается как раз в воздействии на современного читателя, быстром, эффективном, но
краткосрочном. Хедио не предлагает читателю готовых решений, традиционно
заключающихся, например, в необременительных рассуждениях об общих причинах
некоторых отдельных событий или о нравах, пороках и других свойствах человеческой
натуры. Историк понимает, что причины исторических событий, особенно масштабных и
217
Scheible H. Der Plan der Magdeburger Zenturien und ihre ungedruckte Reformationsgeschichte. Heidelberg,
1960 (Diss.). S. 21.
111
длительных, выходят далеко за рамки воли отдельных личностей или драматического
стечения обстоятельств. Особенно заметно это при анализе некоторых событий недавнего
прошлого. В частности, Хедио стремится к комплексному определению причин
проведения Констанцского и Базельского соборов, а также их исторического значения.
Эти события имели в общеисторической картине Хедио эпохальный характер – именно с
них начинался последний период истории, структурно и концептуально резко выделенный
на фоне других. Историк понимает, что эти соборы созывались не потому, что кто-то
принимал решение об их необходимости, а потому, что они в тогдашнем видении
наиболее соответствовали потребности института Церкви в упрочении единства,
поставленного под угрозу схизмой и ересями. При этом он не ограничивает себя
распространѐнным тезисом о необходимости мер для восстановления разрушающегося
механизма господства католического Рима (как это делали, к примеру, Науклер и
некоторые другие авторы), а обнаруживает понимание желательности этого единства и
крепкой церкви со стороны всех присутствующих в еѐ лоне сил, всего христианского
мира. С этой точки зрения произведения Хедио являются бесспорным шагом вперѐд на
пути превращения истории в науку.
Отход от тогдашней научной традиции проявился и в отношении к воле и
самостоятельности читателя. Ему предоставляется много информации, однако не
возводится никаких препятствий к еѐ осмыслению в виде готовых ответов и упрощающих
схем. Читатель Хедио должен часто решать сам. Конечно, информация подобрана и
изложена специально для тех, кто разделяет конфессиональные и политические взгляды
автора, однако расчѐт на самостоятельное осмысление еѐ, помимо прочего, льстил
читатетелю и стимулировал его на «самостоятельное» открытие истин, к которым его
подталкивал автор. Важнейшее историческое произведение Меланхтона, «Хроника
Кариона», является примером тяготения к глобализирующим всемирно-историческим
схемам, в которых христианское мировосприятие монополизирует всѐ прошлое. Хедио,
напротив, воздерживается от
упоминания расхожих
схем периодизации
(вроде
пророчества Даниила или схемы шести эпох). Этот шаг превращает его произведение в
труд профессионала, написанный для самостоятельно мыслящих читателей, свободных от
упрощающих схем. При всей наивности построений Хедио для читателя XXI века его
произведение обретает некоторые несомненные черты научности, характерной уже для
историографии Нового Времени.
112
Проведѐнный Хедвиг Кѐйте анализ богословских взглядов Каспара Хедио показал
в деталях довольно неожиданную близость его взглядов взглядам Мартина Лютера218.
Хедио не называл себя последователем Лютера и отводил ему роль «первого среди
равных» германских «протестующих». Такие взгляды вообще были очень характерны для
Страсбурга, в котором Хедио жил долгое время.
Ещѐ одной важной характеристикой концепции «новейшей истории» в «Хронике»
Хедио является чѐткое различие между историей церкви и всеобщей историей. Понимание
специфичности первой в целом было нехарактерно для первой волны протестантских
историков. Для древней церковной историографии (Евсевий и его ближайшие
последователи) было характерно отсутствие различия между этими двумя категориями. В
Средние Века и даже в эпоху Возрождения произведения, формально относящиеся к
церковной историографии (например, труды Отто Фрейзингенского, “Liber de vita Christi
ac omnium pontificum” Платины и “Vitae Romanorum Pontificum” Барнса), в историкофилософском и методологическом отношениях ничем от большей части тогдашних
исторических сочинений не отличались. Для описания деяний пап и императоров, других
действующих лиц использовались одни и те же критерии и приѐмы, и применение общих
параметров (категории Добра и Зла, общая принадлежность к «граду Божиему» и др.)
превращало историческую картину в однородное с точки зрения исторического подхода
повествование.
Подход Хедио к отбору материала для конструирования своей истории совершенно
самостоятелен. Это позволило ему, говоря о церковной истории, включить в неѐ
эволюцию Видимой Церкви как самостоятельный объект. Таким образом, его церковь –
это не непрерывная традиция противостояния ересям, не развитие религиозной Истины и
не реализация божественного Логоса. Его «церковная история» не тождественна
«Священной истории».
Применительно к «новейшей истории» это означает следующее. Безусловно,
последнее перед выступлением Лютера столетие – это время освобождения Слова
Божиего из оков Видимой Церкви, а после 1517 года – совершенно свободной циркуляции
его на обширных пространствах поддержавших Реформацию земель. Непосредственно
предшествовавшая Лютеру эпоха была временем наибольшего упадка Церкви как
института. Образовавшаяся колоссальная пропасть между Церковью и Словом постоянно
углублялась и оттенялась событиями, также набиравшими эпохальность и размах –
церковные Соборы, крестьянская война в Германии, разграбление Рима 1527 года и
218
Keute H. Op. cit. S. 132, 145-183, 190-201. При этом, в частности, в работах Хедио зафискировано полное
отсутствие случаев текстуального заимствования из трудов Лютера.
113
усиливавшийся
турецкий
натиск
иллюстрировали
основной
тезис
Хедио
с
исключительным драматизмом. Драматизм подчеркивается особенной цельностью
общеисторической картины, отразившейся, в частности, в отказе от деления истории на
периоды с беспрекословно строгими границами. Историк избегает излишней чѐткости в
периодизации и в своѐм повествовании выделяет, как мы говорим с середины ХХ века,
«факторы длительной протяжѐнности». Таким образом, подходя к описанию событий XVначала XVI веков, читатель готов вынести суждение о Соборах, выступлениях Лютера,
его оппонентов и последователей с точки зрения человека, владеющего самой широкой
исторической перспективой. Более давние события в повествовании Хедио служат для
оценки менее отдаленных во времени, а «новейшая» история отличается от «новой» тем,
что выступает самостоятельным объектом для сравнения и оценочных суждений.
«Церковь» этого периода, как и Церковь вообще, выступает на страницах книги не
особым организмом, преисполненным божественной благодати или объектом борьбы
между Добром и Злом, а земным, не лишѐнным недостатков и непрямо развивающимся
институтом. Эта концепция219 звучит удивительно современно и отражает мнение многих
уже в наш век, свободный от межконфессиональных идеологических конфликтов и
наполненный другими страхами и опасностями.
«Хроника древних христианских церквей» была высоко оценена современниками и
сыграла важную роль в складывании межконфессиональной полемики. Помимо новой
концепции, она и по форме существенно отличалась от предшествующих текстов: в самом
деле, сочинения Науклера, Крантца и Вимпфелинга выглядят по сравнению с ней
совершенно по-средневековому. Предложив своѐ «продолжение» классических церковных
историй до современных событий, Каспар Хедио сформировал первую целостную
протестантскую историческую концепцию. Кроме того, он свѐл воедино общеизвестные
сведения и расположил их вдоль главного исторического стержня – череды императоров
от Аркадия и Гонория до Карла V. Документами, использованными и переведѐнными
Хедио, пользовался Маттиас Флаций Иллирик при составлении «Каталога свидетелей
истины» - первой развѐрнутой исторической концепции лютеранской церкви. В свою
очередь, материалы «Каталога» легли в основу «Магдебургских Центурий» - поворотного
явления в церковной историографии XVI века.
219
«Из церковной истории можно, кроме того, вычитать, где находилось Слово Божие, распространялось
оно или встречало сопротивление. Это, однако, не означает для Хедио, что она представляет собой особую
сферу Священной истории. Церковь в церковной истории – ответ Человека Богу и Его Откровению». Keute
H. Op. cit. S. 231.
114
§6. Вторая Схоластика и зарождение локального метода
Решительный поворот в судьбах европейской историографии произошѐл в XVI
веке. Накопленные гуманистами знания существенно расширили сферу, подвластную
охвату в исторических сочинениях. Последовавший за проповедью Мартина Лютера
конфликт был переведѐн сторонами из чисто богословской в исторически-богословскую
плоскость. Учѐные мужи обратились к исследованию прошлого церкви, и история на
многие десятилетия стала полем битвы двух противоборствующих идеологий. Это
сражение сыграло решающую роль в становлении научного аппарата истории,
формировании самого понятия «точного исторического знания». По сравнению с
богословием понятийный аппарат гуманистической историографии реже выходил за
пределы общедоступных категорий здравого смысла; по этой причине история до поры до
времени была исключена из идеологического диспута учѐной элиты. Главная интрига века
концентрироалась вокруг вопроса, в силу своей фундаментальности доступного только
лучшим профессионалам. Заинтересованность властей в победе своей партии в конфликте
католической и протестантской церкви была важным фактором, обеспечивавшим отбор к
участию в полемике с профессиональной точки зрения. Отметим, что сказанное относится
в примерно равной степени к обеим сторонам в конфликте: сравнительный недостаток в
кадрах у протестантов компенсировался ранним переходом к групповому характеру
работы. Большая управляемость католической интеллектуальной элиты, высокий уровень
еѐ централизации, практически неограниченный материальный ресурс обеспечили перевес
партии католиков далеко не сразу: потребовалось время на выработку концепции,
формирование мощного теоретического фундамента, обеспечившего незыблемость
историко-церковной концепции католической церкви на протяжении, как минимум,
четырѐх столетий. В ходе спора обе стороны испытывали потребность в элементах
информации из «поля» истории, которая была бы безупречна с профессиональной точки
зрения и одновременно красноречива при апеллировании к верующим массам.
Требовались
рациональные
элементы,
приближающие
инструментализирующий
историческую информацию спор к главной науке того времени – схоластической
теологии.
С другой стороны, и этой теологии было что предложить тем, кто отвечал за
ведение «прикладных» религиозно-идеологических дебатов. Важнейшим элементом
складывания научного аппарата стало состоявшееся в целом в рамках Второй
115
схоластики220 осмысление логической сущности аргумента, его роли в идеологическом
споре, а также связанное с этим формирование понятия «точного знания» в религиозноидеологическом диспуте и ещѐ шире – в гуманитарных науках. Благодаря в первую
очередь трудам испанских богословов история церкви уже в XVI столетии начала свою
трансформацию в поноправную
Ключевым понятием, легшим в основу нарождающегося понятийного аппарата
новой науки, стал locus – термин, пришедший в историю из схоластической логики221 и
означавший «место размещения аргумента». Родилось это понятие ещѐ в рамках античной
риторики (у греков оно называлось ηόπνο – «местность»): на первом этапе подготовки
речи (и, шире, текста) – inventio – в защиту постулированного тезиса формировалась
самая общая структура размещения отдельных положений, которая затем заполнялась
конкретным содержанием. Содержание стандартно расположенных аргументов подчас
было также стандартизировано, и тогда оно получало название «расхожего тезиса» - locus
communis222.
Понятие locus было подвергнуто переосмыслению в труде одного из крупнейших
деятелей «второй схоластики» профессора Саламанкского университета Мельчора Кано223
(1509-1560) De locis theologicis224, что может быть переведено на русский язык как «Об
аргументах в теологии». Работа над книгой была начата в 1543 году; двумя годами позже
начался Тридентский Собор. Труд Кано оказался очень созвучен требованиям времени,
хотя с самого начала это и не было очевидным. Тридентский Собор не сразу взял курс на
активное доктринальное противодействие «лютеровской проказе», но когда это
произошло, именно работа Кано легла в основу теории аргументирования теологического
220
Подробнее об этом см. Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. Спб., 2006. 350 с.
Зародился он ещѐ в античной риторике; первое определение было дано в «Топике» Аристотеля. См.
подробнее M. Venard e. a. Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome VIII: le temps des confessions
(1530-1620/30). Paris, 1992.C.990-1010; Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб, Университетская книга, 1997. 479с.
222
Известно сочинение Филиппа Меланхтона Loci communes rerum theologicarum seu hypotyposes theologicae
(первое издание – Wittenbergae, 1521). В русский язык проникло выражение «общее место», а в английский
– commonplace.
223
Подробнее о нѐм см. Touron A. Histoire des hommes illustres de l’ordre de S. Dominique. Vol. IV, Paris, 1747,
pp. 193-204; Caballero F. Vida del illustrissimo sr. d. fray Melchor Cano del orden del Santo Domingo. Madrid,
1871; J. Quétif, J. Echard, edd., Scriptores Ordinis Praedicatorum. V. 2 Lutetiae, 1721, pp. 176-178; Werner K.
Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christlichen Theologie. Bd. IV. Schaffhausen, 1865.
780 c. Кано признан «основателем фундаментальной теологии», а исследуемое здесь его произведение –
«первым систематическим изложением богословского учения о познании и методе» (См. статью Ф. В.
Баутца “Cano” в Biografisch-bibliografisches Kirchenlexicon. Bd. I, Hamm, 1990. Sp. 914-915).
224
В данной работе мы использовали новейшее издание Cano M., De locis theologicis (ed. Belda Plans J.).
Madrid, 2006. 544 c. (далее – De locis…). К сожалению, оно не избежало некоторых неточностей, которые, в
свою очередь, выверялись по венецианскому изданию Locorum theologicorum libri duodecim. In quibus non
modo vera refellendi universos Christianae Religionis hostes, confirmandique sacra dogmata ratio, ac usus exacte
ostenditur, verum etiam omnia fere quae hodie in controversiam habentur, luculentissime examinantur. Auctore
Reverendiss. D. D. Melchiore Cano, Episcopo Canarensi, ordinis Praedicatorum, Primariae Cathedrae in Academia
Salmanticensi olim Praefecto. Venetiis, 1567. 480 c.
221
116
спора. 17 лет – с 1543 до самой смерти в 1560 году – Кано писал свою книгу и не успел
закончить подготовку еѐ к публикации. Первое издание книги вышло в свет после смерти
автора в Саламанке в 1563 году225. В завершѐнном виде книга представляла собой
установленную от имени католического богословия иерархию ценности аргументов для
тех случаев, когда их приходилось выстраивать по старшинству или сопоставлять друг с
другом.
Важнейшим из отправных тезисов было утверждение (уходящее корнями ещѐ в
аристотелеву логику), что любое доказательное положение должно быть основано на
определѐнной базе – рациональном (но тогда – логически бесспорном) доказательстве или
авторитете, также бесспорном, но – с точки зрения христианского учения. В католической
традиции уже предпринимались попытки анализа ситуации, при которой требуется
сделать выбор в пользу одного из противоположных тезисов, каждый из которых имеет
такое обоснование. В кругу схоластов-доминиканцев (а именно к этому Ордену
принадлежал Мельчор Кано) часто цитировался Фома Аквинский, уже давно
обозначивший теоретический аспект данной проблемы226. Предложенная Кано иерархия
состоит из 10 положений, первые пять из которых имеют «божественное» происхождение,
то есть опираются на религиозный авторитет, не опосредованный в той или иной мере
человеческим участием. Вторая половина – это то, что может быть рассмотрено как
результат человеческого вмешательства в реализацию божественного замысла. Очевидно,
что такая классификация соответствует популярному в те времена условному разделению
Моисеева закона на две Скрижали Завета, касающихся закона божественного и
людского227.
На первое место по авторитетности материала, которым можно заполнять локусы
готовящегося диспута, выходит Священное Писание. Это очевидное положение
потребовало, тем не менее, пространных аргументов теолога из саламанкского
университета. Причина проста – именно вопрос о Писании стал краеугольным камнем
первых доктринальных столкновений с лютеранами. Как известно, теология лютеранства
225
Книга оказалась настолько востребованной, что последовала серия переизданий (Лувен 1564, Венеция
1567, там же 1569 и т. д.). Всего книга Кано была издана на языке оригинала более 30 раз.
226
См. Summa theol., Q. 1, P. 8, resp. ad arg. 2. В русском изд. Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть I.
Киев-Москва, 2002, с. 13-15.
227
Как раз в 1558 году Филипп Меланхтон, излагая официальную версию лютеранского видения истории,
говорит, в частности, о том, что дохристианская история иллюстрирует нарушения заповедей из второй
Скрижали, а последовавшая история Церкви Христовой – первой. См. в целом Praefatio в Ph. Melanchtoni
Chronica Carionis. Wittenbergae, 1558. SS. 4-5. См. также Backus I. Historical Method and confessional identity
in the era of the Reformation (1378-1615), Leiden-Boston, 2003. C. 326-338. Традиционное изображение
Скрижалей Завета в двухчастной форме можно рассмотреть на известной картине Гвидо Рени «Моисей со
скрижалями», хранящейся в римской Галерее Боргезе и написанной ок. 1624 года, а также в произведениях
Хосе де Риберы («Моисей», 1638) и Рембрандта ван Рейна («Моисей разбивает Скрижали Закона», 1659).
117
зиждилась на Писании в противовес другим «источникам божественной истины». Не
отвергая авторитета Писания и даже располагая его превыше других источников
авторитета, Кано, тем не менее,
прилагает
массу усилий, чтобы обосновать
авторитетность Писания на том факте, что сама церковь эту авторитетность
провозглашает228. В пространном доказательстве этого положения мы можем наблюдать
позднюю схоластику во всѐм еѐ великолепии. В самых, казалось бы, безнадѐжных
ситуациях, когда часто используемое «лютеранами»229 доказательство состоит только из
цитаты из Писания и, следовательно, само по себе под сомнение поставлено быть не
может, ему искусно подбирается противостоящая, но ещѐ более убедительная цитата.
На втором месте в иерархии Кано располагается «авторитет традиции Христа и
апостолов»: будучи незафиксированной в Писании, эта устная традиция, тем не менее,
превалирует над письменными свидетельствами, относящимися, к примеру, к более
поздней деятельности церкви. Затем следуют авторитет кафолической (то есть всеобщей)
церкви (3 место) и Соборов (4-е), «в первую очередь – Вселенских». Слово catholica не
должно вводить нас в заблуждение. В данном контексте на 3 месте рассматривается лишь
Церковь как общественный институт, противоположный «не-церкви», то есть речь идѐт о
разумности выделения особого пространства Церкви – топологического и ментального.
Наличие «греческой церкви» как независимой от Рима ветви христианства не ставится под
сомнение. Молчаливое уважение к ней объясняется тем, что она, в отличие от
лютеранства и подобно римской церкви, ведѐт свою родословную «от апостолов». В
тексте Кано вообще различие между католической и восточными православными
церквями не педалируется: куда опаснее «чума» лютеранского учения, куда насущнее
необходимость бороться с врагом, которому вообще не находится места среди 10
ступеней иерархии научных авторитетов. На пятом месте в иерархии стоит «римская
церковь», то есть источник безусловного авторитета для других христианских церквей,
тем не менее, опирающийся на общие для всех христиан корни – первые 4 ступени. Этот
тезис, последний из имеющих божественное происхождение, также имеет особое
значение для борьбы с лютеранством.
Шестая ступень авторитетности – это «учения древних святых». Очевидно, словом
«святые» в оглавлении назывались те из них, кто оставил письменное изложение своего
учения, то есть признанные церковью Свв. Отцы. Понимая, видимо, что термин Patres при
всей своей традиционности может дать почву для обычных нападок оппонентов-лютеран
228
См. De locis … P. 31.
Как и в других католических трудах XVI века, здесь это ругательное слово используется очень широко.
Так, часто цитируется Ж. Кальвин (в частности, «Наставление в христианской вере»), который лютеранином
в нынешнем смысле слова отнюдь не был.
229
118
и по этой причине в оглавлении и названии глав использован быть не может, Кано
прибегает к более обтекаемому эвфемизму sancti veteres. Имплицитно Кано соглашается,
что 6 место Отцов в общей иерархии – дань искусственно поддерживаемой стройности
всей структуры в целом, ибо кто замахивается на «древних святых», тот ставит под
сомнение всѐ здание христианского богословия230.
За Отцами, по логике, должны следовать Учители. Так оно и есть: к
«схоластическим теологам», правда, добавлены и ныне живущие специалисты по
«папскому»,
то
есть
каноническому
праву,
поскольку
оно
«соответствует
схоластическому богословию». Отметим, что Кано избегает и определения Doctores. С
1298 года оно уже было в ходу, однако Кано избегает чрезмерной конкретизации
категории, что позволяет отнести к ней всех почитаемых в католическом мире учѐныхсхоластов. На восьмом месте – результаты точных наук, поскольку они очевидны. Их
авторитет Кано называет ratio naturalis и отводит ему, в общем-то, незначительную роль в
общей картине мира. Кано, безусловно, известны случаи, когда данные, например,
евклидовой геометрии противоречат Писанию, но они, разумеется, трактуются согласно
иерархии, то есть в пользу последнего. На предпоследнем месте расположены «философы,
следующие натуральному разуму»; к ним можно приравнять, по мнению Кано, и юристов,
состоящих на службе у светских государей, поскольку они-де следуют философам.
Наконец, на последнем месте стоит авторитет «истории человеков, либо
написанной заслуживающими веры писателями, либо переданные не на основе суеверий
или бабьих басен, а на основе серьѐзных и постоянных критериев»231. Провозглашение
этого авторитета и его развѐрнутое обоснование в книге Кано имело для историков
буквально революционное значение. Интересно, что если подавляюще большинство
принимаемых Кано в расчѐт аргументов имеет либо ограниченный объѐм, либо
конкретных авторов, история принимается комплексно – количество и качество авторов и
текстов не оговаривается.
Прежде всего, нас не должно смущать последнее место, отведѐнное в этой
иерархии истории. Кано имел в виду, конечно, не авторитетность гуманистов-авторов
исторических сочинений. Уточним: речь идѐт не о людях, а об их сочинениях,
содержащих информацию о прошлом. Отныне мир теологии воспринимает какую бы то
ни было информацию
«извне» только в виде исторического сочинения. Это
обстоятельство значительно стимулирует престиж исторических сочинений среди
230
Fateamur necesse est, nullum omnino a sanctis auctoribus firmum argumentum sumi posse, ad fidei theologiae
dogmata corroboranda. De locis … p. 256.
231
De locis … P. 5. Postremus (locus. – IA) denique est humanae auctoritas historiae, sive per auctores fide dignos
scriptae, sive de gente in gentem traditae, non superstitiose atque aniliter, sed gravi constantique ratione.
119
интеллектуальной элиты и не только. Более того: не всякое историческое сочинение
способно быть источником принимаемой во внимание информации. Эта информация
должна быть отобрана «в соответствии с серьѐзными и постоянными критериями» - gravi
constantique ratione.
Конкретные примеры использования исторической информации в качестве
аргументов для loci касаются, по понятным причинам, в основном ветхозаветных
сюжетов. Внешне они носят весьма мелочный характер. Это вполне объяснимо, вопервых, необходимостью «соблюсти пропорции», показывая, что помещение истории в
конец теологической иерархии вполне целесообразно. Во-вторых, за каждым из мелких
примеров стоит гораздо более масштабная проблема достоверности исторического знания,
надѐжности способов его добывания. На страницах из главы XI его сочинения можно
увидеть даже рассуждения Кано о ценности народных верований, легенд и устного
предания – того, что будет впервые научно сформулировано в сочинении Дж. Вико
«Новая наука» (1723), а надѐжным инструментом исследования станет только в арсенале
историков-романтиков XIX века. Наконец, Кано сам открыто заявил в главе III книги XI
(посвящѐнной целиком истории в качестве локуса), что применение истории в качестве
источника информации вызывает меньше всего теоретических проблем. В самом начале
рассуждений об истории он отметил, что порой толкование простых вещей может стать
сложным, и в примерах сосредоточит свои усилия на доказательстве этого, для нас –
довольно умозрительного, положения. С практической точки зрения Кано гораздо больше
беспокоили такие ситуации, при которых не только сформулированная им теория, но и
через неѐ теология в целом может оказаться уязвимой. Имеются в виду случаи, в которых
«данные истории» (Кано выбирает практически не известные сегодня тезисы, которые,
очевидно, были в середине XVI века «на слуху» в Саламанке) якобы противоречат
теологическим постулатам. Незыблемость последних основана на всех предшествующих
иерархических уровнях локусов, и если данные истории будут слишком часто им
противоречить, это подорвѐт доверие к ней как к источнику правдоподобных232 сведений.
Он строго различает понятия пользы истории (utilitas, которая наиболее полно
постулируется в разделе 2 главы XI) и еѐ авторитетности (auctoritas). Вопрос о
достоверности исторического знания и его «полезности» для теологии тщательно увязан с
вопросом профессиональной оценки отдельных историков (по свидетельству Кано, во
всей методологии истории это самый сложный аспект233). Несомненным достижением
232
Топос о «правдоподобном» знании («истинное» доступно только через Писание) разделяли с Кано и его
противники – лютеранские богословы и историки.
233
Res omnium difficillima. De locis ... P. 341.
120
Кано, имевшим огромное значение для становления истории как науки, было
провозглашение объективной ценности (в том числе – для «царицы наук» как в общем,
так и в прикладном смысле) сведений, не защищѐнных авторитетом Церкви. Например,
важнейший для теологов вопрос о датировке Страстей Христовых приобретал особенное
значение из-за того, что широко распространѐнная версия, основанная на утверждениях
Иринея и Тертуллиана, легко опровергалась. Это, в свою очередь, лишь способствовало
убедительности аргументации противников-лютеран. Между тем, внести ясность в
данный вопрос, по мнению Кано, было легко с привлечением в систему аргументации
истории языческих народов (historias gentilium) – встречающейся в источниках датировки
по греческим Олимпийским играм234.
Итак, важнейшей проблемой в восприятии истории было доверие поставляемым ею
сведениям. Данные истории лишь иногда бывают стопроцентно надѐжными (certi); чаще
они могут считаться только «вероятными» (probabiles) 235. Поставщиками «надѐжного»
знания могут считаться только «священные авторы» (auсtores sacri), то есть представители
различных более высоких ступеней из иерархии локусов. Этот тезис был получен Кано в
качестве первого следствия из анализа одного принятого, по обычаю, за аксиому
утвеждения Аристотеля236. В нѐм Аристотель говорил о вере изучаемому материалу
(очень приблизительно говоря, «в слова учителя»), а Кано экстраполировал это положение
на веру в религиозном смысле. Это позволило не только сохранить за Аристотелем, в
качестве
«философа» расположенным
выше
историков
по
авторитетности,
его
привилегированное положение. Историки, тезисы которых не могут соперничать с
«надѐжными» положениями высших авторитетов, не могут быть им противопоставлены.
Тем не менее, своими «вероятными» положениями они помогают теологам опровергать
тех, кому нет места в иерархии – их «противников» и выдвигаемые последними «ложные
утверждения» (ad falsas adversariorum opiniones refellendas)237. Очень важен и следующий
вывод: если все «серьѐзные и получившие одобрение» (graves ac probati) историки
234
De locis … P. 339.
Подробнее см. главу XI. Там же (De locis … P. 347) мы находим и уточнение о том, что под «надѐжным»
(certus) Кано понимает то, что «годится для подтверждения истины, считающейся в богословии надѐжной»
(idoneus ad faciendam certam in Theologia fidem).
236
В изложении Кано это звучит следующим образом: Praeclarum est igitur Aristotelis illud, in omni facultate
atque doctrina oportere addiscentes credere, experimentis quippe cotidianis hoc nos nullo admonente discimus, quod
cognitionem ac rerum intelligentiam praecedit fides, subsequitur autem fidem sciencia quaecunque veri. – «Итак,
известны слова Аристотеля о том, что в любом процессе изучения наук обучающиеся должны верить.
Посредством повседневно приобретаемого опыта при отсутствии какого бы то ни было внешнего
воздействия мы постигаем следующую истину: познанию и восприятию предшествует вера; за верой
следует и понимание всякой истины».
Не вдаваясь в тонкие различия между категориями познания аристотелевой эпистемиологии (cognitio,
intelligentia и scientia) и этики (fides), ограничимся констатацией сложности и неоднозначности
терминологии, позволяющей интерпретировать философские положения в заданном ключе.
237
De locis … P. 347.
235
121
сходятся в подтверждении того или иного тезиса, разделяемого богословами, это означает,
что теология в своей совокупности подтверждается не только верой, но также и доводами
разума. Таким образом, в рамках официальной теологии Римской Курии провозглашается
крайне желательным, чтобы такая совокупность «серьѐзных и получивших одобрение»
историков – официальная историография – существовала как единое целое. История не
только допускается в качестве привилегированной дисциплины светского гуманитарного
знания, но и объявляется остро необходимой. Безусловно, именно это утверждение Кано,
мгновенно ставшее достоянием всех католических теологов, дало мощный стимул
консолидации исторической науки в качестве светского идеологического обоснования
того, что до сих пор утверждалось только средствами богословия. Тот же посыл,
очевидно, был услышан и «на другом берегу» - лютеране Меланхтона уловили тенденцию
и посредством «Магдебургских Центурий» нанесли мощный упреждающий удар.
Каким образом история может оказать такую бесценную поддержку теологии?
Например, вот таким:
Все серьѐзные историки сообщают, что Пѐтр в Риме и определил себе жить, и
принял за Христа мученический венец; как мы точно определили согласно приведѐнной в
книге V аргументации, римский епископ унаследовал первосвященничество от Петра.
Далее, все наиболее серьѐзные историки согласны в том, что Никейский Собор был
созван во времена императора Константина действительным первосвященником Церкви
Сильвестром. Из этих посылок мы выводим, что постановления Никейского Собора
являются истинными. Ведь понятно, что не может ошибиться высший орган Церкви,
признанный в своей работе римским папой. Истинность Никейского Собора следует из
того, что она подтверждается и совокупностью церковных пастырей, и признанием со
стороны Римского епископа238.
При первом знакомстве с этим, безусловно, важнейшим постулатом возникает
ощущение, что перед нами – логическая ошибка, заключающаяся в подмене категории и
смешении категорий веры и мирской логики. По зрелом размышлении (особенно при
попытках опровергнуть безупречные построения теолога из Саламанки) рождается
ощущение строжайшей логики, построенной на богословском базисе. Если дедуктивная
цепочка выглядит безупречной, то тот, кто возьмѐтся отрицать следствия этих
силлогизмов, будет вынужден отрицать и исходные постулаты, а значит, усомниться в
основополагающем. Таким образом, в распоряжении схоластов уже давно был
238
De locis … P.. 348.
122
замечательный инструмент, с помощью которого можно было подвести под ересь самые
разнообразные утверждения. Схоласты располагали строгим логическим обоснованием
своей монополии на истину; монополия подтверждалась великолепным образованием,
особенно в области логики, риторики и в других областях античной словесности. Этим
постулатом поле идеологического противостояния с лютеранами и другими «врагами
истинной церкви» существенно сужалось. По сути дела, вместо эмоционального диалогасражения за симпатии верующих оппонентам-лютеранам предлагалось участвовать в sui
generis логической ритуализированной забаве (вспомним ludus Й. Хѐйзинги), в которой
позиции официальной Курии заранее непоколебимы. Для того, чтобы попытаться доказать
свою правоту хотя бы в частностях, лютеране были вынуждены в «Центуриях»
предложить собственную логическую систему, менее теоретически обоснованную, менее
отлаженную
острым
логическим
инструментом,
но
также
довольно
глубоко
фундированную. Сочинение Кано спровоцировало начало битвы логик: история в ней
была лишь инструментом, который не должен давать сбоя.
Верный принятому в отношении других ступеней авторитета порядку, Кано
подвергает историю обычной проверке на совместимость с авторитетами более высокого
уровня. Современные исследователи239 обычно не придают значения тому, что эта
проверка ограничивается приведением данных, представленных некоторыми авторами и
расходящихся с принятой в богословии интерпретацией библейских событий (всего 18
эпизодов). Чаще всего эти авторы – уважаемые церковные писатели, не относящиеся, тем
не менее, к избранному кругу sancti veteres – Иероним, Епифаний, Климент
Александрийский, Евсевий Кесарийский и другие. Кано легко разрешает возникающие
апории; иногда достаточно констатации терминологического недоразумения, иногда –
отказа от буквального понимания библейского текста.
Приводя историю в качестве источника авторитета последнего уровня, Мельчор
Кано обнаруживает блестящее владение современной ему методологией исторического
исследования; не уступая в этом отношении ни одному из авторов столь популярных в
XVI столетии специализированных трактатов, он подробно описывает все наиболее
характерные приѐмы. Он рассуждает об «анналах» (annales, tempora) и «истории» как двух
методах экспозиции информации о прошлом, говорит о необходимости использования
источников, хранящихся в библиотеках и архивах, об их критике. Он подробно разбирает
случаи, когда авторство поддельных или сомнительных книг приписывалось – с целью
придания
239
большего
веса
содержавшимся
в
них
фактам
–
известным
своей
Например, А. Бьонди в книге L'autorità della Storia profana (De humanae historiae auctoritate) di Melchor
Cano. A cura di A. Biondi. Torino, 1973. 257 c.
123
добросовестностью историкам. В этом обстоятельстве можно разглядеть слабину в
остальном безупречной логической машины Кано: сфальсифицированные истории (к
примеру, фальшивка Анния из Витербо) опровергаются с привлечением Геродота,
Ксенофонта и других историков-язычников. Не может быть, чтобы источник (якобы
открытый Аннием), известный поздним историкам, никогда не цитировался более
древними, но уважаемыми за свою эрудицию авторами. В случае с Аннием именно так и
было, но обобщение Кано слишком категорично240. Оно было бы верно, если бы все
историки с самого начала располагали одним набором источников; Кано не принял во
внимание, что корпус доступных текстов может изменяться с течением времени.
Кано глубоко доверяет лучшим из античных историков – Цезарю, Светонию,
Плутарху, Тациту, Плинию и другим. С сожалением он отмечает, что Диоген Лаэртский в
биографиях философов продемонстрировал больше исследовательской скрупулѐзности,
чем многие христианские агиографы241. Доказательством могут служить встречающиеся у
античных классиков упоминания о пороках или предосудительных мыслях даже в целом
положительных персонажей – «философов или правителей». Христианские же авторы
часто либо впадают в излишнюю аффектацию, либо «от усердия» выдумывают столько
всякого, что образованному христианину, уважаемому богослову читать это было не
только стыдно, но и тягостно. Замечательный поворот!
Важнейшими достоинствами античных историков Кано считает искренность
(ingenuitas) и почтение к богам (verecundia). С этой точки зрения римские историки
пользуются гораздо большим уважением испанского богослова, чем греческие. На
протяжении
главы
VI
неоднократно
заявляется,
что
римляне
и
тщательнее
придерживаются исторической истины, и точнее в деталях. Кано считает, что греческие
авторы
просто
не
способны
строго
придерживаться
принципов,
считающихся
достоинствами исторического повествования (известное исключение делается для
Фукидида и Плутарха, вокруг которого вообще много оговорок). По некоторым
замечаниям теолога из Саламанки складывается впечатление, что он скрывает более
глубокий скепсис, испытываемый по отношению к греческой словесности. Говорится
даже о «хвастовстве» и «тщеславии», якобы свойственном греческим историкам при
рассуждениях об империи, о деяниях великих людей и даже о «учении истины».
Возможно, этот скепсис был связан с подспудной, никогда не допускавшейся в качестве
«официальной» ревности латинской богословской школы к греческой, неприятием
240
Это обстоятельство ускользнуло даже от Дж. Котронео. Cotroneo G. I Trattatisti dell'Ars Historica. Napoli,
1971. с. 294.
241
De locis … P. 396.
124
категорий и теорий греческих Отцов, как известно, по-другому по сравнению с
латинскими трактовавших сосуществование светской и духовной власти, авторитет
высшего духовенства и проч. Как бы то ни было, судить об этом следует в рамках
сопоставительного богословского сочинения, а не исследования по историографии.
Например, даже Плутарх, которого Кано считает в целом автором серьѐзным и
заслуживающим исключительного доверия, обвиняется в различном подходе к
изображению римской и греческой истории в «Сравнительных жизнеописаниях»242.
Итак, вопрос о доверии историческим сочинениям глубоко вплетается вобщую
гносеологию. Особенное значение приобретает 14 эпизод, касающийся истории с римским
императором Константином243. Обсуждение этого эпизода превращается для Кано в
пространное отступление, суть которого сформулирована в заголовке раздела IV: верой
одобряются все историки, которые ей не противоречат открыто. Последующие 4 эпизода и
их разъяснения касаются уже явных фальшивок, на которые был богат век Кано –
«наследия» Анния из Витербо и выдуманного им Бероза, Метасфена и т. д.
Невысокое
доверие
историческому
материалу
имеет
мировоззренческое
обоснование: люди вообще склонны ко лжи. Их мнения не могут быть основанием для
суждения – этот постулат Аристотеля244, казалось бы, навсегда изолирует друг от друга
сферы богословия и истории (если, разумеется, считать вместе с Кано, что первое
основывается строго на истине).
Кано стремится определить и основные законы написания истории. Эти законы
тщательно увязываются с критериями моральной оценки того или иного автора и
превращаются в способ вынесения суждения об историке, позволяя с лѐгкостью осудить
его произведение или одобрить. Удивление вызывает тот факт, что применение данных
критериев на практике совершенно не гарантирует превосходства христианских авторов
над языческими.
Всего Кано устанавливает три основных «правила». Первым он считает
необходимость писать только о том, что историк либо своими глазами видел, либо
опирается на заслуживающие доверия свидетельства очевидцев. Цезарь, Светоний,
242
“Latinus siquidem fulgor et gloria Graeciae claritatem obscurauit, et adeo Graecorum praestrinxit oculos, ut vel
Plutachus scriptor alioqui verax in rebus Graecorum illustrandis et caecutire et fingere interdum etiam videatur”. De
locis … P. 398. Делая это наблюдение, Кано ссылается на мнение Хуана Луиса Вивеса (1492-1540). Мы
нашли единственное место в его сочинениях – книге De corruptis artibus, опубликованной в собрании
сочинений (Io. Lodovici Vivis Valentini opera. Basileae, Episcopius Junior, 1555. T. I, p. 371), где имеется
рассуждение о неравном описании римлян и греков Плутархом, но там однозначно указывается, что это
неравенство обусловлено разным состоянием описываемого объекта, то есть фактической
нетождественностью римского и греческого наследия, а никак не свойствами греческой словесности.
243
De locis … P. 344.
244
De locis … P. 346.
125
Корнелий Тацит оказываются вне конкуренции245. «Наверное, это весьма прискорбно, но
некоторые из языческих историков более надѐжны, чем наши»246. Конечно, имеются и
приятные исключения в новейшей литературе. Так, Кано ссылается на агиографические
сочинения Алоизия Липпомана, с которыми он, по собственному свидетельству,
познакомился на Тридентинском Соборе247. Кано не мог, конечно, знать, что эти
сочинения наряду с его собственным сочинением De locis лягут в основу формирования
научной историографии нового типа. Важным атрибутом правдивого историка является
отсутствие противоречий внутри его текста – integritas.
В этой связи примечательно сопоставление, которое сделал А. Бьонди на основе
критики Кано некоторых замечаний св. Иеронима248. В частности, Кано категорически
возражает против утверждения переводчика Библии о том, что, помимо фактов, ценны
также искажѐнные временем и обросшие неправдоподобными деталями воспоминания
людей о фактах. Регистрация того, что народ помнит о том или ином событии, правдива,
даже если объективно (re ipsa) он думает неверно. По мнению Кано, Иероним ставит
перед историком задачу не устанавливать истинность факта, а приводить мнение людей о
факте. Получалось, что историку интересны не факты (res), а их интерпретации
(sententiae). Сам Кано с этим не согласен; он не желает превращения всей истории в
совокупность voces populi. Он утверждает, что при анализе «интерпретаций» историк
просто
обязан
высказываться
определѐнно,
устраняя
всяческие
поводы
для
недоразумений. Так закладывается фундамент строгих научных критериев исторического
исследования и познания. Например, популярный тогда Анний из Витербо вообще считал,
что всех авторов, писавших по официальному поручению, следует принимать без
колебаний. Если сочинение хранится в архивах и библиотеках государств, то никто не
имеет права в них сомневаться. Те же, кто описывают слухи или высказывают
собственное мнение (сюда подпадают, например, такие авторы, как Макьявелли или
Гвиччардини), достойны веры только постольку, поскольку они не противоречат
официальной истории. Таким образом, историк из исследователя превращается в
бесстрастного регистратора, государственного служащего, выполняющего заказ власть
предержащих. Принадлежность Кано к лону католической церкви только помогает ему
245
De locis … P. 396. По не вполне понятной причине среди лучших оказывается Плутарх. Его достоинства,
конечно, бесспорны даже если смотреть на него глазами профессора из Саламанки, но именно тот параметр,
о котором идѐт речь, к нему применим лишь условно. Кто может гарантировать, что Плутарх опрашивал
заслуживающих веры очевидцев?
246
Ibid. “Ut iam pudendum fortasse sit, historicos gentium quosdam veraciores fuisse quam nostros”. Под
«нашими» Кано подразумевает, конечно, многочисленных авторов массовой христианской литературы.
247
De locis … P. 398.
248
См. L'autorità … P. XXXIV.
126
без колебаний отвергнуть аргументацию Анния, разгромить его и торжествующе объявить
его исторические публикации фальшивкой.
Вторым правилом историка Кано провозгласил необходимость «сопровождать
строгость суждений осторожностью как в подборе материала, так и в вынесении
суждений»249. Имеется в виду, в частности, описание христианских «чудес», не
упоминаемых в Писании и рассчитанных на легковерных обывателей, «по-женски»
(muliercularum more) верящих всему написанному. Особенно достаѐтся популярнейшему
сборнику занимательных сказаний на христианские темы - «Золотой легенде» Иакова
Ворагинского; среди еѐ недостатков отмечен и шершавый стиль, и недостаточная
строгость к источникам, и излишняя доверчивость. Конечно, в XVI веке Legenda aurea не
могла восприниматься как историческое сочинение, но Кано использовал еѐ только в
качестве яркого примера. Читая его замечания между строк, можно понять, что он сделал
это, чтобы проиллюстрировать проблему и при этом не коснуться некоторых более
актуальных произведений, недостатки которых плохо сочетались с их высоким
официальным статусом.
Высказанная в этом правиле открытость взглядов модерируется правилом третьим,
признающим авторитет за историками, за которыми этот авторитет признан официальной
церковью, и отнимающий у тех, которым церковь в нѐм отказывает 250. Этот тезис мог бы
перечеркнуть все достижения Кано в области эмансипации исторического знания 251, но
этого не произошло. Дело в том, что это положение необходимо Кано для решения
множества частных вопросов. Например, некоторые новозаветные апокрифы были
широко известны и с исторической точки зрения другим признанным источникам
информации о прошлом не противоречили. Тем не менее, по понятным причинам
необходимо было изыскать логическое, рациональное средство для отвержения их в
качестве
исторического
источника.
Другой,
противоположный
пример:
Евсевий
Кесарийский имел неосторожность счесть подлинными некоторые из апокрифических
источников. Означает ли это, что всѐ сочинение Евсевия недостойно доверия? Ведь в
другом месте252 Кано пишет, что вся информация серьѐзных авторов может быть признана
авторитетной, но при этом не все положения из книг авторов отвергаемых также должны
быть отвергнуты. Опираясь на резкие суждения известного критика ранней церковной
249
De locis … P. 400.
De locis … P. 401.
251
А. Бьонди вообще считал, что третье правило Кано сводит на нет прогрессивность первых двух. См.
L'autorità ... P. XLV.
252
De locis … P. 399.
250
127
литературы Геласия253 (вообще часто цитируемого на страницах книги), Кано соглашается
с оценкой «Церковной истории» Евсевия как «неподлинной» (apocrypham). Та же судьба
(и по той же причине) уготована и «Хронике» Кариона – значительно менее
ортодоксальному, с точки зрения католической доктрины, сочинению. Очевидно, что
обсуждаемое нами правило – не свидетельство ограничения только что высказанных
свобод разума, а своего рода предохранительный клапан, через который можно
стравливать излишнее напряжение связей, возникшее в многомерной структуре
христианской литературы. Например, сочинения Климента Александрийского или
Оригена признаются церковью с некоторыми оговорками; страдает ли от этого авторитет
некоторых опиравшихся на них авторов, которые не могли, конечно, предвидеть этих
оговорок будущего? Так можно дойти до отрицания благонадѐжности очень многих
текстов. Чтобы избежать этой необходимости, поверх рациональной логики удобно
расположить чью-то не подлежащую сомнениям и не требующую обоснования волю. Ещѐ
один пример: некоторые тезисы Иосифа Флавия неточны. Значит ли это, что ему как
источнику вообще нельзя доверять? Относя эти неточности на счѐт незнания, а не
сознательного введения в заблуждение, Кано приходит к выводу о возможности высокой в
целом оценки того или иного историка при наличии у него неверных сведений254.
Основное внимание в изучении свидетельств исторического знания Кано уделяет
их сопоставлению с другими, стоящими на более высоких ступенях иерархии
источниками авторитета – не только Писанием, но и наследием свв. Отцов и Учителей,
апостолической традиции и т. д. Для современников это имело большое практическое
значение; для потомков, напротив, более важным стало то, что других проблем в доверии
знаниям, поступившим от историков, Кано не видел. Другими словами, из сочинения
Кано стало очевидным то, чего он, собственно, нигде не утверждал: если история не
противоречит Писанию и тому, что из него прямо или косвенно следует (включая другие
источники авторитета), то еѐ сведениям вполне можно доверять. Препятствий со стороны
Курии для развития истории в научную дисциплину не было, и об этом фактически было
заявлено во всеуслышание. Показательно, что он, будучи крупнейшим представителем
официальной римской теологии, яростно протестует против стремления искать всѐ
действительно нужное человеку знание в священных источниках и пренебрегать тем,
которое в них обнаружить не удастся255.
253
Папа Геласий I, понтификат 492-496.
De locis … P. 405.
255
De locis … P. 326.
254
128
У сочинения Кано есть и ещѐ одна важная для читателей-современников сторона.
Оно является своего рода энциклопедией нападок на католическую доктрину: по каждому
отдельному
поводу,
по
каждой
ступени
в
иерархии
авторитетов
приводится
исчерпывающий список положений, которые могут использоваться врагами католицизма
в качестве оснований для отдельных выпадов, а также платформы для опровержения
доктрины в целом. Этот список легко вычленить с помощью оглавления; по отдельным
главам приводятся также и собранные отдельно способы отражения этих нападок,
предназначенные для практического удобства борцов с лютеранством. Этим объясняется
также исключительная терминологическая ясность, отсутствие академизма, доходчивый
язык сочинения.
Ошибочно, на наш взгляд, ограничивать роль сочинения М. Кано для становления
истории как науки простым допущением ценности предоставляемой ею информации.
Теология – весьма своеобразная сфера применения научной мысли, располагающая своей
системой ценностей. Кано примиряет теологию и историю, одновременно – с позиций
бесспорного
авторитета
католического
богословия
–
освобождая
историю
от
необходимости подчиняться. После появления сочинения Кано история перестаѐт
восприниматься и как художественный жанр, состоящий на службе практической
политики: с ожесточением конфессионального спора эпоха гуманизма в становлении
истории безвозвратно уходит в прошлое.
Важно также отметить, что для сегодняшних историков наследие сочинения Кано и
Второй схоластики в более широком смысле слова не ограничивается учением об
иерархии аргументов. Больше того: именно учение о локусах в целом, а не только
посвящѐнная «истории человеков» глава XI книги Кано, оказало огромное воздействие на
формирующийся инструментарий исторической науки. Историки-гуманисты научились
ссылаться на источник, но испытывали затруднения, если один источник противоречил
другому. Теологи знали, как действовать в этом случае. Владение библейским
материалом, чрезвычайно сложным и неоднородным по структуре, достигло в
католической теологии виртуозного уровня, и, как мы видим при изучении историкобогословского диспута XVI века, противодействовать аргументу, основанному на цитате
из Писания, можно было только посредством альтернативной цитаты из Писания 256. Если
оперировать
понятиями
сочинения
Кано,
локусы
одного
уровня
должны
бы
нейтрализовать, аннигилировать друг друга, сводя тем самым полемику к логическому
нонсенсу, к короткому замыканию; однако же, этого не происходит. Почему? Дело в том,
256
К слову, именно богодухновенность Писания как единого целого представляла проблему, поскольку не
позволяла выделять отдельные его части и противопоставлять их как «более весомые» другим.
129
что именно богословы XVI века – католики, лютеране и кальвинисты – научились
«сравнивать по весу» (Argumenta ponderantur!) равноценные с формальной точки зрения
доказательства, стремясь привести в свою пользу наиболее весомое. Огромная
мыслительная энергия была израсходована для того, чтобы понять, чтό именно делает тот
или иной аргумент «тяжѐлым» (опять-таки gravis в понятиях той и последующей – вплоть
до начала XIX века – эпох было синонимом «серьѐзного»), чтό в конце концов приносит
победу над противником. Сформировавшееся в рамках западного богословия понятие об
иерархии аргументов стало важнейшим элементом повседневной жизни исторической
науки. Особенно очевидным это наследие старинной схоластики становится при
наблюдении за псевдонаучными дискуссиями, в рамках которых заметнее всего
инструментализация исторических тезисов для достижения тех или иных идеологических,
политических и прочих сиюминутных выгод – одним словом, почти на каждом шагу. На
наш взгляд, это общее воздействие концепции Кано стало даже ещѐ более важным для
судеб исторической науки, чем знаменитая XI глава, посвящѐнная собственно
исторической информации и еѐ ценности в общем процессе познания мира257.
Методология Кано сослужила службу не только католическим богословам, но и их
противникам-лютеранам. Так, авторы «Магдебургских Центурий» использовали метод
локусов самым широким образом, творчески переосмыслив содержание термина. При
всех отличиях (в «Центуриях» локусы – это не иерархия авторитетов, а элементы
содержания исторического процесса) отмечено258 фундаментальное общее свойство:
использование локального метода и Кано, и его противниками – это стремление внести
рациональное в историческое исследование и особенно в его экспозицию, сделать
критерии познания прошлого научными.
Авторы «Центурий» поддержали и даже развили идею поставить Священное
Писание во главу иерархии авторитетов. Постановка Писания на самый верх лестницы
означала, что никакой скепсис в его отношении более не уместен: положения Писания,
сколь абсурдными они с точки зрения светского ratio ни казались бы, должны быть
приняты в буквальном смысле. Так в области исторического знания утверждался
лютеровский тезис полного доверия только Писанию (“Scriptura sola”), а следовательно,
необходимости подвергать сомнению и критическому изучению все остальные источники
257
А. Бьонди отмечал, что низкое место истории в иерархии авторитетов компенсировалось
провозглашением абсолютной необходимости еѐ в качестве инструмента католической апологетики;
ограничение «поля истории» апологетикой, в свою очередь, отнюдь не означало еѐ деградации как области
светского знания. См. La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea. A cura di N. Tranfaglia e
M. Firpo. Vol. 4. T. 2. Torino, 1993. P. 316.
258
Отличия трактовки Флация от локусов Кано разбираются в небольшой работе Scheible H. Die Entstehung
der Magdeburger Zenturien. Gütersloh, 1966.
130
информации. В Книге III Кано предвосхитил и другую тенденцию нарождающейся
лютеранской концепции всемирной истории – стремление опровергнуть прямую
преемственность между «церковью Христа и апостолов» и современным католицизмом.
После выхода в свет книги Кано переход теологического диспута в область истории был
неизбежен.
131
§7. Историзм и локальный метод в трудах католической стороны
(Т. Кампеджи)
Разработанный учѐными-схоластами локальный метод представлялся, особенно на
первых порах, универсальным средством ведения научной полемики. В силу ряда
особенностей
(главным
образом,
установки
на
иерархическое
превосходство
утверждений, содержащихся в Священном Писании, над любыми другими тезисами) он
казался особенно эффективным в тех конфликтах, в которых авторитетность Писания
самого по себе не могла быть поставлена под сомнение. Особенные надежды возлагались
на него как на мощное идеологическое оружие в деятельности Тридентского Собора.
Целый ряд ведущих полемистов католической Церкви взяли его на вооружение и стали
активно применять, доказывая на практике его неуязвимость с точки зрения
господствовавшей тогда формальной логики. Продемонстрировать универсальность и
удобство этого метода в новых исторических условиях представляется возможным с
помощью анализа трудов епископа Томмазо Кампеджи.
Томмазо Кампеджи (Кампеджо, 1481-1564) был представителем известной
династии болонских правоведов. Отец его Джованни Кампеджи (1448-1511) был крупным
специалистом по каноническому праву. Томмазо, как и его старший брат Лоренцо (14741539), по получении университетского образования предпочѐл церковную стезю. Судьбы
двух братьев в их служении Святому Престолу были тесно переплетены: Лоренцо вступил
на дипломатическую стезю в 1511 году, отправившись с деликатным поручением папы
Юлия II к императору Священной Римской империи Максимилиану. За успех миссии он
был вознаграждѐн должностью епископа венецианского города Фельтре, на которой
вследствие многочисленных ответственных дипломатических поручений пребывал лишь
формально. Наконец, в 1520 году Лоренцо сумел передать кафедру своему брату Томмазо.
Тот к этому времени не только успел поучиться в университетах Падуи и Болоньи, но и
приобрѐл некоторый опыт, сопровождая старшего брата в зарубежных поездках. На время
братья как бы «поменялись» своими поприщами: в какой-то момент Лоренцо был в Риме
председателем верховного судебного присутствия (Signatura Justitiae), а Томмазо –
нунцием в Венеции. На самом деле братья занимались одним и тем же делом –
стремились не только вести борьбу с нарождающимся лютеранством, но и сплотить
новую антитурецкую коалицию. С 1540 года Томмазо занял пост регента Апостолической
канцелярии
и
теперь
покидал
Рим
только
ради
богословских
диспутов
или
общецерковных мероприятий. В частности, в 1540-41 гг. он принимал участие в
Вормсском религиозном диспуте, где его противниками были Иоганн Экк и Филипп
132
Меланхтон. Моментом наибольшего влияния Томмазо Кампеджи стал Тридентский
Собор, на котором он был одним из виднейших представителей папской делегации. В
конце своей долгой карьеры Томмазо Кампеджи выдвинулся в число «наиболее
авторитетных канонистов своего времени»259.
Три сочинения, оставленные нам Томмазо Кампеджи, являются довольно
типичными для его эпохи и ситуации, в которой они были написаны; тем не менее, они
носят отпечаток превосходно организованного специального знания, отточенного
многолетними юридическими штудиями. Все они относятся к эпохе Тридентского Собора
и являются примечательными памятниками католической системы аргументации,
максимально усовершенствованной в условиях острого политического противостояния.
Эти работы заслуживают изучения не только как яркие примеры исторической мысли
католической партии середины XVI века, но и как блестящие примеры применения
локального метода к межконфессиональной дискуссии.
Первое из них было посвящено проблеме, на определѐнный момент воплотившей в
себе самую примечательную претензию «протестующих» к практике Римской Курии –
целибату церковников260. По утверждению самого автора, сочинение уже было готово
приблизительно в 1549 году261, и его выход в свет задерживался в связи с подготовкой
следующей книги – автор планировал издать их вместе.
Локальный метод, доведѐнный теоретиками Саламанки до совершенства, сам по
себе бы неспособен обеспечить победу в споре относительно желательности или
нежелательности безбрачия духовенства. В самом деле, установленная и детально
обоснованная в трудах Мельчора Кано иерархия авторитетности отдельных аргументов не
была способна противодействовать тезису «от обратного». Если высшим авторитетом
является Священное Писание, то как исходя из этого можно обсуждать вопрос, о котором
в Писании напрямую не говорится? Сущность вопроса (по крайней мере, в изложении
самого Лютера) такова, что молчание Писания на сей счѐт очень красноречиво и может
быть рассмотрено в качестве «позитивного» аргумента – «этого нет, потому что это не
истинно». Вопрос о целибате духовенства особенный – он отличается остротой,
обсуждается повсеместно, аргументы противной стороны (то есть лютеран) понятны и
просты, а формальный метод, отшлифованный в рамках Второй Схоластики, имеющий
универсальное значение, недостаточно эффективен.
259
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Bd. 1, Hamm, 1975, Sp. 902. Dictionnaire de Théologie
Catholique. T. 2, Pt. 2, Paris, 1923. Col. 1447ss. О династии см. также Fantuzzi G. Notizie degli scrittori
Bolognesi. V. III, Bologna, 1783, p. 47ss., 77ss.
260
[Campegius T.] De coelibatu sacerdotum non abrogando. Venetiae, 1554. 102 c. (Далее – Camp 1554).
261
Camp 1554 … Epistula dedicatoria (p. n. n.).
133
По этой причине от Кампеджи требовалась особенная настойчивость и особенная
ловкость в обхождении с механизмами формальной логики. Начальные рассуждения
вполне предсказуемы: на протяжении первых 9 страниц Кампеджи доказывает, что
девственность и воздержание являются благом. Это было нетрудно, поскольку и Ветхий, и
Новый Завет предоставляли на этот счѐт множество примеров, среди которых
центральными были Иисус Христос и Дева Мария.
Сложнее было доказать, что воздержание и целибат уместны в отношении целого
сословия священнослужителей. Первым делом262 с помощью простого силлогизма
отвергается популярный тезис о том, что брак «священнее» девства, поскольку освящѐн
церковным таинством: мученичество ещѐ святее, однако никакого таинства не
предполагает. Главным оплотом логических построений является тезис о допустимости
как одной, так и другой формы сосуществования. Ведь «поскольку мы носим образ того,
кто (создан. - ИА) из глины, мы носим и образ того, кто (дан нам. - ИА) с небес. Этот
образ и носит девство, носит непорочность, носит святость, носит истина»263.
Как же быть с заветом «Плодитесь и размножайтесь», содержащимся, к примеру, в
Книге Исхода (гл. 1 и 9)? Кампеджи доказывает, в частности, что поручение, данное всем
вместе (mandatus universitati), не является заветом каждому в отдельности (mandatus
singulis de universitate). Этот аргумент сопровождается упоминаниями об известных
персонажах античной истории, либо самостоятельно придерживавшихся воздержания,
либо положительно о нѐм отзывавшихся. После ряда цитат из античных и
раннехристианских авторов, которые иллюстрируют как допустимость воздержной жизни,
так и неудобства при некоторых обстоятельствах жизни в браке, автор кратко описывает в
историческом разрезе отношение к этой проблеме в римской церкви. Кампеджи признаѐт,
что в первые четыре века христианства к служению допускались женатые священники, а
затем
в
Каноны
апостольские
было
включено
постановление
о
том,
что
священнослужители должны придерживаться безбрачия. В поисках мотивов Кампеджи не
проявляет ни особенной оригинальности мышления, ни какой-либо эрудиции. Так,
отсутствие требования к целибату священников в первые века христианства было
объяснено отсутствием достаточного количества безбрачных («равно как в войско
набирали и больных в тех случаях, когда сильных воинов было недостаточное
количество»264). Дальнейшее изложение состоит из перечисления постановлений
262
Camp 1554 ... P. 32-33.
Ibid. P. 32.
264
Ibid. P. B4.
263
134
церковных Соборов, подтверждавших безбрачие духовенства, а также норм, дозволяющих
вступление в брак «священников греческого обряда».
Аргументация Кампеджи не отличается оригинальностью, однако еѐ не следует
требовать от данного произведения. Роль, отводимая ему в межконфессиональной
полемике, подчеркнута «Посвятительным письмом». Оно было обращено знакомому
Кампеджи по первой сессии Тридентского Собора кардиналу Реджинальду Поулу и
отражало энтузиазм католических интеллектуалов по поводу новой английской королевы.
Для нас нынешних Мария «Католичка» - это популярный топос не только английской
истории, но и тех культурных сред, которые идут у английской (протестантской) на
поводу. Из «Посвятительного письма» Кампеджи следует иная картина – надежда на
скорый триумф католичества, несомненным признаком которого стало восшествие на
английский престол именно Марии Тюдор. Помимо похвал в адрес королевы, которая
«вернула британское королевство в лоно истинной Церкви, являющейся единственной для
всех христиан матерью и кормилицей»265, упоминания заслуживает и уверенность
Кампеджи в том, что приход Марии Тюдор к власти – это, помимо прочего, понятный
всей «истинной церкви» сигнал умножить усилия в борьбе с инакомыслящими. Этот
сигнал Кампеджи воспринял и на личном уровне: по его собственным словам,
актуальность исследований о необходимости целибата священнослужителей и второго –
об авторитете Римского папы – после появления в Англии новой королевы резко возросла.
Характерно, что, к примеру, хроника Тридентского Собора не играет ни символьной, ни
непосредственной роли в стимулировании творческих усилий Томмазо Кампеджи. Как
такое могло быть? Очевидно, дело не в том, что Тридентский Собор для его
непосредственных участников и активных деятелей был менее значимым событием, чем
приход к власти на окраине Европы королевы-католички. Тридентский Собор был
естественным фоном, на котором развивались события, в рамках которого писались и
публиковались церковно-юридические и церковно-исторические сочинения, и для тех
представителей римской Церкви, которые жили в условиях Собора, он был общей для
всех повседневностью. Иными словами, «изнутри» Собора события видятся несколько в
преломлѐнном изображении; под таким углом зрения приход к власти Марии Тюдор
виделся поворотным, знаковым событием.
Вторая из выпущенных Томмазо Кампеджи книг называлась «Об авторитете и
власти Римского Папы»266 и была издана в самом престижном издательстве – у Паоло
265
Ibid. P. *2 r et v
Campegius Th. De Auctoritate, et Potestate Romani Pontificis, et alia opuscula. Venetiis, 1555. 223 л. (далее –
Camp 1555). Любопытно, что создатель Вольфенбюттельской библиотеки герцог Август Младший поставил
еѐ на полку с юридическими сочинениями (HAB 159. Jur), а датированную всего шестью годами позже
266
135
Мануцио, сына знаменитого Альдо. Выпуская эту книгу, епископ Фельтре выполнял волю
папы Пия IV. Эта книга была написана быстро, в тот момент, когда дальнейшая судьба
Тридентского Собора была не вполне ясна. Проблема соотношения авторитета пап и
Вселенских Соборов, как мы знаем, была одной из важнейших как в системе критики
римской церкви со стороны лютеран, так и в историческом плане – в рамках
протестантской концепции. Тем не менее, исследование Кампеджи пропитано и
совершенно новой актуальностью. Каковы полномочия Собора не ad hoc, а в более
далѐкой перспективе? Может ли Папа произвести резкий поворот в политике Церкви,
отклоняясь от решений только что созванного Собора? Очевидно, построенное при
помощи механизмов Схоластики сочинение видного иерарха католической церкви было
направлено на то, чтобы обеспечить Курию доктринальными основаниями любого
дальнейшего маневра. Этот маневр в конце концов не был совершѐн, но возможность для
него была подготовлена на случай необходимости; отметим, с одной стороны, отсутствие
официозного позиционирования книги с помощью привычных механизмов (типа папской
«привилегии», обычно сопровождающей сочинения такого рода), а с другой – наличие
посвятительного письма папе, явно свидетельствующего о желательности такой
публикации и о поддержке еѐ из Рима. Кроме того, небольшой формат книги (in 8°)
указывает на то, что она предназначалась для ношения с собой и использования в
диспутах в качестве «шпаргалки», а не в учѐной дискуссии.
Рассуждения о могуществе Папы, как уже указывалось выше, не были целью «в
себе», а подчинялись более насущной надобности. Этим настоящая книга особенно ценна:
она тезисно представляет основные, казавшиеся католической партии бесспорными
базисные аргументы, на которых далее возводятся необходимые логические конструкции.
Начинается книга с развѐрнутой, аргументированной рядом ссылок на Евангелие от
Иоанна и его наиболее авторитетных комментаторов, констатации главенства Христа надо
всей христианской церковью. Как утверждал когда-то св. Фома Аквинский (Summa contra
gentiles 4:24), Иисус не был бы подлинным отцом христианской семьи, если бы не оставил
кого-нибудь во главе церкви на Земле, дабы справляться с насущными потребностями
этой церкви в земной жизни. Заранее решительно отводится возможная инсинуация о том,
что Христос, находясь на небесах, не способен сам управлять церковью или нуждается в
помощнике. Будучи всемогущим, он тем не менее не должен делать всѐ сам, как не
вторую книгу того же автора на близкую тему – среди книг по теологии (HAB 1151.6 Theol. 8.°). Очевидно,
учѐный герцог отталкивался не от тематики книги, а от способа аргументации. Схоластические рассуждения
с опорой на каноны Соборов, сочинения Фомы Аквинского и некоторые другие основополагающие
церковно-правовых нормы встали среди юридических сочинений в раздел Juridica, а книга, в которой,
наряду с Канонами, более заметна опора на Писание и традицию (Священное Предание), - в раздел
Theologica.
136
должен отец семейства лично обрабатывать все поля, строить все дома и сажать все
деревья267. Другим классическим примером схоластической логики является утверждение
о том, что использование будущего времени во фразе „Super hanc petram aedificabo
ecclesiam meam, et tibi dabo claves“ (Мф 16:18-19, так у Кампеджи) является фигурой речи,
в целом типичной для языка Библии. В качестве примера приводится 31 книга пророка
Иезекииля, в которой предсказание будущего сделано в грамматической форме
прошедшего времени. Подобные умозаключения были, конечно, не новы; Кампеджи
приводит в пример Августина, Илария Пиктавийского, а также Иоанна Златоуста,
Анаклета и некоторых других церковных авторов.
Как бы то ни было, ключевой формулой передачи власти над земной церковью
стали слова из Писания Pasce oves meas («Паси овец Моих», Иоанн 21:17), сказанные
лично Петру, а не всем апостолам. Эта глагольная форма оставляет гораздо меньше
возможностей для своевольной интерпретации, поэтому является весьма удобной с точки
зрения полемики. Таким образом, с помощью прикладной грамматики автору удалось
«убрать в тень» гораздо более известную и яркую фразу о Петре-камне, основанную на
запоминающейся игре слов.
Итак, постулаты о верховенстве Христа и принадлежащем ему праве назначить
наместника в Церкви были отправными точками логического рассуждения итальянского
епископа. Среди оппонентов-лютеран был популярен тезис о том, что Иисус, обращаясь к
Петру со словами о камне, имел в виду всех Апостолов и использовал Петра лишь как
эвфемизм для любого из своих учеников268. С целью отвести этот аргумент приводятся
довольно пространные рассуждения о том, что Пѐтр существенно выделялся на фоне
других учеников Иисуса: он ходил по воде, только к нему были обращены некоторые
фразы Иисуса (Лк 5:4, Лк 22:32 и другие). При перечислении Апостолов его также часто
называли первым269. Это и есть пресловутый Primatus Petri – тезис о Первенстве Петра
среди учеников Иисуса, получивший своѐ подтверждение в Канонах Анаклета,
произведениях Кирилла Александрийского, Евсевия, Иеронима, Августина, Иоанна
Златоуста и других авторов. Довольно пространно пришлось формулировать выгодную
интерпретацию известных пассажей Св. Писания, в которых Иисус обращался
267
Camp 1555... cit., f. 2r-3r
В «Магдебургских Центуриях» это положение будет упомянуто неоднократно. См., например, EH I, c.
175: «Христос не пожелал ставить Петра во главу или в основу Церкви. Ибо говоря «Ты есть Петр, и на этом
камне я построю мою церковь» (Мф 16), он превознѐс не человека, а вероисповедание, которое высказал
Петр не только от своего имени, но и от имени остальных учеников, и именно это вероисповедание он
утвердил в качестве будущего вечного фундамента Церкви».
269
Camp 1555 ... P. 5v-7r. Формула-вывод о том, что, обращаясь к Петру, Иисус имел в виду только Петра,
разъясняется Ibid. P. 11r et v.
268
137
подчѐркнуто ко всем апостолам (Ин 20:22, Мф 19:27, 23:8). Они, как заключает Кампеджи,
никак не ставят под сомнение исключительный авторитет Петра среди Апостолов.
Ещѐ до начала обсуждения проблемы преемственности между Петром и его
наследниками Кампеджи поднимает самый насущный, по его мнению, вопрос – вопрос о
«праве ключей». Если протестанты воспринимали «ключи Церкви» как имеющееся у
иерархов церкви право допускать верующих до церковных собраний или отказывать им в
этом (посредством отлучения), то у Кампеджи мы встречаем гораздо менее конкретную
трактовку. Она основывается на двух цитатах – из Евангелия от Луки (11:52 Vae vobis
legis peritis, qui tulistis clavem scientiae…) и из комментариев Иеронима на 16 главу
Евангелия от Матфея. В Евангелии от Луки слово clavis употреблено в единственном
числе. Кампеджи, как и все современные ему богословы, употребляет его во
множественном. В названии этих ключей (а св. Петр часто канонически изображается
именно с двумя ключами) противопоставляются понятия «порядка» (ordinis) и
«юрисдикции» (iurisdictionis), или же пара «знание» - «власть»270. Кампеджи всячески
стремится доказать, что Петр получил ключи для Церкви и что теперь они принадлежат ей
и материализуются в лице Папы. Важной является также глава XI книги (26v-28v), в
которой доказывается, что Пѐтр получил свою власть непосредственно от Христа и что
другие Апостолы это признали. Кампеджи обращается к авторитету Канона Анаклета,
который, как мы знаем, не имел для лютеран никакой доказательной силы. Далее
следовало доказать преемственность относительно «права ключей» между Петром и
наследниками римского епископского престола. Основанием для доказательств этих
суждений являются как мнения некоторых Отцов, так и якобы существующие документы,
в которых римские императоры это признавали (39r-46v). В частности, цитируется письмо
«Императора Константина VI» папе Агафону; как мы знаем, между понтификатом
Агафона и правлением византийского императора Константина VI пришло примерно
столетие271.
270
Понятия «ключи порядка» и «ключи юрисдикции» широко употреблялись в католической догматике, в то
время как «ключи знания» упоминаются в Евангелии (Лк 11:52). Кампеджи опирался на труды Франсиско
де Витория (ок. 1486-1546; труды конца 20 – начала 1530-х гг.), опубл. в Chaves Th. Summa Sacramentorum
Ecclesiae cum tractatu de Excommunione. Venetiis, 1569. P. 177v. (Idem) Summa sacramentorum ecclesiae ex
doctrina fratris Francisci a Victoria, Ordinis Praedicatorum apud Salmanticam olim primarii Cathedratici, per
reverendum patrem Praesentatum Fratrem Thomam à Chaves illius discipulum. S. l., 1589. В свою очередь, де
Витория опирался на традицию, укоренившуюся в трудах Торквемады и кардинала Каэтана. См. подробно
об этом Radrizzani Goñi J. F. Papa y obispos en la potestad de jurisdiccion segun el pensamento de Francisco de
Vitoria O. P. Roma, 1967. P. 39-47.
271
Кстати, довольно характерно обращение именно к императору Константину VI («Слепому»). Это был
последний византийский император, признаваемый со стороны лютеран в качестве законного наследника
римского престола. Далее коронация Карла Великого папой Львом обеспечила Translatio Imperii. Таким
образом, выбор Константина должен был предупредить предсказуемые возражения оппонентов-лютеран.
138
В дальнейших довольно пространных рассуждениях о главенстве римской церкви
над константинопольской, пап над императорами и прочее можно выделить только один
любопытный момент, а именно появление в полемике старого тезиса об «обоюдоостром
мече», который некоторое время не был в ходу; протестанты тоже будут редко
пользоваться
этой
интересной
категорией,
унаследованной
из
схоластической
юриспруденции, и лишь во второй половине XVII века она снова станет исключительно
популярной даже среди светских историков. Наконец, она сыграет важнейшую роль в
критике католической церкви со стороны неаполитанского юриста и политического
мыслителя Пьетро Джанноне (1676-1748). Речь идѐт о концепции, согласно которой
власть (gladius, «меч») имеет двоякую природу – светскую (temporale, что имеет также
оттенок «временности») и духовную (spirituale), что соответствует двум режущим граням
этого меча. Только в распоряжении Папы имеется «оба меча» (uterque gladius – и
духовная, и светская власть), что, в свою очередь, ставит его и над прочими епископами
(имеющими в своѐм распоряжении лишь духовную), и над светскими государями. Это
доказывается разнообразными эпизодами из истории, комментируемыми в выгодном для
католической стороны ключе. Так, вспоминается, что до того, как «германцам было
даровано право избирать императора», каждый император приносил клятву верности
римскому первосвященнику (56v). При этом, к слову, даже не делается попытки придать
этому явлению обязательный и всеобщий характер: приводятся лишь отдельные
«примеры» (Генрих IV, Оттон IV, Фридрих II, Генрих VII, Людовик Баварский), которые,
конечно, могут произвести впечатление на несведущего читателя или слушателя,
особенно если он не знает, сколько этих императоров было и является ли приводимая
информация полностью истинной. То же происходило «с французскими королями», а
после смерти Фридриха II даже византийский император обратился к папе – как к
равному! – для воссоздания единой империи, но получил отказ.
Учение о соединении верховной духовной и светской власти в руках папы, которое
аллегорически представляется образом «обоюдоострого меча», опирается на отсутствие
(!) указания в Евангелии на то, что это не так272. Кампеджи отклоняет толкование,
предложенное Иоанном Златоустом и Феофилактом, согласно которой эти «мечи»
интерпретируются иносказательно, как символ крепости духа. Ему ближе более
буквальная трактовка Амвросия (также довольно иносказательная), согласно которой
один меч служил для защиты в доевангельские времена, а другой – духовный – в
272
Camp 1555 ... P. 46r. «Так можно заключить из слов Христа. Сказав Петру «Петр, любишь ли ты меня?
Паси овец моих», он не исключил из них царей и земных властителей. Значит, цари находятся под (властью)
наследников Петра, подобно овцам под (властью) пастыря».
139
послеевангельские; uterque gladius находит своѐ воплощение непосредственно в
Евангелии. Кампеджи приводит и другие интересные толкования этого понятия –
телесное и бестелесное, Ветхий и Новый Заветы 273. Отзвуком острых диспутов звучат
слова Кампеджи о том, что ему смешна и жалка ирония тех, кто в своих речах
сомневается, что двумя мечами можно устрашить вооружѐнное до зубов воинство Сатаны.
Несколько глав сочинения Кампеджи274 направлены против популярных тезисов о
превосходстве авторитета церковных Соборов над авторитетом папы. В качестве объекта
для полемики было использовано сравнительно малоизвестное сочинение аббата Николо
Тедески (Тудески) «О власти Собора и Папы»275. Кампеджи упрекает его и некоторых его
единомышленников в излишне буквальном следовании нормам, хотя при этом сам
ссылается на десятки Канонов. Отдельно критикуется и опровергается практика
Констанцского собора, который избрал папой Мартина V. Дело в том, что этот собор как
до, так и после избрания папы поднимал вопрос об «исправлении решений» папы и
возможности его низложения. Конечно, признавать серьѐзность таких претензий было
нельзя по политическим причинам, ибо это могло бы самым губительным образом
сказаться на практике текущего Тридентского Собора. По этой причине, во-первых,
напоминается, что Мартин не согласился с этим решением, а во-вторых, для
убедительности в полемику вплетается самое страшное для католической церкви былых
веков воспоминание – Ян Гус и его проповеди. Когда-то на Соборах в Констанце и Базеле
иерархи позволили себе в борьбе с Гусом некоторые неаккуратные высказывания,
которые спустя почти полтора столетия могли быть привлечены для попытки низвергнуть
тезис о вселенском могуществе папства. Как мы знаем, в Констанце и Базеле, помимо
гуситской ереси, обсуждался вопрос о главенстве решений Соборов над мнением папы.
Теперь необходимо было провести чѐткие границы применяемости этих тезисов, в полном
соответствии с локальным методом. С помощью аналогий и подмены понятий Кампеджи
защищает высказанную ранее точку зрения, причѐм имя Гуса, ещѐ носившее
определѐнный полемический смысл и бывшее одним из ориентиров для оппонентовлютеран, здесь используется очень осторожно. В конце концов автор книги приходит к
утверждениям о том, что именно папа утверждает или отклоняет решения Соборов (113r и
далее), имеет право вообще аннулировать (damnare, букв. «проклясть») тот или иной
Собор, «созванный без необходимости» (110v и далее) и никоим образом не должен
273
Ibid. P. 51 r et v.
Camp 1555 ... P. 63-90.
275
(Tudeschis N. de). Consilia, Quaestiones et Tractatus Panormitani. S. l., 1539. 160 f. Нормативными для
римской церкви по данному вопросу были труды Хуана Торквемады. (Turrecremata Johannes de). Tractatus
notabilis de potestate Papae et concilij generalis. Coloniae, 1480. 46л.
274
140
чувствовать себя связанным решениями любого, даже самого благочестивого и
праведного, Собора (104v и далее).
К сочинению Кампеджи прилагались несколько дополнительных рассуждений о
различных частных вопросах папской юрисдикции.
Так, рассматриваются вопросы о
возможности для церковников обладать светским имуществом (147 и далее), светской
властью (157 и далее), о праве решать различные вопросы светской жизни (последним
провозглашается право папы отменить брак, если он заключѐн еретиком, 213 и далее).
Так, Кампеджи задаѐтся вопросом: Может ли папа впасть в грех симонии? 276. Конечно, не
может!
Приведѐм
пример
ловкой
аргументации
Кампеджи.
Среди
возражений
оппонентов-протестантов приводится тезис о том, что коль скоро Иисус изгнал торговцев
из Храма (Мф 21, Ио 2), он тем самым наложил божественный запрет на любую продажу
или покупку бенефициев (162v). Опровержение (165 r et v) основывается на том, что при
совершении сделки купли-продажи от продавца к покупателю переходит не только
собственно имущество, но и право обладания им, которое является субстанцией духовной.
Второе «сопровождает» первое и без него, строго говоря, не существует. Духовная
субстанция вообще, как следует из сочинений св. Фомы, подлежит обладанию лицами
духовного звания. Если же имущество само по себе должно быть использовано в
церковных целях (он призывает в качестве примера «священные сосуды»), то происходит
переподчинение мирской ценности ценности духовной, а значит, что никакого конфликта
не возникает, и проблема исчерпана. Аргументация носит сугубо юридический характер:
поскольку речь идѐт о продаже того, чего в апостольские времена просто не
существовало, то оно просто находится в руках правообладателя и, следовательно, может
быть им продано (164v). Духовное не может быть продано само по себе, а если оно
отождествлено с материальным, то продаѐтся только материальное. Подобных тезисов и
их опровержений всего десять штук, и все они примерно одного качества.
Третье сочинение епископа-юриста называлось «Об авторитете св. Соборов»277;
оно было напечатано в гораздо менее фешенебельном издательстве – у Микеле
Трамедзино. И эта книга, как и обе предыдущие, выходит в Венеции. Знаменитые
венецианские типографии находились недалеко от Тренто, и оттуда было легче
организовать печать и распространение текста среди участников Собора. Трамедзино не
замедлил воспользоваться ситуацией на свой лад и обеспечил себе (при гарантированном
рынке сбыта!) монополию на этот текст278. Монополия была зафиксирована городским
276
Camp 1555 ... P. 162r-169.
Campegius Th. De auctoritate sacrorum Conciliorum. Venetiae, 1561 (далее – Camp 1561). 79 л.
278
Ни с первой, ни со второй книгами Кампеджи ничего подобного не делалось.
277
141
нотариусом Алоизио Гарцонио 29 июля 1561 года; она распространялась как на печатание
или заказ печати, так и на торговлю контрафактной книгой на территории Венецианской
республики. Страшное наказание в 100 дукатов должно было, очевидно, поднять престиж
небольшой книги, изданной, как и первая, небольшим карманным форматом и служившей
для информации участников Собора.
Главная идея книги такова: Собор, все прерогативы которого, казалось бы,
возвеличиваются и выставляются на всеобщее обозрение читателей, на самом деле
находится в полной зависимости от папской воли. По каким причинам может быть созван
Собор? Многие из них прямо или косвенно связаны с авторитетом или властью папы.
Например, разногласия между христианскими государями (в этом случае папа может не
просто ввязаться в конфликт, но и созвать Собор), впадение императора в ересь,
необходимость реформирования церкви, для проведения мирных переговоров между
христианскими государями и так далее. В каждой отдельной ситуации говорится, что
именно Папа может выступать инициатором созыва Собора. В то же время автор
сомневается (2v-3r), что папа должен созывать Собор для разрешения своих сомнений в
вопросах веры или что Собор должен созываться в случае, если Папа, к примеру, захвачен
врагами или сошѐл с ума. Основным источником для этой книги Кампеджо является
история церковных Соборов, основанная в первую очередь на постановлениях этих самых
Соборов или другой их документации. Во многих случаях (например, в рассуждениях о
том, в каком месте следует созывать Собор) автор опирается на собственные рассуждения,
но никогда не забывает напомнить, что решения принимает только Папа. Кто
председательствует на Соборе? Кто определяет круг участников? Кто определяет кары
неявившимся? Кто определяет причины, по которым приглашѐнному (или вызванному) на
Собор можно не явиться? Каждый раз за более или менее аргументированными тезисами
просматривается фигура римского понтифика. В каком порядке следует рассаживаться на
заседаниях Собора? На листах 40v-44v подробно рассматривается иерархия авторитетов, и
только первое лицо, которого сажают на самое почѐтное место, не подлежит никакому
обсуждению. Следует ли сажать французского короля на более почѐтное место, чем
Императора?279 Тонкий вопрос. С одной стороны, translatio Imperii, казалось бы, указывает
однозначно на превосходство данного светского государя над остальными; с другой,
французский король обладает особым титулом «христианнейшего», что также ставит его в
привилегированное положение. По большому счѐту, вопрос остаѐтся открытым: хотя
история и знает примеры совместного присутствия двух и даже четырѐх императоров,
Империя всѐ равно была одна, и императоры-соправители (разумеется, античной эпохи)
279
Camp 1561… F. 45r и далее.
142
представляли один политический субъект. Вывод в общих чертах такой: если иное не
подразумевается возможной ситуацией с наследованием короны, то «христианнейший
государь» должен сидеть на следующем после императора месте, первым среди королей
христианского мира.
Из остальных поднятых в книге проблем выделим две. Одна из них (глава 22, 57r59v) касается того, каким образом Собор получает свою potestas (прерогативы власти,
право на власть) от Иисуса Христа. Целый ряд соборных документов (в том числе –
Констанцского собора) констатировал получение власти принимать решения от Иисуса
Христа; однако, поскольку мы знаем, что право на власть Иисус передал только Петру и
никому другому, декрет Констанцского собора не может отменять данное в Писании.
Может ли вообще ошибаться римский Папа или Собор280? С помощью
многочисленных цитат из свв. Отцов (главную роль играют Кирилл и Ориген) Кампеджи
подтверждает, что библейская цитата «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют еѐ»
может относиться и к данному случаю. Данная фраза (которая здесь, как и всегда в
ктаолических сочинениях, интерпретируется буквально как assistentia Spiritus Sancti
promissa a Domino Iesu Christo) относится не к личности Папы, а к его должности;
рассуждать неверно Папа может, поскольку он рассуждает как личность. Выносит
решение, напротив, он «по должности», поэтому готовое решение сомнению и
обсуждению не подлежит. Он может ошибаться по отдельным частным вопросам, однако
до вынесения окончательного решения, в котором его ведѐт святой дух.
Что же касается Собора, то, если он созван должным образом и в соответствии с
принятыми процедурами, то отдельные его члены ошибаться в вопросах веры могут, а все
– нет. Сила Собора заключается именно в коллегиальности. Ведь даже св. Бернард писал:
«Какая гордыня может сравниться с тем, когда один человек ставит своѐ суждение
превыше всего Собрания, будто бы он один обладает Духом Божьим?»281 Однако для того,
чтобы это было так, Собор должен протекать законным образом, то есть в обстановке
консенсуса с понтификом или даже прямого его одобрения. В истории имеется несколько
примеров того, как Соборы, разойдясь во мнениях с Папой, принимали решения, которые
впоследствии не выдержали испытания временем. Разумеется, примеры (из практики
Халкедонского, Риминского и Аквилейского Соборов) подобраны очень тщательно.
Целый ряд свидетельств из свв. Отцов указывает на нежелательность постановки всей
Церкви в зависимость от мнения одного человека. Однако, если тот или иной случай
сомнения не вызывает, разве будет Папа созывать для принятия решения целый Собор?
280
281
Camp 1561 … F. 69r-73r.
Цит. по: Camp 1561 … F. 73v.
143
Если Папа вдруг замыслит нечто против Божественного или естественного права и
встретит в этом сопротивление Собора, то, считает Кампеджи, следует выполнять
решения Собора, а не Папы. В том же, что касается внешнего устройства церкви, то если
члены Собора вознамерятся изменить уже существующее постановление и встретят в этом
сопротивление Папы, то следует считать правым последнего282. Подробно перечисляются
принятые ранее (в том числе и на Соборах) критерии, по которым разработка того или
иного нового закона признаѐтся уместной. Их довольно много, и они, по идее, должны
служить гарантией того, что новая норма действительно необходима и уместна.
Вообще, эта небольшая книга производит яркое впечатление. По форме она
провозглашает разнообразные прерогативы Соборов, по содержанию – верховную власть
Папы. Так получается, что практически каждая прерогатива Собора (за исключением,
пожалуй,
только
сделанной
выше
оговорки
относительно
божественного
или
естественного права) оказывается очень обширной, но в конце концов упирается в
необходимость подчиниться верховной воле Папы. О ней напоминается только один раз
по каждой прерогативе, как правило, к концу еѐ рассмотрения, и общая картина – в
соответствии с эстетическими воззрениями той эпохи – получается всеобъемлющей и
позитивной. Очевидно, на Тридентском Соборе были люди, которых эта картина полной
покорности Папе устроить не могла, но для этого они, следуя нормам царившей тогда
формальной логики, должны были отказаться и от исходных положений. Иными словами,
они либо признавали всемогущество Собора в пределах, аккуратно указанных епископом
Фельтре, либо вообще отказывались от него как от логической категории, на которой
можно было бы устно или письменно, сейчас или потом обосновывать собственные
тезисы.
Издание последней книги заметно ниже качеством, чем первых двух. Бумага ниже
качеством (темнее и грубее), чаще встречаются опечатки и некоторый типографский брак
(например, неверная нумерация страниц в оглавлении). Книга напечатана очень мелким
шрифтом, что, помимо прочего, позволило сделать еѐ компактной и издать «в карманном
виде». Это, вкупе с заявленной (по-итальянски, чтобы никто не ссылался потом на
незнание латыни!) монополией издателя на изданный текст, указывает на спешку и
стремление сэкономить на накладных расходах. Книга была написана исходя из крайне
срочной надобности и должна была выйти очень быстро. До нас она дошла не только как
памятник логики и богословия римской Курии, но и как свидетельство жарких дебатов на
282
Camp 1561 … F. 74r: «В том же, что касается политики, если Отцы пожелают при противодействии
Римского понтифика отменить старинное постановление, то следует следовать мнению Римского
понтифика, ибо что однажды было принято, не может быть отменено, если Папа не согласен».
144
Тридентском Соборе, основанных на сложных ментальных построениях, глубоком
религиозном чувстве и убеждѐнности обеих сторон в своей конечной правоте.
Сочинения Томмазо Кампеджи не являются, конечно, никаким откровением в
католическом богословии; их роль в полемике заключалась, главным образом, в
демонстрации недостаточности старых, сугубо богословско-юридических аргументов для
межконфессиональной полемики. Для нас они представляют интерес как образец
типичных рассуждений католической партии на определѐнном этапе, а также как
литература ad hoc, составленная на случай отклонения Собора от «генеральной линии». В
то напряжѐнное время книги играли роль не только места или формы хранения
информации, но и средства общения, управления и борьбы. В данной ситуации книги
Кампеджи – это памятка для своих и суровое предупреждение для возможных
диссидентов, для тех, кто в решающий момент способен проявить колебания. Кроме того,
эти сочинения, как и многие другие, рассматривались Флацием и его товарищами в
процессе подготовки «Магдебургских Центурий», и предложенная в них система
аргументации ими также рассматривалась как типичная, а следовательно, в первую
очередь заслуживающая опровержения. Некоторые вопросы, и в особенности вопрос о
первенстве Петра, станет краеугольным во всей межконфессиональной полемике; мы
увидели, какова была исходная точка для католической стороны и как всѐ начиналось.
Сочинения Кампеджи ни в коей мере не были историческими сочинениями и не
опирались развѐрнуто на исторический материал даже для аргументации. Тем не менее,
присутствие исторического материала подспудно прочитывается на каждой странице.
Дело здесь не только в том, что критика со стороны как непосредственно Лютера, так и
ряда поколений его последователей была par excellence исторической, и взятая
противоположной стороной установка на аргументацию из истории предполагала, что в
ответных сочинениях других жанров опровержения будут так или иначе рассчитаны на
возможность применения к этому самому историческому материалу. Дело ещѐ и в том,
что ответом на исторически фундированную критику могло быть либо последовательное
опровержение каждого отдельного исторического доказательства одного за другим, либо
демонстрация того, что объявляемое греховным положение при определѐнных условиях
вполне допустимо (как, например, в случае с целибатом священников), а значит, не может
быть инкриминировано Церкви как институции. Первое в силу своей трудоѐмкости было
крайне затруднительно, тем более что для опровержения такого рода требовалась прямотаки колоссальная фактологическая база. Томмазо Кампеджи стремился решить проблему
наиболее простым и рациональным способом, не только приготовляя аргументы для
дебатов
в
Тренто,
но
и
предупреждая
построение
масштабных
исторически
145
фундированных концепций, подобно той, что материализовалась в «Магдебурсгких
Центуриях». Таким образом, работы Кампеджи были контрударом, призванным
предупредить разрушительные идеологические последствия появления масштабного
сочинения, основанного на систематическом обращении к достоверному, наиболее
добротному с точки зрения уровня тогдашнего источниковедения историческому
материалу. Нет никакого сомнения, что сочинения Кампеджи появились не сами по себе и
не как результат замысла одного отдельного церковного функционера, а были поручены
ему самыми влиятельными силами католической церкви. Реализация умышленно избегала
систематического обращения к церковному материалу. Это и стало главной причиной
поражения этого жанра, его ухода со сцены и триумфа исторических сочинений в
межконфессиональной полемике второй половины XVI века.
Таким образом, можно сделать вывод, что творчество Томмазо Кампеджи – это
последняя крупная попытка католической стороны удержать межконфессиональный
диспут вне рамок церковной истории, сугубо на догматике. Избегая аргументации из
«истории человеков», Курия попыталась сохранить богословский характер диспута.
Анализируя произведения Кампеджи, мы видим попытки ограничиться обычными
аргументами из Писания и авторитетных церковных писателей, использование всех
достижений – экзегетики, логики, церковного права – лишь бы не прибегать к
исторической аргументации.
Почему мы считаем необходимым рассмотреть эти сочинения Кампеджи в рамках
исследования историографии? Прежде всего, несмотря на свой юридический облик, они
опираются на данные прошлого. Факты из Писания являются незыблемыми для всех
христиан; если противники-лютеране провозглашают Библию единственным источником
Истины, то для полемики против них показалось особенно уместным обосновать свои
аргументы на цитатах из неѐ. Как бы то ни было, для деятеля Курии Библия являлась
также источником данных из истории, и Кампеджи подходил к трактовке этих данных как
историк. В самом деле, принятая католиками на раннем этапе полемики концепция
опиралась на представление о незыблемости реального статуса римской церкви в мире, об
отсутствии новшеств и фактическом соответствии изначальному положению дел,
установленных в евангельскую эпоху. По этой причине исследование перипетий истории
Церкви
теряло
свою
актуальность,
а
максимальное
значение
придавалось
непосредственной связи современности с эпохой Иисуса; Священное Писание как
источник вполне удовлетворяло потребности Курии в ведении полемики. Вторая причина,
по которой мы выносим работы Кампеджи в исследование по историографии церкви,
касается способа применения локального метода. Цель трудов Кампеджи, по его
146
представлению, далеко превосходила по важности любую историю человеческого
общества.
Доказательство
незыблемости
римской
церкви
как
руководящей
и
направляющей силы требовало мобилизации всех ресурсов логики и методологии, однако
Кампеджи отошѐл от преимущественно богословской аргументации, традиционной для
католической литературы предшествующего периода, и отдал предпочтение историкоцерковной. Иными словами, он перестал делать упор на незыблемость церкви с
моральных или религиозных позиций, а попытался придать этой незыблемости
историческую достоверность. Это важный шаг вперѐд по пути создания новой
исторической концепции католической церкви – концепции, которая восторжествует в
«Церковных анналах» Чезаре Баронио.
147
Глава 2. «Магдебургские центурии» - крупнейшее произведение
протестантской церковной историографии XVI века
§1. Рождение замысла. Матиас Флаций – организатор и первый руководитель
проекта «Магдебургских центурий»
Различные обстоятельства появления на свет первой масштабной церковной
истории
–
«Магдебургских
Центурий»
-
неоднократно
привлекали
внимание
исследователей. Историки довольно подробно реконструировали историю формирования
авторского замысла, принципы работы авторского коллектива. Тем не менее, «белые
пятна» в этой картине ещѐ остались. Как авторы «Центурий» оценивали своѐ
произведение ещѐ в процессе его создания? Как они представляли свой труд с точки
зрения развития исторического знания и как их деятельность выглядела со стороны? По
сути дела, эта проблема проливает свет на формирование новых отношений между
людьми Раннего Нового времени: внутри авторского коллектива, между авторами,
спонсорами, читателями, союзниками и противниками в идеологической борьбе. Эти
отношения существенно отличались от тех, что были характерны для эпохи Возрождения,
и их глубокое качественное изменение – ещѐ один признак зари новой интеллектуальной
эпохи. В начале работы над «Магдебургскими Центуриями» их авторы представляли себе
многие вещи так же, как многие их предшественники-гуманисты; в конце многолетней
эпопеи отношения, о которых мы говорим, выглядят уже качественно по-иному, хотя
прошло – с точки зрения историка – совсем немного времени. В частности, в эти годы (и в
первую очередь благодаря книгоиздательскому проекту «Магдебургских Центурий»)
книжная элита приобретает первый опыт поиска частных спонсоров своего проекта, не
получившего достаточной поддержки со стороны государственной власти. В более
широком смысле перечисленные выше аспекты помогут понять, в какой мере полученный
– как с идеологической, так и с чисто рыночной точки зрения – результат соответствовал
изначальному авторскому замыслу. Ведь результат находился не только во власти
авторов; чем масштабнее книжный проект, тем разительнее могут быть расхождения
между изначальным замыслом и полученным результатом.
Замысел книги был весьма амбициозным. Во-первых, он должен был выдвинуть
новую историко-церковную концепцию, в корне противоречащую папской. К началу 50годов XVI века богословская полемика постепенно выродилась в обсуждение ряда
проблем второго порядка; богословы, как и простые верующие, ожидали перемен от
Тридентского Собора. В этой ситуации именно историческая перспектива позволяла
конституировать «новую церковь» и подчѐркивала коренное отличие еѐ от обычной ереси.
148
Иными словами, представить себя как самостоятельное явление в церкви протестанты
могли только в том случае, если возможно было исторически обосновать свою
аутентичность (в отличие от римской Курии). Во-вторых, последователи Лютера остро
нуждались в обновлении идеологического фундамента своего движения, отличного от
богословских материй stricto sensu. Представления об идеологическом фундаменте
характерны для более поздней эпохи; интересно узнать, как авторы «Центурий»
подходили к еѐ пониманию этой идеи, в какие слова еѐ облекали.
«Магдебургские центурии» - первый в мировой историографии проект с
коллективным авторством. В 1553 г. поставленная Меланхтоном задача создания
исторического произведения, охватывающего все столетия христианской истории и
служащего опорой для лютеранской критики римской Церкви, стала предметом
обсуждения в переписке двух гуманистов – Каспара фон Нидбрука (1525-1557) и Матиаса
Флация (1520-1575). Оба они были личностями весьма примечательными.
Каспар фон Нидбрук родился в Лотарингии и получил обширное гуманистическое
образование: в 1539 г. он учился в Страсбурге, затем посещал лекции в Орлеане, Эрфурте
и Виттенберге (именно там в 1546 г. он познакомился с Флацием). Завершил образование
Нидбрук в Падуе и Болонье, приобретя, помимо многих других «обязательных» для
гуманиста XVI в. знаний, также блестящее владение основными европейскими языками.
Вскоре после завершения образования Нидбрук начал дипломатическую карьеру. В 1550
г. протестант поступил на службу к императору-католику Карлу V и получил доступ к
самым потайным механизмам европейской политики. Нидбрук много путешествовал, и
это лишь способствовало расширению его гуманитарного кругозора. Известно, например,
что при подготовке посольской миссии 1554 г. он планировал посещение в различных
германских государствах свыше 30 библиотек, а спустя месяц его список включал более
сотни частных собраний283. Нидбрук скупал также
рукописи и редкие издания,
значительно обогатив императорскую библиотеку в Вене. Он всячески поддерживал идею
создания протестантской версии церковной истории и снабдил еѐ авторов ценнейшей
информацией об источниках. С помощью этой информации, а также множества книг из
личного собрания Нидбрука, авторский коллектив «Центурий» значительно расширил
круг своих источников, и благодаря этому их труд вышел на уровень, недоступный
прежним историкам.
Виттенбергский профессор был всего на пять лет старше своего студента.
Личность его представляет в контексте изучения церковной историографии XVI века
особенный интерес. Матиас Флаций (1520-1575; в русской литературе встречается также
283
Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 52, Leipzig, 1906, S. 625.
149
Матфей Фляций284, Флак или Влачич285, Матиас Флаций Иллирийский286) сыграл в
становлении и написании «Магдебургских Центурий», в целом в протестантской
историографии XVI века настолько важную роль, что его личность вполне заслуживает
подробного исследования и описания.
Большую часть своей жизни Флаций провѐл в Германии. На немецком языке была
опубликована значительная часть его работ; он имел широчайший круг знакомств среди
германских учѐных, аристократов, представителей администрации и чиновничества. Его
переписка с власть предержащими, многочисленные посвятительные обращения
показывают его принадлежность, прежде всего, к германской общественной и
интеллектуальной жизни. Тем не менее, на бытовом уровне он постоянно воспринимался
как чуждый германской жизни элемент. Так, Оливер Олсон отмечал, что Флаций имел
обыкновение вести себя в быту на итальянский манер, а его иностранный акцент был
частым поводом для насмешек, наряду с другими проявлениями его не-немецкости.
Неоднократно отмечалась его роль в истории лютеранства, связанная с частичной
чуждостью немецкому миру. Как писал Оливер Олсон, «он стал признанным
представителем тех из нас, уроженцев других частей света, кто почитает Лютера как Отца
Церкви, но остаѐтся безразличным к глубоким этническим чертам, делающим его столь
дорогим для немцев»287.
В хорватской (югославской) литературе утвердилась концепция Мийо Мирковича,
согласно которой Флаций является par excellence великим хорватским гуманистом и
лидером хорватского протестантизма288. Разумеется, эта концепция была необходима
хорватской культуре в эпоху глубокой эмансипации сначала от влияния католической
церкви, а затем от унифицирующих факторов пребывания в составе социалистического
лагеря и СФРЮ. Несмотря на то, что эти факторы канули в прошлое, в сегодняшней
практике хорватские учѐные продолжают тяготеть к подчѐркиванию роли Флация в
284
Лебедев А. П. Цит. соч. С. 207 и далее.
Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 1, М., 2007. С.863.
286
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 36. СПб, 1902. C. 116.
285
287
Olson O. K. Mattias Flacius and the Survival of Luther’s Reform. Wiesbaden, 2002. P. 18.
Mirković M. Flacius. Zagreb, 1938. 160 c.; Mirković M. Matija Vlačić. Beograd, 1957. 238 c.; Mirković M.
Matija Vlačić-Ilirik. Zagreb, 1960. 562 c. Последняя книга была переиздана с расширенной библиографией
(Pula, Rijeka, 1980). Высказывалась также совершенно неожиданная версия о принадлежности Флация к
румынской нации, точнее – к «полуцыганскому роду» Власиев. Nacinovich E. Flacio: studio biografico storico.
Fiume, 1886. P 3. Основанием для такого смелого заключения стал корень фамилии Флация на родном языке
(«Влах») и предположительная распространѐнность поселений этого рода в регионе. См. Olson O. K.. Op.
cit., p. 26. Крупнейший биограф Флация Вильгельм Прегер предположил (также безосновательно), что по
национальной принадлежности Флаций мог быть албанцем (возможно, от латинского названия Лабина,
Альбона – более основательного повода не видно). См. Preger W. Mattias Flacuis Illyricus und seine Zeit. Bd. 1.
Erlangen, 1859. S. 14. Эта гипотеза была подхвачена в H. J. Hillerbrand (ed.). The Oxford Encyclopedia of the
Reformation. New York, Oxford, 1996. V.1, p. 110.
288
150
становлении
южнославянской
книжной
культуры,
а
также
многолетнего
позиционирования его в протестантском мире как идейного наследника Лютера,
конкурента Меланхтона и ряда деятелей меньшего масштаба. Мы не будем пытаться
оспорить важность трудов Флация для формирования хорватского национального
сознания и роль его деятельности в политической и доктринальной практике лютеранства
в 1560-70-е годы. Однако, если исследовать деятельность Флация под углом зрения его
роли в развитии историографии, проблема его культурной принадлежности обретает
новые оттенки. Прежде всего, труды Флация в историографии – написание «Каталога
свидетелей истины», замысел, организация проекта и руководство авторским коллективом
«Магдебургских Центурий» и некоторые другие работы – приходятся на 1550-е и начало
1560-х годов, время совершенно иной политико-конфессиональной ситуации в Европе.
Эти годы пришлись на Тридентский Собор, резко стимулировавший контакты между
интеллектуалами
различных
европейских
культур.
Исторические
труды
Флация
опираются на концепцию единого христианского протеста, не выделяют строгих
последователей Лютера среди представителей союзников в борьбе со злоупотреблениями
Римской церкви. Далее, работа по написанию «Магдебургских Центурий», главного
исторического
произведения
протестантского
лагеря
в
XVI
веке,
велась
в
общеевропейском масштабе, с широким охватом источников и проблематики практически
всех государств континента. Особую ценность для этого проекта имели не только
контакты с конкретными людьми, но и более глубокая связь с национальными
интеллектуальными
традициями,
образовательными
системами,
национально-
религиозными стереотипами. Особенно интересен вопрос об отношении любого крупного
интеллектуала этих лет к традициям и практикам Возрождения. Случай Маттиаса Флация
Иллирика представляет в этой связи особый научный интерес.
Матия Влачич (так он звался в Хорватии; Флаций – обычная для того времени
латинизация его фамилии) родился в 1520 году в городке Лабин, на полуострове Истрия.
Истрия в то время была частью Венецианской республики, через посредство которой была
включена в различные экономические и культурные процессы, характерные для
гуманистической Италии. Мать мальчика происходила из итальянской дворянской семьи
и воспитывала его в строгом религиозном духе289. Высказывались мнения о том, что семья
матери Флация была итальянской лишь по фамилии – итальянизация имѐн была довольно
распространѐнным явлением. У Флация была и другая фамилия (Франковиц), которой он
пользовался в течение всей жизни время от времени, в том числе – для официальных
289
См. [Flacius M.] Demonstrationes evidentissimae doctrinae de essentia imaginis Dei et Diaboli, iustitiaeque ac
iniustitiae originalis una cum testimoniis veterum ac recentium theologorum... Basel, 1570. P. 324.
151
документов. Профессор Бристольского университета Эдо Пивцевич считает, что перед
нами – своего рода прозвище, данное семье – старинный истрианский обычай290.
Пивцевич не делает из этого никаких выводов: в самом деле, это второе имя могли носить
предки Флация по женской линии291. Однако не могло ли само это имя означать близость
к итальянской культурной среде? Увы, мы не можем судить определѐнно.
Отец Матии Андреа Влачич был выходцем из среды разбогатевших плебеев
безусловно славянского происхождения. Югославские учѐные серьѐзно исследовали
вопрос о расовой принадлежности Матиаса Флация, однако всѐ, чего они достигли, - это
предположение, что тот на три четверти был хорватом и на четверть итальянцем292.
Стремление приблизить такого крупного исторического деятеля, каким является Флаций,
к сфере хорватской истории в определѐнном смысле отделяет его и его свершения от
контекстов
как
общеевропейского
космополитического
протестантизма,
так
и
итальянского Возрождения. При всей ограниченности и политической ангажированности,
такой подход позволяет увидеть реалии за пределами вышеуказанных контекстов,
избежать злоупотреблений в их использовании. Таким образом, рассмотрев лишь вопрос
об этнической принадлежности Флация Иллирика, ещѐ до попыток оценить его вклад в
историю, мы обнаружили необходимость комплексного подхода, помещения этой
личности в различные культурные контексты.
Начальное образование Матия получил от отца и частных учителей, из которых он
сам запомнил лишь некоего миланца по имени Франческо Ашерио. По непонятной
причине его считают проводником гуманистической культуры на полуострове Истрии 293.
У нас нет никакого повода так судить, однако не подлежит сомнению, что города
полуострова, в том числе Лабин, представляли в хорватской провинции центры латинской
и итальянской культуры. Значение их как культурных центров подчѐркивалось их
торговым и административным значением; важные факторы зарождения гуманистической
традиции, такие, как крупные библиотеки, аристократические дворы и сплочѐнный
гражданским сознанием слой пополанов, там отсутствовали. Мы точно знаем, что с
290
См. Olson O. K. Op. cit. P. 28.
Эту точку зрения разделял, в частности, Мийо Миркович. См. Mirković M. Matija Vlačić-Ilirik. Zagreb,
1960. P. 7ss.
292
При всей разности оценок все сходятся в том, что, поскольку хорватские имена часто латинизировались,
фамилия матери не является доказательством принадлежности к итальянской нации. Обзор проблемы см. в
Olson O. K., op. cit. P. 26. Флаций превосходно владел итальянским языком, однако хорватские учѐные не
придают этому никакого значения. Важнее для М. Мирковича было владение Флацием хакавским диалектом
хорватского языка, что, по мнению учѐного, однозначно доказывает его принадлежность к хорватскому
этносу. Оставляя вопрос о правомерности использования этого понятия применительно к XVI веку,
отметим, что Флаций владел как венецианским диалектом (языком Адриатического побережья), так и favella
toscana Данте и Петрарки, которых много читал и иногда даже цитировал.
293
Gortan V., Vratović V. Basic Characteristics of Croatian Latinity. In: Humanistica Lovaniensis, XX (1971), P.
40. См. также Olson O. K. Op. cit. P. 28.
291
152
юности Флаций впитал у своих родственников настроения венецианского патриотизма294,
ненависть к туркам и глубокое религиозное чувство; у нас нет прямых свидетельств
привезѐнных с Истрии гуманистических интересов. Мы точно знаем лишь, что до отъезда
из Лабина Флаций читал Библию, и только она стимулировала его размышления и
предопределила будущие интересы. Скорее всего, занятия с Ашерио базировались именно
на чтении Библии, как было заведено в ту эпоху в провинции295.
В возрасте 16 лет Матия был направлен на учѐбу в столицу – Венецию. Венеция
была в эти годы не только крупным центром гуманистического знания, но также
средоточием итальянского религиозного свободомыслия и протестных настроений.
Мальчик был принят в одну из престижнейших школ в районе Площади св. Марка, не
слишком популярную среди аристократов, но славившуюся своими интеллектуальными
традициями. Основанная Альдом Мануцием школа готовила, в частности, кадры для
знаменитого издательства, специализировавшегося на гуманистической литературе и
классиках. Именно здесь Флаций приобрѐл первые глубокие знания и убеждения
гуманистического характера.
Решающую роль в этом процессе сыграл учитель школы Эньяцио (Джованни
Баттиста ди Чипелли, 1473-1553). Эньяцио пользовался признанием как эрудит, считал
себя учеником Анджело Полициано, состоял в личной дружбе или интенсивной переписке
с рядом гуманистов первой величины, среди которых – Пьетро Бембо и Эразм
Роттердамский. Под его руководством, в частности, молодой Флаций познакомился с
некоторыми текстами Аристотеля, не включѐнными в ранние издания его сочинений (они
войдут в базельское издание 1550 года).
Эньяцио занимался главным образом историей Венеции; эти занятия утвердили в
нѐм определѐнную склонность к протестантизму, передававшуюся и многим его
ученикам. Класс Эньяцио составлял одновременно несколько сотен человек 296; среди
учеников были Пьетро Мануцио и будущий видный церковный деятель Пьер Паоло
Верджерио.
Странным
образом
творчество
Эньяцио
ещѐ
не
получило
своего
всестороннего исследования, хотя ряд его произведений представлен в некоторых
ведущих европейских библиотеках. Среди исследователей церковной историографии XVI
294
[Flacius M.] De voce et re fidei, quod que sola fide iustificemur, contra pharisaicum hypocritarum fermentum,
liber. Basel, Oporinus, 1555. P. V ss.; Idem. De sectis, dissensionibus, contradictionibus et confusionibus doctrinae,
religionis, scriptorum et doctorum pontificorum liber. Basel, Queck, 1565. P. 17.
295
Базируется на оставленных самим Флацием свидетельствах. Напр., [Flacius M.] Entschuldigung,
geschrieben an die Universitet zu Wittenberg, der Mittelding halben. Magdeburg, 1549. 40 л.; Idem. Gründliche
Verlegung aller schedlichen Schwermereyen des Stenckfelds zur Unterricht und Warnung des einfeltiger Christen.
Nürnberg, 1557. 55 л.; Idem. Demonstrationes evidentissimae. Basel, 1570. 36 с.
296
Около 500 человек в 1520 году. Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana. V. VII, Milano, 1824. P. 2187.
См. также Olson O. K. Op. cit. P. 30.
153
века преобладает невысокое мнение о качестве образования, полученного Флацием в
области истории297. Даже современный исследователь отзывается о его профессиональных
достоинствах
довольно
скептически,
считая
при
этом
свою
оценку
явной
снисходительностью298. Между тем, при всей своей оригинальности и отличиях от
ведущих историков позднего Возрождения, Эньяцио важен для нас как важнейшая из
нитей, связывающих Флация с гуманистической традицией в историографии. Некоторые
работы Эньяцио, упомянутые в подробной библиографии Фирмена-Дидо299, нам
обнаружить не удалось; тем не менее, найденные в Вольфенбюттеле, Берлине и
Флоренции тексты позволяют нам сложить мнение об этом авторе.
Прежде всего, следует помнить, что Эньяцио принадлежит к поколению историков,
предшествующему Беату Ренану, Хедио и Слейдану. Лишь с работ Хедио в
историографии утвердятся некоторые схемы ранней лютеранской историографии;
Эньяцио, несмотря на близость позиций к этим историкам, работал в совершенно другой
атмосфере, отталкивался от иной традиции. Тем не менее, его политические симпатии
обеспечили ему прозвище «лютеранина» ещѐ раньше, чем оно консолидировалось для
обозначения религиозного течения.
Первое историческое сочинение молодого гуманиста называлось Racemationes300.
Характерное для гуманистического мировосприятия название буквально означает сбор
ягод, оставшихся после сбора основного урожая. Это издание очень напоминает
современные сборники научных статей: выступление Эньяцио (посвящѐнное Алоизио
Брагадину) посвящено бесчисленной череде мелких сюжетов. Как правильно писать полатыни: Graccus или Gracchus? Уточняются появившиеся ранее в печати переводы с
греческого языка отдельных слов, иногда – понимание небольших греческих отрывков.
Заметно, что Эньяцио хорошо владеет древнегреческим языком, однако выбранные им для
критики объекты часто несложны и никогда не носят концептуального характера. Автор
предлагает свою версию расшифровки единожды встречающихся латинских аббревиатур,
297
Polman P. L’Elément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle. Gembloux, 1932, p. 214. Libby L.
J. Jr. Venetian History and Political Thought after 1509. In: Studies in Renaissance XX. New York, Renaissance
society of America, 1973. P. 33. Orella y Unzue J. L. de. Respuestas Católicas a Las Centurias de Magdeburgo
(1559-1588). Madrid, 1976. P. 17.
298
«Каково бы ни было качество его публикаций, Эньяцио всѐ-таки считается историком». Olson O. K. Op.
cit. P. 31.
299
Firmin-Didot A. Alde Manuce et l’Hellénisme à Venise. Paris, 1875. P. 451.
300
[Egnatius I. B. et al.] Marci Antonii Sabellici Annotationes Veteres et Recentes: Ex Plinio, Livio et pluribus
authoribus. Philippi Beroaldi Annotationes Centum. Eiusdem Contra Servium grammaticum Libellus. Eiusdem
Castigationes in Plinium. Eiusdem etiam Appendix Annotamentorum. Iohannis Baptistae Pii Bononiensis
Annotationes. Angeli Politiani Miscellaneorum Centuria una. Domitii Calderini Observationes quedam. Eiusdem
Politiani Panepistemon. Eiusdem prelectio in Aristotelem: cui titulus est Laamia. Baptiste Egnatii Veneti
Racemationes. Venetiae, 1502. 85 л. Эньяцио принадлежат л. 77-85.
154
а иногда просто пересказывает вычитанные у Плиния или малоизвестных греческих
авторов забавных или странных фактов.
В жанровом отношении этот текст очень напоминает, среди многих других,
«Примеры» (или «О славных деяниях и высказываниях») Сабеллико 1507 г. Маркантонио
Коччо Сабеллико (1436-1506) собрал компендиум отрывочных сведений из биографий
персонажей недавнего прошлого, а также античной мифологии и истории, не проводя
между ними различий, не пытаясь их классифицировать. Эти сведения ничего не
иллюстрируют, помимо исторической эрудиции автора. Эньяцио высоко ценил Сабеллико
(об этом свидетельствует написанное им когда-то предисловие к изданию «Примеров»301)
и, видимо, сознательно подражал ему. Текст Эньяцио не содержит никаких элементов
прогресса по отношению со славным предшественником. Ряд конкретных остроумных
уточнений широко известных сведений не мог сам по себе обеспечить признание, однако
критическое отношение к ряду фактов новейшей церковной истории, установка на своего
рода «регализм» (приоритет светской власти над церковной, воспринимаемый как
правовой абсолют) определили место этого текста в общем потоке многочисленных
текстов такого жанра в начале XVI века.
Наиболее известный исторический текст Эньяцио – «О происхождении турок» является на деле частью его более общего сочинения эрудитского характера,
сопровождавшего изначально известнейшего издания кратких биографий римских
императоров – так называемая Historia augusta. Самая ранняя среди обнаруженных нами
публикаций текста Эньяцио относится к 1519 году302. Это издание Альда Мануция
представило и снабдило своего рода «научным аппаратом» стержень общеисторической
концепции того времени – череду императоров. С начала XVI века всѐ шире и шире
последовательность императоров (в сегодняшних терминах – Рима, Константинополя и
Священной Римской империи) воспринималась в обществе как рамочная хронологическая
конструкция, в которую вполне можно поместить описание любого исторического
события. Historia augusta – известнейший текст, исключительно ценный исторический
источник по римским императорам эпохи принципата и особенно солдатских
301
Marci Antonij Cocci Sabellici Exemplorum Libri decem ordine elegantia et vtilitate prestantissimi.Argentorati,
1511. P. 3.
302
[Egnatius I. B. et al.] Nervae et Traiani, atque Adriani Caesarum vitae ex Dione, Georgio Merula interprete.
Aelius Spartianus. Iulius Capitolinus. Lampridius. Flavius Vopiscus. Trebellius Pollio. Vulcatius Gallicanus. Ab
Ioanne Baptista Egnatio Veneto diligentissime castigati. Heliogabali principis ad meretrices elegantissima oratio.
Eiusdem Io. Baptistae Egnatii de Caesaribus libri tres a Dictatore Caesare ad Constantinum Palaeologum, hinc a
Carolo Magno ad Maximilianum Caesarem. Eiusdem in Spartiani, Lampridiique vitas, et reliquorum annotationes.
Aristidis Smyrnaei oratio de laudibus urbis Romae a Scipione Carteromacho in latinum versa. In extrema operis
parte addita Conflagratio Vesevimontis ex Dione, Georgio Merula interprete. (Venetiae), Aldus Manutius, 1519.
424 л. (далее – De Caes.)
155
императоров. Каноническим текстом, образцом как для стилистического, так и для
фактологического подражания для него служила «Жизнь двенадцати цезарей» Светония;
между биографиями Светония и Historia augusta существовал разрыв, заполненный в
данной публикацией специальной работой Мерулы.
Роль Эньяцио в подготовке данного издания была двоякой. Прежде всего, он
сопроводил классический текст критическими замечаниями эрудитского характера (они
помещены в данном издании на л. 362-395). Замечания касались терминологических
уточнений, расшифровки малопонятных названий и т. п. В некоторых случаях, однако,
Эньяцио
дублирует
данные
позднеантичного
текста
другими,
вещественными
источниками, известными в его время. Например, на с. 377v-378r он описывает
серебряную урну, надпись на которой уточняет даты жизни знаменитого юриста
Папиниана. Вот как определяет историк свою задачу в начале своего труда:
Мы предложим данный труд в общественное пользование для того, чтобы и мой
текст, и эти (комментируемые – ИА) предстали безукоризненными в равной степени; и
то, что у этих авторов было сравнительно запутанным, благодаря мнесможет быть
понято более точно. Мы же будем стараться быть насколько краткими, насколько это
покажется мне уместным. Кроме того, мы настолько ограничены и сложностью
исследований, и сжатостью сроков, что мне не удастся одновременно избежать
многочисленности исследуемых фактов и глубины разысканий. Пусть же современники
(букв. «наши люди», nostrates homines - ИА) спокойнее воспримут это, ибо и страдающим
от жажды путникам не должно быть неприятным, если им лишь укажут на источник.
Им не следует и быть излишне требовательными к тому, что я здесь излагаю в меру
своих сил; пусть лучше они прибегнут к словам благодарности и признательности за
услугу303.
Другой стороной участия Эньяцио в подготовке данного издания стало завершение
схемы Historia augusta до известных ему пределов всемирной истории – составление
череды императоров от Юлия Цезаря до Максимилиана
II. Отступление
«О
происхождении турок» - это лишь одна из нескольких дигрессий в составе этого большого
перечня; странно, что исследователи не обращают внимания на основное содержание
текста Эньяцио. Между тем, этот текст доказывает, что череда императоров как
хронологический принцип, прежде чем появиться в трудах ранних лютеранских
историков, встречалась и в гуманистических исторических сочинениях.
303
De Caes. … P. 361r.
156
Сочинение Эньяцио «О цезарях» (в тексте книги – «Три книги о римских
государях») занимает 127 страниц (листы 297-361). Оно задумано, в первую очередь, как
элемент гуманистической полемики: во введении автор сообщает о Флавио Бьондо как
главном оппоненте, говорит, что для опровержения его концепции привлекаются, помимо
обычных, и дополнительные источники – сочинения Зонары, Никиты Хониата и
Христодула304. Очевидно, Эньяцио бравирует знанием греческого языка, доступом к
византийской историографической традиции!
Череда императоров начинается с Юлия Цезаря, «первого, кто подавил свободу
родины». Несмотря на периодически высказываемое на страницах книги осуждение
тирании, Лестер Либби счѐл взгляды Эньяцио «скорее традиционными, нежели
республиканскими», и связал их с политической борьбой Венеции с «деспотическим
Миланом»305. Умеренное, не подчѐркиваемое, не приближенное к злободневным сюжетам
осуждение тирании было данью литературной моде, подражанием классикам, в первую
очередь Ливию, а также основанной на нѐм ренессансной традиции. Более подробное
рассмотрение взглядов Эньяцио способно существенно уточнить эту точку зрения.
Анализ показывает, что даже сам рассказ о Юлии Цезаре не содержит негативных
оценок,
кроме
первой
фразы.
Она
характеризует
Цезаря
как
«мужа,
далеко
превосходящего других в искусстве войны и мира, а особенно – в умеренности, если бы
только он предпочѐл быть защитником свободы, а не борцом против неѐ». За Цезарем
следует лучший император в истории – Август,
«счастье империи которого подчѐркивает тот факт, что спаситель наш
Христос, свет народов и мира, пожелал родиться в его правление и даровал землям
славнейшего государя, обладавшего высшими телесными и духовными достоинствами, и
всеблагой и всемогущий покровитель рода людского родился в это же время. И счастье
его (правления. – ИА) было объектом стремления других государей»306.
Череда императоров выглядела вполне рядом небожителей, смене правителей
придавался
эпохальный
характер;
нет
недостатка
в
превосходных
степенях
прилагательных и наречий. Так, лучшему императору Рима наследовал худший
(Тиберий); его злодейство подчѐркивалось ужасным знаком – на 18 году его правления
304
Мы благодарим профессора В.В. Симонова, указавшего на то, что эти авторы уже были хорошо известны
итальянскому читателю.
305
Libby L. J. Op. cit. P. 33.
306
De Caes. … P. 298r.
157
«иудеи распяли на кресте спасителя нашего Христа»307. Для каждого значимого
императора заготовлено что-то, что делает его уникальным, часто – превосходящим всех
остальных. Например, если Август – просто «лучший», то Траян – «лучший государь из
всех, и первый из пришлых»308. Рассказы об императорах античного Рима основаны на
Светонии и расхожих штампах и отличаются краткостью. По каждому из императоров –
это следует отметить особо – приводится хотя бы одна цифра (как правило,
продолжительность правления); иногда упоминается также возраст кончины.
Важным композиционным элементом сочинения Эньяцио являются отступления
объѐмом в несколько страниц, освещающие некоторые важные со всемирно-исторической
точки зрения, однако посторонние по отношению к череде императоров сведения. На
первый взгляд, перед нами – лишь художественный приѐм, нарушающий монотонность
повествования. По мере чтения книги, однако, становилось ясно, что эти отступления
выстраиваются в ряд, своего рода параллельное повествование, приводящее, в конце
концов, к описанию турецкого натиска и его отражения. Основная политическая проблема
Венеции уже не одно столетие, борьба с турецким натиском стала важнейшим элементом
европейской внешней политики, едва ли не единственным сплачивающим фактором в
атмосфере религиозных и идеологических раздоров.
Первым отступлением Эньяцио стал рассказ «Об империи парфян и персов»309. Он
сводится к тому, что после череды эпох по древнейшим правителям этой страны там
возобладали турки (floruit Saracenicum nomen, Persico sublato). Турки завоевали всю Азию,
и, не удовлетворившись захватами, пошли «сушей и морем» на Европу. Затем «галлы»
(крестоносцы) сумели вернуть Европе Иерусалим, но потом «разногласия среди нас»
позволили туркам (иногда называемым татарами) завоевать его обратно. О Магомете или
новой религии пока не говорится ни слова.
Линия императоров Западной Римской империи, а с ней и первая книга сочинения
Эньяцио, прерывается 410 годом; историк поддерживает общепринятую точку зрения, что
после завоеваний готов преемственность императорской власти на Западе была нарушена,
и полноправными императорами после Гонория оставались лишь восточные. Вторая книга
Эньяцио посвящена череде императоров Восточной Римской империи. Начинается вторая
эра всемирной истории; любопытно, что при построении этой глобальной схемы, пока
ещѐ никак не связанной с историей христианской церкви или веры, из всемирноисторической концепции вычѐркивается период до Первого пришествия. Сочинение
307
De Caes. … P. 298v.
De Caes. … P. 300v.
309
De Caes. … P. 305-306.
308
158
Эньяцио «Об императорах» имеет объектом не историю императорской власти или
империума – это проблемы интересуют историка меньше всего. Он придаѐт ряду
императоров глобальное историческое значение, а делением материала на три книги делит
на три части именно всемирную историю. Вторая эпоха оценивается как время упадка,
глубокого глобального кризиса. «Следует эпоха, при описании которой я должен
сообщить о бедствиях, поразивших весь мир, о печальном конце Царств, полном
исчезновении империй, очень частых переворотах, чтобы смертные поняли, что нет
ничего непостояннее того, к чему мы с такой силой стремимся как к вечному»310.
После описания правления императора Ираклия (610-641) мы встречаем
следующую дигрессию, посвящѐнную происхождению Магомета311. Эньяцио собирает все
слухи и расхожие сведения о нѐм, передаѐт легенды – он не ссылается ни на один
письменный источник, при том что в описаниях именно второй книги он вводит в оборот
новые тексты. О Магомете сообщается, что он был погонщиком верблюдов, при помощи
некоего христианского монаха Сергия выступил против христиан и иудеев, «последних
обвинив как нечестивцев, казнивших на кресте величайшего из пророков, а нас – как
простаков, рассказывающих о Христе небылицы». Он возвѐл в божественное достоинство
себя самого и приступил к военным завоеваниям, обращая в свою веру целые страны в
основном силой оружия.
«Я не знаю, должен ли я больше всего восхищаться в этом человеке ловкостью его
натуры или глупостью тех людей, которые не стали гасить ни нарождающуюся искру,
что в те времена сделать было нетрудно, ни расширившийся впоследствии в результате
великих событий пожар. Оттуда эта лава залила не только Азию и Африку, но также
значительную часть Европы, настолько, что встал вопрос уже о полном уничтожении
христианской веры»312.
Наконец, после описания правления последнего византийского императора,
признанного достойным помещения в принятую в книге схему (Константина VI, 776-797),
в книгу помещены ещѐ два отступления – «О Византии» (340r-341v) и «О происхождении
турок» (341v-345r). Последнее современные историки рассматривают как основной
исторический труд Эньяцио, рассматривая его вне контекста всемирно-исторической
концепции сочинения в целом. Первое отступление не носит концептуального характера –
310
De Caes. … P. 307r.
De Caes. … P. 322r.
312
De Caes. ... P. 322v.
311
159
оно лишь обобщает сведения о том, как сложилась историческая судьба Константинополя,
а также даѐт общую характеристику византийских императоров. В преддверии описания
translatio imperii Эньяцио придерживается в целом негативной оценки этих правителей.
Если в начале второй книги (после «перехода империи» на Восток в результате
варварских завоеваний на Западе) среди византийских правителей ещѐ встречаются в
целом положительные персонажи, то по мере своего продвижения во времени историк
становится всѐ более строг в оценках. Политический мир Византии изображается как
неуклонно, драматично скатывающийся в пучину греха и злодеяний. Отступление «О
Византии» - квинтэссенция негативной оценки последних императоров Восточной
Римской империи.
За преступлением следует наказание. Упадок византийской государственности
(воспринимаемой как колоссальный кризис всемирно-исторического значения) привѐл к
возвышению турок – будущей великой опасности для всей европейской цивилизации.
Некогда заселявший каспийские берега народ расселился на огромной территории
благодаря успешной борьбе сначала против Византии, а затем – против родной автору
Венеции. Эньяцио становится тщателен, предлагает сравнительно много дат и всякого
рода деталей, особенно при описании событий конца XV века. Как преддверие грядущей
европейской катастрофы воспринимает автор захват турками Мессении, Лепанто и
Дурреса, датируемый 1497 годом. Последним событием, отмеченным в этом отступлении,
была передача власти султаном Баязидом (Pazaites) своему сыну Селиму, датированная
неверно. К слову, хронологических неточностей в этом отрывке предостаточно. Если
история
Турции
знакома
Эньяцио
слабо,
то
византийская,
напротив,
изучена
основательно, с привлечением источников. Это привело к тому, что в данном отрывке
(исследователи прошли мимо этого обстоятельства) историк представил нам развитие
турецкой державы глазами византийских императоров, которых он специально изучил и
описал
на
предшествующих
страницах
своего
сочинения.
Помимо
основного
хронологического стержня (череды императоров), во второй книге присутствует и
параллельный – динамическое развитие восточного вопроса, представленное в форме
непрекращающихся конфликтов Восточной Римской империи с турками.
Третья
книга313,
посвящѐнная
череде
императоров
Запада,
начинается
с
констатации: писать становится легче. Дела восточных императоров шли всѐ хуже, в то
время как у турок наблюдался непрекращающийся подъѐм. Это позволяет без излишних
пояснений закрыть линию императоров Константинополя и начать новую – императоров
Запада. Вводная страница к третьей книге выглядит абсолютно ренессансной по форме и
313
De Caes. ... P. 345-361.
160
духу, однако она пропитана регалистским духом, более характерным для политической
литературы следующего, XVII столетия.
Среди всех потерь, которые христианский мир понѐс в борьбе с турками, Эньяцио
особо переживает утрату Греции. Это вполне понятно, если учесть, что историк потратил
много сил и времени на овладение греческим языком и обработку источников, в том числе
– новых. Впрочем, Эньяцио склонен винить в бедствиях самих государей: «Ведь у
Платона превосходно сказано, что каковы государи, таковы примерно и нравы тех, кто им
повинуется. Впрочем, какие бы то ни было возможные в дальнейшем жалобы на это, хоть
они и необходимы, будут из данных наших книг удалены»314. Историк не желает
высказываться критически в адрес любого из правителей, от которого может быть
проведена прямая линия империума к ныне власть предержащим. Эньяцио избегает
рассуждать о Провидении, о божественном в таинстве «переноса империи», как это было
принято в литературе начиная с Марсилия Падуанского: он просто начинает
повествование с Карла Великого и продолжает краткие характеристики вплоть до своего
современника Максимилиана I (император в 1508-1519 гг.). Красной нитью сквозь
историю западных императоров проходят их успехи в завоеваниях, причѐм историку не
принципиально, у какого противника были отняты те или иные земли. Все новые
территориальные приобретения воспринимаются как залог будущих великих побед,
надежда на Промысл Божий, направленный на возвращение могущества Европы. Это
могущество понимается как торжество христианского мира над мусульманским; у
Эньяцио нет видимого различия между историей Европы и историей христианства. Карл,
подчинив лангобардов и саксов, лишь создал прелюдию к тому, чтобы отбросить
сарацинов в Испании, а это уже шаг к восстановлению утраченной в веках блистательной
державы великих первых императоров.
Достоинства работы Эньяцио были очевидны. Краткий объем, единый замысел и
чѐткость его соблюдения, понятная и традиционная схема (череда императоров) и
одновременно новый источниковый материал – всѐ это обеспечило успех сочинения.
Полностью оба выступления Эньяцио из данного тома были перепечатаны в издании,
проект которого одобрил сам Эразм Роттердамский315. Популярностью пользовалось
отступление
314
«О
происхождении
турок»,
которое
начало
самостоятельное
De Caes. ... P. 346r.
[Egnatius I. B. et al.] Ex recognitione Des. Erasmi Roterodami, C. Suetonius Tranquillus, Dion Cassius Nicaeus,
Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus V. C. Trebellius Pollio, Flavius
Vopiscus Syracusius: Quibus adiuncti sunt Sex. Aurelius Victor, Eutropius, Paulus Diaconus, Ammianus
Marcellinus, Pomponius Laetus Ro. Io. Bap. Egnatius Venetus. Coloniae, 1527. 695 c.
315
161
существование316. Высказывалось даже мнение о том, что этот небольшой текст оказал
воздействие на историческое творчество самого Эразма317. Подводя итог, можно отметить,
что, во-первых, творчество Эньяцио в целом недооценивается в современной
исторической литературе, а во-вторых, роль «рядовых» гуманистов второго плана,
масштаб деятельности которых не может быть сопоставлен с крупнейшими мыслителями
Возрождения, в целом изучается недостаточно.
По воспоминаниям самого Флация, огромное воздействие на его взгляды оказал
духовный климат Венеции в целом, настроения, касавшиеся религиозных практик. В
городе сложилось весьма критическое отношение к суевериям церковников – к
«плачущим» иконам, к монахам, проповедующим тезисы Аристотеля вместо Слова
Божьего, к распространившемуся среди плебса культу святых, фактически неотличимых в
народном сознании от бога. Венеция была не только одним из мировых центров
книгопечатания; она была также важным импортѐром книжной продукции, поступавшей
из-за Альп, в частности, через великие книжные ярмарки Франкфурта и Лейпцига.
Римской
Курией
Венеция
воспринималась
как
город,
сильно
поражѐнный
протестантскими настроениями. Готовилась масштабная операция по вычищению этой
«чумы» из города, игравшего для католической церкви особую политическую и
стратегическую роль. Флаций, одно время склонявшийся к вступлению в Орден
францисканцев, внял совету своего двоюродного дяди Бальдо Лупетино318. Тот, занимая
крупную должность Провинциала Ордена и аббата монастыря, отсоветовал молодому
родственнику идти этим путѐм. Падуанский или Болонский университеты слишком чѐтко
контролировались Римом; выбора не было. 19-летний Матия направился в Германию.
Первым городом, в котором Матиас Флаций продолжил занятия классическими
дисциплинами,
стал
Базель,
а
любимыми
предметами
–
древнееврейский
и
древнегреческий языки и богословие. Первые учителя, среди которых были друзья и
ближайшие последователи Цвингли и Лютера, привили юноше твѐрдые протестантские
316
[Egnatius I. B. et al.] Bellum Christianorum Principum, praecipue Gallorum, contra Saracenos, anno salutis
MLXXXVIII pre terra sancta gestum. autore Roberto Monacho. Carolus Verardus de expugnatione regni Granatae:
quae contigit ab hinc quadragesimo secundo anno, per Catholicum regem Ferdinandum Hispaniarum. Cristoforus
Colom (SIC!) de prima insularum, in mari Indico sitatum, lustratione, quae sub rege Ferdinando Hispaniarum facta
est. De legatione regis Aethiopiae ad Clementem pontificem VII. ac Regem Portugalliae: item de regno, hominibus,
atque moribus eiusdem populi, qui Trogloditae hodie esse putantur. Ioan. Baptista Egnatius de origine Turcarum.
Pomponius Laetus de exortu Maomethis. Basileae, (Petri), 1533. Рассказ «О происхождении турок» был
перепечатан дословно, в тексте указаний на автора нет. P. 143-146.
317
Sperna Weiland J., Frijhoff W. Th. M. Erasmus of Rotterdam: The Man and the Scholar. Leiden, 1988. P. 31;
Olson, op. cit., p. 31.
318
Бальдо Лупетино – очень примечательная личность. Диссиденствующий францисканец не сумел скрыть
свои симпатии к лютеранству, и они привели его сперва к пожизненному заключению (1543), а затем (после
отказа принести покаяние и отречься от своих взглядов) – к жуткой смертной казни через утопление в
Лагуне (1556). Этот эпизод добавляет, на наш взгляд, яркую краску к характеристике духовного климата
Чинквеченто.
162
взгляды. На следующий год молодой студент переехал в Тюбинген, где продолжил свои
учѐные занятия и существенно расширил круг знакомств среди лидеров протестантизма.
Вскоре он перебрался в Виттенберг, где попал под мощное личное влияние Меланхтона.
Именно в Виттенберге Флаций начал в 1544 г. свою преподавательскую деятельность.
Сотрудничество с Меланхтоном реализовалось, в частности, в создании самого
масштабного произведения церковной историографии XVI века – «Магдебургских
Центурий». Значимость влияния Меланхтона была неоднократно подвергнута изучению в
последние годы. Среди наиболее значимых работ отметим статью Х. Шайбле 319, а также
соответствующие разделы в новейших исследованиях Х. Болбука 320 и Л. Илича321. В своих
ранних работах322 Шайбле считал воздействие Меланхтона гораздо более сильным и
действенным по сравнению с личным влиянием Лютера, но впоследствии изменил своѐ
мнение. Ирене Дингель поддержала эту точку зрения, отметив одну интересную деталь.
По еѐ мнению, влияние Лютера сказалось в том, что Флаций перенял его концепции
«лидерства и пророческого авторитета»323. Л. Илич проявил большую сдержанность в
оценках, хотя и склоняется к большей роли Меланхтона324. Х. Болбук, следуя в фарватере
направления исследований, предложенного ещѐ проф. Кауфманном, считает это
воздействие гораздо менее важным (по крайней мере в том, что касается зарождения
замысла «Центурий») по сравнению с деятельностью группы магдебургских богословов,
так называемой «Канцелярией Господней», в конце 40 и начале 50-х годов XVI века. Нам
ближе последняя точка зрения, хотя, на наш взгляд, она несколько принижает
собственный вклад Матиаса Флация, результат его личностной и профессиональной
эволюции. Значительную роль, на наш взгляд, сыграло общение Флация и за пределами
Магдебурга, в первую очередь с такими интеллектуалами, как Ю. Ланге и К. Нидбрук.
Переписка Флация с Ланге и Нидбруком является важной частью Интернет-публикации
источников
по
работе
над
«Магдебургскими
центуриями»,
предпринятой
под
руководством самого Х. Болбука325.
319
Scheible H. Der Catalogus Testium Veritatis. Flacius als Schüler Melanchthons. In: Blätter für pfälzische
Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 63/30 (1996), S. 343-357.
320
Bollbuck H. Wahrheitszeugnis, Gottes Auftrag und Zeitkritik. Die Kirchengeschichte des Magdeburger Zenturien
und ihre Arbeitstechniken. Wiesbaden, 2014.
321
Ilić L. Theologian of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of Matthias Flacius Illyricus.
Göttingen-Bristol, 2014.
322
Scheible H. Der Plan der Magdeburger Zenturien und ihre ungedruckte Reformationsgeschichte. Diss.
Heidelberg 1960; Idem. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur Geschichte der
historiographischen Methode. Gütersloh, 1966.
323
Dingel I. Flacius als Schüler Luthers und Melanchthons. In: Graf G. et al. (eds.). Vestigia Pietatis. Studien zur
Geschichte der Frömmigkeit in Thüringen und Sachsen. Festschrift für Ernst Koch. Leipzig, Verlagsanstalt, 2000,
77-93. Здесь – S. 92.
324
Ilić L. Op. cit., p. 67.
325
URL: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=edoc/ed000086 (последнее обращение: 15.03.2015)
163
§2. Обстоятельства работы над «Центуриями»
Несмотря на то, что в ближайшие годы после переезда в Германию Флаций
продолжал изучать гуманистические материи, его переход в область протестантской
теологии был предопределѐн и вскоре уже полностью определял круг занятий молодого
человека. Гуманистические дисциплины сами по себе оказались неспособны привлечь
пытливого, отличавшегося высочайшим трудолюбием и острым умом молодого человека.
Почему? Как получилось, что Флаций сознательно оставил традиционную для своей
родины сферу занятий? Очевидно, приобретѐнные им в Венеции представления о
гуманизме, о деятельности издателей и учѐных не были для него достаточно
привлекательными. Изучив вблизи деятельность своего венецианского учителя, он
обнаружил, что инструментарий признанного венецианского мэтра не соответствовал
увеличившемуся
масштабу
задач,
встававших
перед
интеллектуалами
в
новой
религиозной атмосфере. Собрания эрудитских сведений, не охваченные общим
глобальным
замыслом,
единой
исторической
концепцией,
не
могли
играть
в
идеологическом диспуте заметной роли. Гуманистический инструментарий Эньяцио,
применявшийся во множестве мелких сюжетов, не мог обеспечить формировавшиеся
новые потребности: новые интеллектуалы, следуя закрепившейся в германских
университетах традиции, создавали крупные исторические труды на основе глубокого
религиозного чувства. Это чувство стимулировало создание крупных по объѐму, но
цельных по композиции, свободных от внутренних противоречий исторических
сочинений. Помимо прочего, эти сочинения поддерживали и провозглашѐнную в
предыдущую эпоху идею о необходимости рациональной критики источников.
Историческое знание поднималось на новый качественный уровень.
К 1552 г. Флаций имел за плечами не только опыт профессуры в университете,
бывшем главным оплотом лютеранского богословия. Оживленная полемика по различным
теологическим и политическим вопросам выдвинула молодого человека на первые
позиции в среде лютеранских богословов. Возможно, он уступал младшему товарищу в
эрудиции и знал меньше современных языков, зато владел историко-философской
проблематикой. Особенным уважением Флаций пользовался среди гнесиолютеран,
которые считали его одним из своих лидеров. Поворот Флация к истории, так сказать, в
личном измерении начался ещѐ в 1550 г. Сравнивая современные ему католические
требники с древними, он обнаружил любопытные расхождения, которые и описал в
довольно остроумной брошюре326. Среди других исторических сочинений небольшого
326
Отметим, что этот текст был одновременно (и у одного издателя) напечатан на немецком и латинском
языках, что говорит о нацеленности не только на близкую Флацию, но и отдаленную от него аудиторию.
164
формата в том же году Флаций подготовил и немецкий текст «Против мнимого
могущества и примата Папы»327. Эти и другие тексты переиздавались в изданиях,
составленных из работ отдельных авторов-лютеран по отдельным моментам церковноисторической проблематики и очень напоминающих сегодняшние сборники научных
статей.
Обсуждая с Флацием будущий проект, Нидбрук предлагал разбить новое
сочинение на три части, посвященные соответственно «заблуждениям относительно
Учения», «заблуждениям относительно обычаев», а затем – отдельным негативным
явлениям (последнее подразумевало историю возникновения привилегированного
положения церкви и церковников). Нидбрук очертил и круг источников: помимо
Священного Писания, он охватывал и корпус церковных писателей, сочинения против
еретиков, уставы Орденов – одним словом, обширную, но без особого труда находимую
литературу328.
В случае реализации этот проект представил бы собой довольно крупное
сочинение, пронизанное историческим пессимизмом (при том, что собственно «историей»
оно не являлось бы). Альтернативная концепция Флация изначально подразумевала
изложение
исторического
континуума
–
непрерывную,
хронологически
строго
выстроенную историю. По мере совершенствования своего замысла Флаций осознал
удобство выдвинутой Нидбруком классификации, сформулировав свое видение проблемы
не только в письмах, но и в ряде небольших работ, посвященных историческим вопросам.
В частности, было признано разумным разделить общий исторический процесс на
несколько составляющих его сквозных факторов, по которым можно было бы удобно
классифицировать отдельные исторические факты и сообщения (loci).
Каспар
Нидбрук
ограничил
свое
участие
в
проекте
эмоциональной
и
информационной поддержкой, а также продвижением его в тех кругах, в которых он
вращался, то есть среди дипломатов и государственных деятелей. Собственно историей он
не занимался. Почему? Прегер говорил, что Нидбрук был «одним из самых способных
[Flacius M.] Eine freundliche, demütige und andechtige Erinnerung an das hl. Volk und künigliche priesterthumb
des Antichrists, von der Besserung des heiligen Canons oder Stilmessen, Magdeburg, 1550. 8 л.; Idem. Amica
humilis et devota admonitio Fl. Ill. ad gentem sanctam, regaleque Antichristi sacerdotium de corrigendo sacrosancto
canone Missae. Magdeburgae, 1550. 8 л.
327
Widder die vermeinte gewalt…cit. Подробнее об этом тексте см. Preger W. Op. cit. Bd. 2. S. 415. Латинский
текст был подготовлен позже и вышел под заголовком Contra commentitium primatum papae в 1554 году в
коллективном труде Historia certaminum inter Romanos Episcopos et sextam Carthaginensem Synodum,
Africanasque Ecclesias, de primatu seu potestate Papae, bona fide ex authenticis monumentis collecta. Quaedam
vetusta monumenta, unde potissimum praedicta Historia desumpta est. Item Contra primatum seu tyrannidem Papae.
Autore Matia Flacio Illyrico. Basileae, Oporinus, s. d. [1554]. 214 c.
328
Г. Шайбле превосходно реконструировал замысел Нидбрука, воспользовавшись сохранившейся в
Вольфенбюттеле перепиской немецких ученых. См. Scheible. Die Entstehung… cit., S. 19ff.
165
духовных лиц протестантизма»329, и это затрудняло сотрудничество с ним. Флацию
пришлось подыскивать сотрудников, амбиции которых не стали бы препятствием на пути
создания коллективного труда. Возможно, это предположение и имело под собой почву,
но, на наш взгляд, настоящая причина его отстраненности от практических занятий
историей была гораздо банальнее. Занятость дипломатическими обязанностями, особенно
после того, как он стал ближайшим советником молодого племянника Карла V, будущего
императора Максимилиана II, не оставляла ему времени для серьѐзной научной работы,
тем более что выдвигаемые авторами идеи требования к профессионализму были очень
высоки. Поиск сотрудников затянулся. В 1554 г. единомышленник Флация Маркус Вагнер
начал целенаправленный сбор материала. Проработав полгода в личной библиотеке
Нидбрука, он отправился затем в очень долгий вояж, посетив, помимо длинного ряда
немецкоязычных стран, Данию и Шотландию. Ставка была сделана на поиск ранее
неизвестных или малоизвестных документов, описывающих ранние века христианской
церкви. Задачей Вагнера было, прежде всего, искать старые церковные требники,
особенно эпохи до Григория Великого, материалы инквизиции и процессов против
верующих, сочинения против Антихриста, «которых в библиотеках еще полно»,
сочинения папистов против истинно верующих и впоследствии преследовавшихся или
осужденных (то есть тексты, проводящие папскую идеологию), а особенно – письменные
свидетельства вальденсов. Очевидно, по первоначальному замыслу, именно эти тексты
должны были составить основной корпус источников Центурий. Обращает на себя
внимание тот факт, что с сегодняшней точки зрения подборка может показаться довольно
тенденциозной и направленной на доказательство заранее заданной точки зрения. Следует
только помнить, что в самом корпусе «Центурий» материал данных источников широко
дополнен другим, который здесь не приводится – Писанием, сочинениями Отцов и
Учителей, схоластов, официальными документами римской Курии и т. д. Материал,
который мог свидетельствовать в пользу Рима, был – благодаря просветительской и
пропагандистской деятельности папства – гораздо более доступен, и за ним не надо было
никого никуда отправлять. Увы, оставалось еще огромное книжное и другое богатство
самого Рима, папские (а также монастырские, диоцезанские, епископские) библиотеки, но
они становились все менее доступными по мере того, как в Рим просачивались известия о
подготовке крупнейшими мыслителями-протестантами загадочной, но очень масштабной
публикации. Первые следы противодействия папистов сбору исторической информации
329
Preger W. Op. cit. Bd. 2. S. 418.
166
можно отнести к 1552 г.: в одном письме330 Флаций жаловался, что агенты Рима уже
начали оказывать противодействие его проникновению в библиотеки. Несколько лет
центуриаторы работали, по выражению профессора А. П. Лебедева331, «яко тати в нощи».
Источники собирались практически во всех европейских странах, в том числе и в
Московии332; среди сборщиков материалов, помимо немцев, были французы, швейцарцы
и подданные некоторых других европейских стран.
К разработанному Флацием плану прилагались подробные списки авторов, трудам
которых сборщики информации должны были уделить особое внимание. Обстоятельства
иногда подсказывали новые формы работы. Например, Флаций привлекал к доставке
материала по вальденсам неких лионских купцов; женевского книгоиздателя Роберта
Стефана он отправил по тамошним библиотекам, пригласил к сотрудничеству базельского
книготорговца Опорина (который впоследствии издаст в своей типографии и «Каталог
свидетелей истины», и сами «Центурии»). Флаций допускал, что печатные и рукописные
тексты могут иметь свои лакуны, и поэтому – при общей нацеленности именно на
дошедшие письменные свидетельства – он не желал упускать и источники других видов.
Например, было дано указание опрашивать стариков, не слышали ли они, чтобы кто-то
где-то проповедовал истинное учение либо в отношении всей религии, либо в отношении
отдельных ее частей333. При этом отметим сравнительно невысокую самостоятельность
сборщиков и даже старшего из них – Вагнера. Он не принимал решений даже в тех
случаях, когда они были очевидны: обнаружив в австрийских библиотеках исключительно
ценные тексты, которые не числились во флациевых указаниях (конечно, потому, что сам
Флаций об их существовании не знал и не предполагал), он решил первым делом
списаться с центром. Как только в Магдебурге узнали, что найдена греческая рукопись св.
Григория Богослова, съеденная молью рукопись Алкуина о Троице и десяток других, не
менее редких текстов, Вагнеру была дана команда немедленно отправить все в Магдебург
нарочным. Очевидно, манускрипты часто не копировались, а выкупались (либо
отчуждались иным способом), и в Центр отправлялись подлинники. Этот эпизод
показывает, какие задержки приходилось испытывать из-за того, что авторитет Флация
значительно превосходил авторитет его помощников.
При сборе материалов центуриаторы пользовались разнообразной помощью
частных лиц. Сюда относятся и предоставленные в их пользование частные собрания, и
330
Ritter J. B. Matthiae Flacii Illyrici, Ehemals berühmten und gelehrten Theologi in Theutschland Leben und Tod.
(2e Aufl). Franckfurt u. Leipzig 1725. S. 62.
331
Лебедев А. П. Цит. соч. C. 208.
Там же. См. также Schulte J. W. Op. cit. S. 92.
333
Ritter J. B. Matthiae Flacii … S. 64.
332
167
специально спланированные целевые закупки. Свои частные библиотеки предоставили
многие князья и просто богатые лютеране. В остальном поиск материала был затруднен.
Римские монастыри и епископские библиотеки пускали к себе с трудом, не только
потому, что боялись чего-то конкретного в виде центурий, но просто из-за того, что не
очень доверяли рекомендательным письмам князей мира сего: один раз о Вагнере
подумали, что он изучает деяния римских императоров, чтобы обнаружить указания на
древнегерманские «свободы», то есть особые привилегии германцев по отношению к
другим жителям Римской империи. При общем невысоком знании истории такие
привилегии представлялись как вполне вероятные, а значит, могущие составить повод для
конфликта с римской Курией, к тому же конфликта, основанного на документе.
Естественной реакцией в этой обстановке было, естественно, не допустить хитрого
ученого мужа к документам. Подозрительность некоторых ответственных за хранение
книжных и архивных ценностей церковных иерархов, а также общее отсутствие
выраженной церковной позиции по отношению к такого рода деятельности привели к
тому, что центуриаторы оказались лишенными некоторой существенной части
теоретически доступных тогда архивных документов. Если самые распространенные
папские документы – буллы, постановления Соборов, решения Трибунала и т. д. были
доступны повсеместно, то некоторые другие, менее доступные, скрывались за замками
монастырских ворот. Рим еще не сталкивался с возможностью идеологической диверсии с
опорой
на
исторические
источники,
поэтому
никто
не
разрабатывал
меры
противодействия и не стремился регулировать доступ к информации.
Постепенно Флаций подобрал и других сборщиков материала, и работа пошла
веселее. Уже в 1557 г., то есть всего 4 года спустя после начала сбора и составления
первых планов, Флаций писал Вагнеру, что теперь следует ограничить поиск материалами
об эпохе, последовавшей за 1000 г.: о первом тысячелетии христианства материала уже
достаточно. Справедливости ради скажем, что этого материала было больше и, так
сказать, в открытом доступе – ведь и Писание, и вся огромная патристика, и работы
Учителей, и постановления Соборов касались именно этой более древней эпохи. Тем не
менее, указание Флация было выполнено пунктуально: 12 и 13 тома «Центурий» (в
меньшей мере – и 11 том) носят отпечаток избытка материала, найденного после 1557 г.
Вопрос о материальном обеспечении проекта с самого начала стоял остро. При
составлении первых планов работы Флаций рассчитывал, что какой-нибудь светский
государь отложит на этот проект часть доходов с церковного имущества в своих
владениях. Однако в 1566 г. (когда вышло уже 9 томов!) Флаций жаловался, что ни один
из князей, ни один город, кроме Линдау (за что этот город позднее, в 11 томе, был
168
удостоен посвящения ему целой отдельной центурии), до сих пор не сделал ни одного
взноса на проект. Король Дании, правда, обещал отчислять ежегодно по 200 гульденов, но
обещания не выполнил. Средства удавалось раздобыть только от частных лиц – они чаще
всего упомянуты в посвящениях. Считалось, что относительно удачным был сбор средств
в городе Регенсбурге, но абсолютные цифры все равно вызывали уныние334. Вагнер
путешествовал главным образом на средства Нидбрука. Один из лидеров проекта Виганд
работал бесплатно и даже сам вносил пожертвования. Денег не хватало, приходилось
напрягаться и зачастую работать в долг. Имеются свидетельства, что простым работникам
вообще задерживали плату335.
Одной из причин слабого финансирования следует считать конфликт, поссоривший
Флация с Меланхтоном и его ближайшими последователями. Флаций в 1558 г. переехал в
Йену, где стал профессором кафедры новозаветной теологии. В эти годы между Флацием
и Меланхтоном (оставшимся в Виттенберге) велась оживленная полемика вокруг
адиафоры, а также по целому ряду других богословских поводов: ситуация была подчас
довольно накаленной. Тем не менее, Флаций продолжал эффективно руководить начатым
историческим проектом. Поначалу, когда Флацию только было поручено создание
авторского коллектива, желающих было так много, что многие кандидатуры приходилось
отклонять. Легко находилась замена и тем, кто по каким-то причинам не справлялся с
возложенными задачами. Однажды за нерадивость и пьянство был уволен один из
сотрудников коллектива, некий Теодорих Атропей фон Цволь. Затаив обиду, он поехал в
Виттенберг
и
там
нажаловался
Меланхтону,
что
в
Магдебурге
собрались-де
злоумышленники, которые под видом работы над историческим сочинением против
папистов готовят массированное опровержение тезисов Меланхтона и вообще невиданной
силы удар по адиафористам. Меланхтон в некоторые его товарищи позволили себе
некоторые упреждающие выпады против готовящихся Центурий, причем нанесли их не
напрямую, а чужими руками. Помимо прочего, это поставило в известность о подготовке
такой книги и явного врага – римскую Курию. Были пущены в ход обвинения в
присваивании авторами «немецкого золота» и всяких прочих махинациях.
Разгорелся скандал. Некоторые «молодые ученики Меланхтона» взялись рьяно
отстаивать его доброе имя, но вместо того, чтобы представить какие-нибудь
доказательства, стали поднимать на смех сотрудников. Между лютеранскими лидерами
поселилась подозрительность, которая нанесла движению значительный вред. Обвинения
334
В 1557 году там было собрано 100 гульденов. Эта сумма больше, чем могло бы показаться (годовой оклад
Флация как профессора университета в Йене составлял 300 гульденов), но, конечно, для такого затратного
проекта совершенно недостаточна.
335
Preger W. Op. cit. Bd. 2. S. 429.
169
в краже (денег, манускриптов, выкупленных для проекта книг) некоторое время
продолжались даже после смерти Флация и были с энтузиазмом подхвачены первыми
профессиональными «опровергателями» из католического лагеря. Окончательно доброе
имя Флация было очищено от жестоких обвинений лишь в XIX в.336.
Эта грязная история нанесла проекту большой вред, который заключался главным
образом в снижении его привлекательности для возможных спонсоров. Чтобы
минимизировать нанесенный ущерб, проект было решено рассекретить. В 1558 г. была
выпущена замечательная брошюра, в деталях описывающая работу авторского коллектива
– своего рода «открытое письмо» ко всем лютеранам337. Из нее мы знаем, как происходила
подготовка этого труда и какие слухи вокруг работы «мужей из Магдебурга» доставляли
им особое неудобство. Особо отметим, что данная брошюра представляет не этапы
складывания коллектива и даже не сколько-нибудь длительно существовавшую
структуру, а ее «временной срез» 1557-1558 гг., то есть того этапа, когда этот коллектив
достиг максимальной эффективности. Эта эффективность проявит себя в частоте выхода
первых томов «Церковной истории», отличавшихся четкой взаимосвязанностью,
всеохватностью материала, строгой выдержанностью в соответствии с замыслом.
Итак, штатный коллектив авторов (Collegium gubernatorum et operariorum) в финале
подготовительного этапа составлял 15 человек – 5 руководителей (gubernatores, или
inspectores) и 10 исполнителей (operarii historici, или studiosi). Руководителями были сам
Флаций, магдебургский консул Эбелинг Алеман, доктор медицины Мартин Кѐппе,
священник знаменитой магдебургской церкви св. Ульриха Иоганн Виганд и диакон той же
церкви Маттеус Юдекс. Непосредственно историческими исследованиями эти люди не
занимались – их обязанности были скорее административного характера. «Инспекторы»
председательствовали на заседаниях авторского коллектива, нанимали новых работников
и определяли их сферы ответственности, осуществляли общее руководство и составляли
воедино части текста, выполняя, таким образом, функции своеобразного главного
редактора коллективного труда. Именно их именами будут подписаны тексты
«Посвящений», предпосланных каждому тому. Один из них был казначеем и выплачивал
сотрудникам их гонорар (вероятно, Алеман или Копус, которые в одном из писем Флация
названы quaestores)338. Историческая эрудиция была далеко не главным критерием при
336
См. Preger W. Op. cit. Bd. 2. S. 430.
De ecclesiastica historia: quae Magdeburgi contexitur, narratio, contra Menium et Scholasticorum
Wittebergensium epistolas a gubernatoribus et operariis ejus historiae edita Magdeburgi. Cum responsione
Scholasticorum Witebergensium ad eandem. Witebergae, 1558. 26 л.
338
Вероятно, личность кассира держали в секрете, чтобы не спровоцировать криминальных последствий.
Центуриаторы поддерживали официальную точку зрения, согласно которой всю ответственность как за
337
170
подборе кандидатур пятерых руководителей. Прежде всего, при подборе «инспекторов»
Флаций руководствовался их «твердой верой» и чистоплотностью в денежных делах – они
были материально ответственными лицами. Степень их воздействия на концепцию, тем не
менее, была колоссальной, и дело было не только в том, что они определяли структуру
труда и «проходили напильником» (sub lima) готовый текст. Именно они сообщали всему
проекту мощный антикатолический заряд, ведя коллектив в нужном идеологическом
направлении339.
Первой задачей по обработке материала была подготовка первичных выписок
(loci). Имена большинства studiosi на начальном этапе работы нам известны: Амброзий
Хидфельд, Давид Цицелер, Каспар Леулункулус, Вильгельм Раденсис, Николай
Боймюллер, Бернгард Нигер, Петер Шродер. Эти мужи либо сами путешествовали по
книгохранилищам, либо исследовали тексты, которые для них добывали самыми
разнообразными
способами
их
оставшиеся
для
нас
безымянными
коллеги.
«Исследователи» были основной рабочей силой проекта; по замыслу руководителей, эти
люди должны были отличаться
«образованностью и средней способностью к
рассуждению» (doctrina et iudicio mediocri praeditos). Каждому из них инспектора
назначали группу источников («списки авторов»), которые они должны были аккуратно
конспектировать, двигаясь в историческом континууме от столетия к столетию. Эта
работа не воспринималась как особенно творческая: «исследователей» неоднократно
сравнивали с «прилежными и трудолюбивыми пчелками»340, которые летают с цветка на
цветок и собирают нектар. Они проделали колоссальный объем работы, но нигде при
описании авторского коллектива мы не встречаем высоких оценок их труда. Одной из
причин может быть особенное понимание труда историка:прилежание и трудолюбие еще
воспринимались как второстепенные профессиональные качества.
Работа «исследователей» передавалась в руки двух «архитекторов» (в брошюре
1558 г. они именуются Magistri) - Базилия Фабера и Панкратия Фельдпока.
«Архитекторы» были истинным стержнем проекта. Они должны были отличаться не
только выдающейся ученостью и «справедливостью суждений», но и возрастом (aetate,
doctrina et rectitudine iudicii praestantibus), то есть, видимо, авторитетом в глазах
гонорары, так и за возмещение дорожных расходов, покупку книг и рукописей и т. д. нес сам Флаций. См.
De ecclesiastica historia … P. Aiiii-B.
339
На крупной выставке, устроенной в 2005 году в Мюнхене обществом “Monumenta Germaniae Historica”,
Иоганн Виганд был вообще назван «главным автором Магдебургских Центурий»; при всей поверхностной
категоричности этого утверждения оно, несомненно, имеет некоторый резон. Hartmann M., Mentzel-Reuters
A. Die “Magdeburger Centurien” und die Anfänge der quellenbezogenen Geschichtsforschung. München,
Monumenta Germaniae Historica, 2005. S. 25.
340
Например, “sedulae ac industriae apiculae ex variis locis ac floribus convexerunt...” (De ecclesiastica historia …
P. B). “quasi apiculae quaedam” (EH I. Praefatio. P. B2). См. также Лебедев А. П. Цит. соч. C. 210.
171
«исследователей». «Архитекторы» не только контролировали работу «исследователей»;
они перерабатывали полученный материал, в некоторых случаях требуя расширения
информационной базы. Кроме того, они отвечали за экспозицию материала, отбирали
достойное помещения в окончательный текст, следили за связностью изложения.
Основной их задачей было расположить поступивший к ним в виде «единиц информации»
материал строго по заранее установленным главам и разделам тома. Отметим, что один из
Magistri, а именно Фабер, подписывал «посвятительные письма» в начале каждой
Центурии наравне с «инспекторами». «Инспекторы», в свою очередь, просматривали
работу обоих «архитекторов» и иногда сами принимали участие в переработке. Для
переписывания готового текста набело был даже специальный переписчик; удивительно,
что он был один. Вероятно, его звали Конрад Агриус.
После долгих исканий была определена единая схема, в соответствии с которой
века христианской истории описывались один за другим. Ни одна из созданных
предшественниками моделей не годилась: описывая в основном деяния отдельных
личностей, они практически не касались других сюжетов, которые, по мнению авторов
«Центурий», и составляли суть исторического процесса. Проект, в котором внимание
уделялось бы таким факторам исторического процесса, как эволюция церковного
церемониала, доктринальных споров или системы управления церковью, был назван его
авторами
«историей
(наи)более
убедительной
и
полной»341.
Центуриаторы
сформулировали 16 основных проблем церковной истории, сообразно которым каждое
столетие получало 16-частное описание. Анализ структуры труда и общей концепции
«Центурий» – это тема отдельного исследования; отметим, что историческое знание еще
не имело примеров такого систематического подхода, к тому же так тщательно
исполненного.
Многотомное сочинение Флация и его товарищей вызвало бурную реакцию
католического лагеря, способствовало не только повсеместному привлечению истории в
качестве фактологического фундамента для идеологической борьбы, но и выходу
дискуссии на более высокий профессиональный уровень. Благодаря этому сочинению
лютеранство фактически конституировалось в полноправную церковную доктрину,
снабженную теперь таким важным атрибутом, как собственная всемирно-историческая
концепция.
Функции отдельных членов авторского коллектива были чѐтко разграничены342.
Важнейшим элементом организации работ такого масштаба стала организация
341
342
“Historia nervosior et plenior”. De ecclesiastica historia … P. A2.
Подробнее о составе и функциях авторского коллектива см. Scheible H. Die Entstehung … cit.
172
финансирования и распределения средств. Первый исследователь «Центурий» Каспар
Уленберг отметил, что с самого начала заботой Флация и его коллег было собрать деньги,
причѐм весьма красноречиво сравнил поиск средств с процессом подготовки к войне343.
По мере распространения информации о проекте верующие стали предлагать книги и
деньги. Один из членов авторского коллектива стал выполнять функции казначея 344. Его
личность по понятным причинам не афишировалась; скорее всего, это были Алеман или
Кѐппе, которых Флаций в своих письмах Нидбруку несколько раз назвал латинским
словом questor.
Первоначальный план работы сложился в ходе бесед и переписки Нидбрука, Ланге
и Флация к концу 1553 года. В организационном отношении были приняты важнейшие
решения. Мобильность интеллектуалов в той или иной степени была свойственна многим
европейским
национальным
культурам,
особенно
в
результате
утверждения
гуманистических ценностей, но нигде, пожалуй, она не была такой, как в Германии.
Яркий пример: место работы над проектом, требующим привлечения целого ряда
специалистов, определяется в общении трѐх интеллектуалов. На заключительном этапе
обсуждения городов-кандидатов осталось два – Виттенберг (где, как считал Ланге, может
оказаться
полезной
близость
людей
круга
Меланхтона,
составлявших
костяк
интеллектуального потенциала протестантской партии) и Магдебург (преимуществом
которого было благорасположение городских властей, отсутствие – при демократических
порядках – ярко выраженного политического лидера со своими предпочтениями,
симпатиями и антипатиями). Окончательный выбор был сделан в пользу Магдебурга.
Печатать
книгу
в
Магдебурге,
однако,
не
стали.
Мартина
Хартманн
предположила345, что причины могут быть самыми разными, например, опасение, что и в
Магдебурге скоро можно будет издавать только то, что соответствует Интериму, или же
уверенность, что в городе нет достаточно мощной по производительности и по
подготовленности кадров типографии. Вероятнее, однако, что магдебургские издатели не
343
Латинский текст Уленберга (Historia de vita, moribus, rebus gestis ac denique morte praedicantium
lutheranorum, D. M. Lutheri, Ph. Melanchthonis, Matthiae Flacii Illyrici, Georgi Majoris et Andreae Osiandri)
вышел в Кѐльне в 1622 году. В настоящей работе использовано немецкое издание Ulenberg C. Geschichte der
lutherischen Reformatoren. Bd. 2, Mainz, 1837, S. 321. “Ihre erste Sorge also war, unter Leuten von lutherischem
Bekenntniss das Geld zusammen zu bringen, das sie bei diesem Geschäft, wie bei dem Kriege, als den Hauptnerv
ansahen“.
344
См. об этом De ecclesiastica historia: quae Magdeburgi contexitur, narratio … Witebergae, 1558. См. также EH
I. Praefatio. P. B2s, а также Лебедев А.П. Цит. соч. С. 210.
345
См. Die Magdeburger Centurien. Dößel, Janos Stekovics, 2007. Bd. 1. Die Kirchengeschichtsschreibung des
Flacius Illyricus (далее – MC 1). S. 66.
173
взялись за рискованное дело, а базельский издатель Опорин346, имевший обширные связи
в гуманистических кругах, рассчитывал справиться с этим дорогостоящим, но очень
амбициозным проектом. Читающая Европа хорошо его знала: например, он первым
посмел издать латинский перевод Корана. Его издательство выпустило более 700 книг,
значительную часть которых представляли собой издания текстов классической древности
или религиозного характера. Опорин был поставщиком книг для центуриаторов: он
заказывал их из Парижа и Кѐльна и пересылал центуриаторам в счет гонорара.
Важным обстоятельством в пользу Магдебурга было то, что двое из лидеров
проекта несколько лет работали в главной городской церкви – церкви св. Ульриха347
(Виганд с 1553 года и Юдекс с 1554). Возможно, их проживание в городе и высокое
положение в протестантской иерархии рассматривалось как возможность сократить
денежные расходы на проект: вопросы экономии, ставшие по мере развития проекта его
основной трудностью, ощущались в переписке главных его идеологов с самого начала.
Некоторым живущим в других городах ведущим членам авторского коллектива (в
частности, Базилию Фаберу) для облегчения коллегиальной работы пришлось переезжать
в Магдебург. Указание Магдебурга на обложке имело не только чисто географическое
смысловое наполнение: оно свидетельствовало как о лютеранских убеждениях авторов,
так и об их политической независимости от «князей мира сего», а также о
дистанцированности от умеренного течения, отождествлявшегося с Меланхтоном и его
единомышленниками-виттенбергцами. По этой причине указание на город него в
титульном листе ещѐ некоторое время сохранялось после того, как все разъехались.
Переписчиков и прочих «пролетариев умственного труда» искали уже, разумеется, на
местах. Из семерых так называемых Studiosi (молодых исследователей, задачей которых
была подготовка выписок из прорабатываемых текстов) пятеро были уроженцами
Магдебурга; правда, все семеро примерно в одно время учились в Виттенбергском
университете.
Первоначальные планы финансирования включали в себя выделение средств на
четырѐх главных исполнителей проекта. В самом начале Флаций и Нидбрук считали, что
столько
специалистов
будет
достаточно.
Необходимость
привлечения
других
исполнителей была очевидной с самого начала, но оплата их услуг планировалась из
личных средств специалистов, что было распространѐнной практикой.
346
Как и Меланхтон, Опорин поменял свою оригинальную фамилию Хербстер на греческий аналог, по
гуманистической традиции.
347
Церковь св. Ульриха сыграла исключительную роль в культурной истории Магдебурга вплоть до
сравнительно недавнего времени (она серьѐзно пострадала в ходе Второй мировой войны, а еѐ остов был
варварски уничтожен властями ГДР в 1956 году). О ней см. Köppe T. Die Magdeburger Ulrichskirche.
Geschichte. Gegenwart. Zukunft. Imhof, Petersberg, 2011. 208 c.
174
Общая сумма оплаты труда специалистов была определена в 500 гульденов в год.
Это не мало и не много348: заработная плата самого Флация в должности
университетского профессора в бытность его в Виттенберге составляла 300 гульденов349.
Хайнц Шайбле уверял, что сумма в 500 гульденов очень невелика, однако приводимые им
аргументы выглядят не очень убедительно. Так, запрошенное в 1544 году годовое
жалованье для крупного германского историка Слейдана в 300 гульденов (плюс 100 на
экстренные нужды) соответствовало заработку Флация в университете. Кроме того, тот
факт, что Слейдан получил лишь 250 гульденов, мало что означает. Во-первых, на эти
деньги можно было совершенно безбедно существовать, а во-вторых, будем помнить, что
личности уровня Слейдана или Флация «стоили» значительно больше, чем рядовые
работники350. Флаций даже прикидывал351 предварительную смету расходов на персонал:
руководитель проекта должен был получать 150-200 гульденов в год, два его сотрудника
по 100 гульденов, а переписчик – 50 гульденов в год. О порядке этих сумм может
свидетельствовать, например, тот факт, что 10 гульденов могло хватить на краткосрочную
«научную командировку» в Париж352. В письме к Нидбруку, относящемуся как раз ко
времени подготовки цитируемого текста (ноябрь 1553 г.), Флаций указывал: для
переписывания материалов по первым столетиям планировалось нанять на год двух
работников, потратив на это 200 гульденов353. Резонно предположить, что, в отличие от
Флация, эти работники должны были существовать только на приведѐнную выше сумму.
Скорее всего, именно эта цифра показывает нам реальный «прожиточный минимум» в
середине XVI века в немецком протестантском университетском городе среднего размера.
Где взять эти 500 гульденов? Очевидно, на начальном этапе у спонсоров. Права на
прибыль от продажи книги принадлежали издателю Опорину. Среди первых спонсоров
должны были оказаться Отто Генрих и саксонский курфюрст Иоганн Фридрих.
348
Хайнц Шайбле (Scheible H. Die Entstehung… cit., S. 23) считал, что эта сумма рассчитана «с
исключительной экономией», но приводимые им доводы (сравнение с окладом Слейдана) не вполне
убедительны: Флаций на университетском поприще получал даже больше Слейдана, а выплаты за участие в
«Центуриях» не рассматривались в качестве основного источника средств.
349
Правда, с существенной оговоркой: дрова на зиму доставлялись бесплатно. См. Preger W. Op. cit. Bd. 2
(1861), S. 429.
350
К слову, сумма в 300 гульденов оговаривалась из расчѐта, что Слейдан будет из своего кармана
содержать переписчика (своего рода «расходы на машинистку»). См. Baumgarten H. Über Sleidans Leben und
Briefwechsel. 1878, S. 68. Получается, что, сократив Слейдану содержание до 250 гульденов, на самом деле
сэкономили на переписчике, которому теперь доставалось лишь 50. С другой стороны, и Флаций отводил
переписчику столько же.
351
Рукописная Consultatio de conscribenda accurata et erudita historia ecclesiae, in qua potissimum doctrinae ac
religionis forma, quo tempore ac loco qualis fuerit, diligenter exponetur. См. Scheible H. Die Entstehung … S. 24.
352
Bibl V. Der Briefwechsel zwischen Flacius und Nidbruck. In: Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des
Protestantismus in Österreich. Wien. XVII. Jahrgang (1896), S. 4, XX. Jahrgang (1899), S. 97.
353
Ibidem. S. 13-20.
175
Самого себя в число оплачиваемых в рамках проекта сотрудников Флаций не
вносил, будучи уверен, что ему хватит его университетского жалования. Во-первых, это
обстоятельство свидетельствует об отсутствии даже малейших поползновений авторов
проекта нажиться за счѐт него; во-вторых, это означало, помимо прочего, что перегружать
себя черновой работой в рамках проекта Флаций не намеревался. Это положение
подтверждается различными источниками. В частности, в письмах Нидбруку Флаций
пишет, что единственная работа, которая могла соответствовать его уровню и авторитету
– составление окончательной версии текста – была ему недоступной, поскольку он не
владел в достаточной степени латинской стилистикой. Конечно, настоящей причиной
была
занятость
Флация
другими
формами
идеологической
борьбы
против
меланхтонистов, римской Курии и некоторых других врагов. На позицию «ответственного
за стилистику» Нидбрук в ответ на сетования Флация рекомендовал директора
магдебургской школы Готшалька Преториуса. Он мог удовлетвориться гонораром в 100120 талеров. Для зачисления в авторский коллектив Преториус должен был выдержать
испытание – написать на латинском языке стилистическое упражнение в форме трактата.
Этот трактат на банальную тему (De utilitate ecclesiasticae historiae, «О пользе церковной
истории», завершѐнный 1 февраля 1554 года) полностью удовлетворил ожидания в
области изящной словесности, но – как многие другие трактаты о том, как писать историю
– был совершенно лишѐн оригинальности по существу. К слову, этот эпизод
характеризует и отношение к подобным трактатам не только историков-практиков, но и в
более широком смысле интеллектуальной элиты.
В более широком смысле слова «Центурии» не рассматривались как способ
личного обогащения тех или иных его авторов. При этом соображения самоокупаемости,
соответствия расходов доходам, а на более позднем этапе – даже драматического сведения
концов с концами не исчезали из переписки организаторов, из тем их повседневного
общения. Одним словом, «Центурии» в целом были единым бизнес-проектом, но
понимался он именно как коллективное мероприятие, в рамках которого индивидуальные
денежные потоки были делом второстепенным.
Со временем выяснилось, что найм менее квалифицированных работников требует
значительно больших сумм, чем планировалось изначально. «Никто не хочет работать
бесплатно», - жаловался Флаций354. В отличие от католиков, лютеране никаким ресурсом
бесплатной рабочей силы невысокой квалификации не располагали – за всѐ надо было
платить. По мере роста авторского коллектива, распространения исследования «вширь» на
новые географические просторы росли и материальные расходы, требовавшие, в свою
354
См. Scheible H. Die Entstehung … S. 22.
176
очередь, привлечения всѐ новых средств спонсоров. Центуриаторы оказались в ловушке:
для того, чтобы стать привлекательными для новых спонсоров, они своими
исследованиями должны охватить самые обширные временные и географические
пространства, что, в свою очередь, требовало увеличения спонсорских инвестиций. В это
время «старые» спонсоры – Отто Генрих и некоторые другие – стали обнаруживать
некоторое беспокойство: деньги были вложены и, очевидно, их количество на начальном
этапе было объявлено достаточным; теперь денег требовалось больше, а никаких
особенных изменений в проекте не планировалось, и обосновать свои возросшие
материальные запросы центуриаторам было просто нечем. Они периодически упоминали
о своей бедности, о том, что не обогащаются за счѐт проекта; и без этого было понятно,
что они не обманывают своих спонсоров. Пока велась работа над первыми центуриями,
исследователи опирались в основном на хорошо известные тексты римских языческих или
раннехристианских авторов: эти тексты хорошо сохранились, часто переписывались и
были доступны не только в монастырских хранилищах, но и в книжных собраниях. По
мере продвижения в глубь средневековья источников становилось всѐ меньше, и работа
по их добыванию становилась всѐ более затратной. В то же время снизить планку было
невозможно: недостаток источников, потеря энциклопедичности не только делали издание
менее функциональным (его ценность как компендиума необходимой для идеологических
сражений информации резко снижалась), но и превращало его в лѐгкую мишень для
критиков со стороны римской Курии – людей, как правило, глубоко образованных и
широко информированных. Одним словом, денежные тиски зажали центуриаторов после
подготовки первых трѐх или четырѐх томов. Поддержать темп издания становилось всѐ
сложнее. Изыскиваются новые способы привлечения спонсоров. Меняется, как мы
видели, стратегия «Посвящений». Центуриаторы прибегают к взаимоисключающим
линиям маркетингового поведения – обращаются к великим государям и к мелким
функционерам, даже частным лицам неблагородного происхождения, не облеченным
светской властью или церковным авторитетом. Эти ходы также не смогли обеспечить
проект в необходимом размере. В 1566 году, то есть после выхода девяти Центурий, когда
большая часть проекта была уже позади, Флаций жаловался355, что ни один из монархов и
ни одна из «республик», за исключением Линдау, так и не выделили центуриаторам денег.
Король Дании (ему была посвящена первая книга первой центурии) когда-то обещал дать
200 гульденов, но обещание не выполнил. Весь финансовый груз вынесли на себе
Нидбрук, центуриаторы, а главным образом – те самые частные лица, которые были
355
Preger W. Op. cit. Bd. 2, S. 429.
177
упомянуты в «Посвящениях». Жертвовали они очень помалу, и регенсбургские 100
гульденов – лучшее тому доказательство.
В 1558 году разгорелся скандал. Люди из виттенбергского окружения Филиппа
Меланхтона обвинили Флация в воровстве - они не верили, что этот проект выполним при
отсутствии
централизованного
и
обильного финансирования. Главным оружием
«филиппистов» стал сарказм. Начавшаяся склока, которая не только насторожила и
поссорила между собой лютеран, но и проинформировала главного идеологического врага
– папство. Центуриаторы подготовили ответную публикацию (мы использовали еѐ при
описании состава авторского коллектива)356, которую подписали 14 членов авторского
коллектива. Флация среди них не было, поскольку, как сообщил Уленберг, он считал
неэтичным «самому свидетельствовать о собственной невиновности»357. Центуриаторы
форсировали подготовку первых томов, поскольку положить конец скандалу можно было
только выходом книги в печати.
Когда рукопись первого тома была готова, с еѐ помощью было решено попытаться
сплотить вокруг проекта весь протестантский мир, а не только лютеранскую его часть.
Под видом сбора экспертных мнений еѐ выслали на экспертизу (во всѐм этом
мероприятии огромную роль сыграл Нидбрук, пользовавшийся своими обширными
связями среди религиозной и богословской элиты разных стран)358. В частности,
экземпляр рукописи был отправлен Кальвину; письмо Нидбрука с этим известием
датировано 31 марта 1556 года. При общей положительной оценке работы Кальвин
отметил, что повторения сюжетов от столетия к столетию будут чрезмерно утомлять
читателя, и это оттолкнѐт его. Очевидно, женевский реформатор не понял жанрового
своеобразия и предназначения «Центурий» и принял их за обычную книгу для чтения.
Рукопись была также переправлена в Аугсбург и Нюрнберг, где была представлена
главным меценатам. Представляется обоснованной точка зрения Г.-И. Кренцке359,
согласно которой целью центуриаторов в данном случае было успокоить их относительно
распускавшихся «филиппистами» слухов. Только после этих представлений готовый текст
был секретной миссией отправлен в Базель издателю Опорину.
356
357
De ecclesiastica historia: quae Magdeburgi contexitur, narratio … Witebergae, 1558.
Ulenberg C. Op. cit., S. 324. Меланхтонианцы обвиняли Флация ещѐ и в том, что тот сказал, что родители
поступят лучше, если отправят детей в публичный дом, нежели в виттенбергский университет. Тот факт, что
люди из окружения Меланхтона, сами преподававшие в университете, печатно повторили эти слова, придал
склоке комический оттенок. См. Ibidem. S. 327.
358
Подробнее см. МС 1, S. 64.
359
Krenzke H.-J. Die Autoren der Magdeburger Centurien und ihre Verknüpfung mit dem Zeitgeschehen. In: МС 1,
S. 48.
178
«Посвящения» не были единственным средством привлечения к проекту денежных
покровителей, а также сплочения вокруг него определѐнной интеллектуальной среды.
Важную роль играло и представление дарственных экземпляров книги правителям,
администраторам и другим чиновникам, а также ведущим церковным деятелям и
лютеранским богословам. Мы знаем, что сразу по получении первого тома из типографии
центуриаторы (Копус, Алеманн, Виганд и Юдекс) вручили городской школе дарственный
экземпляр с посвящением «Церкви и Городу»360. Флация среди них не было по
прозаической причине – он уже два года жил в Регенсбурге, где тоже занимался
«продвижением» проекта.
Финансовые отношения с издателем были оформлены следующим образом.
Опорин сам продавал напечатанную книгу, покрывая тем самым понесѐнные расходы.
При этом он после выхода первого тома (три центурии) обязался выслать в Магдебург 100
экземпляров и единовременно выплатить 100 гульденов. От каждого последующего тома
он доставлял центуриаторам 50 «авторских» экземпляров и 50 гульденов. Экземпляры
представлялись спонсорам и служили для побуждения других людей жертвовать на
проект. Авторы, конечно, хотели бы получать от Опорина больше денег, но тогда проект
рисковал стать убыточным для него самого – все риски возлагались на издателя. Кстати,
именно это обстоятельство заставляло Опорина печатать книгу партиями и допечатывать
по мере реализации. По мере распространения печатной книги и роста числа типографий
(а в 1500 в Священной Римской империи их было 62) цена на книги падала, и
книгопечатание в целом становилось всѐ менее прибыльным бизнесом361.
Известно, что помощники Флация должны были собрать огромный материал в
течение очень короткого времени (при тогдашнем состоянии связи и транспорта 6 лет с
начала работы до выхода первого тома – не много). Естественно поэтому, что документы
(в частности, книги и рукописи) не только переписывались или конспектировались, но и
похищались целиком или фрагментами. Меланхтонианцы, обвиняя Флация и его людей в
незаконном обогащении, инкриминировали им не только бесконтрольное пользование
спонсорскими деньгами, но и применение их для скупки дорогих книг и манускриптов.
Если верить филиппистам, эта скупка была ещѐ одним хитроумным способом перевести
средства в личное пользование. Скупку якобы сопровождали воровство текстов и их
фрагментов, которые предприимчивые сборщики материалов просто вырезали из
попавших к ним на время книг. Широко распространялось обозначавшее этот метод
360
МС 1, S. 49. Экземпляр погиб в годы Второй Мировой войны.
Подробнее о состоянии книгопечатания см. Schottenloher K. Das alte Buch. Berlin, 1921. Idem. Buchdrucker
als neuer Berufsstand des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts. Mainz, 1935.
361
179
работы с текстами выражение culter Flacianus («флациев нож») 362. Исследование Прегера
показало, что обвинения Флация в обогащении носят преувеличенный характер 363, однако
применение для обработки документов ножниц и ножей не воспринималось в ту пору как
преступление «против информации» и даже как предосудительный поступок. Известно,
что в самом начале работы Флаций предоставил в распоряжение соавторов собственное
собрание книг и документов364. Экземпляры книг, принадлежавшие друзьям или
спонсорам, не портились (в самом деле, следов обвинений в краже или порче документов
в переписке с Нидбруком, например, нет), однако в случае проникновения в католическую
монастырскую библиотеку люди Флация, видимо, не особенно церемонились. Обвинения
в порче текстов явно не появились на пустом месте. Как показал Прегер, обвинение в
личном обогащении абсурдно: оставшуюся после смерти Флация коллекцию из 165
манускриптов герцог Генрих Юлий Брауншвейгский выкупил для своего собрания в
Вольфенбюттеле за 247,5 талеров – невелико богатство.
Тем не менее, обвинение в
предосудительном (подчѐркиваю, с нашей сегодняшней точки зрения) отношении к
документам
и
материалам
полностью
отвергать
нельзя365.
Характерное
для
средневекового мышления отсутствие восприятия временной перспективы проявляло свой
рудимент: новый документ (в виде «Центурий») не только полностью заменял старый,
использованный для написания книги, но и компенсировал его возможную утрату. Ещѐ не
было представлений об экспериментальной подтверждаемости как основном критерии
научного познания – это придѐт только в XVII веке, после трудов Декарта и особенно
Ньютона.
В 1557 году Флаций переехал в Йену. Его пригласили работать в тамошнем
университете ещѐ осенью 1556 года, но он выпросил отсрочку почти на год. Это время
потребовалось ему прежде всего для того, чтобы поставить на ноги работу над
«Центуриями»; отъезд означал его постепенное отдаление от проекта. Расстояние в 150
километров невелико, однако теперь участие Флация в еженедельных субботних
заседаниях авторского коллектива исключалось. В Йене Флаций стал профессором
Теологии Нового Завета. Его жалование составило 300 талеров в год плюс дрова на зиму
(либо денежная компенсация за них). Эта сумма рассматривалась однозначно как крупная,
и от подобного предложения от Отто Генриха, предусматривавшего переезд на
362
См., например, Nigg W. Op. cit. S. 52.
См. Preger W. Op. cit. Bd. 2, S. 430.
364
МС 1. S. 69.
365
Из всех высказывавшихся по этому поводу историков нам ближе оценка Вальтера Нигга. См. Nigg W. Op.
cit. S. 52.
363
180
профессорскую должность в Гейдельберг, Флаций отказался. В любом случае, Флаций
ещѐ долго не испытывал никаких материальных проблем.
Примерно в это же время проект покинул Готшальк Преториус. Его конфликт с
коллективом начался из-за его согласия с меланхтонианцами в вопросе о толковании
первородного греха. Вопрос этот имел принципиальный характер; к примеру,
обнаружившееся несколько ранее расхождение точек зрения Преториуса с программными
положениями, сформулированными Флацием для «Центурий», было преодолено без
скандалов и, в любом случае, без разрыва. Преториус немедленно покинул Магдебург, а в
1558 году он уже работал профессором древнееврейского языка в университете
Франкфурта-на-Одере. На замену ему подобрали магдебургского аристократа Эбелинга
Алеманна. Наконец, в конце 1557 года неожиданно умер Нидбрук; почти одновременно от
проекта отошѐл лучший из сборщиков материала Маркус Вагнер.
После этих потерь авторский коллектив некоторое время сохранял стабильность.
Только в 1560 году, уже после выхода первого тома, содержавшего три центурии, Виганд
и Юдекс были приглашены на преподавательскую работу в Йену и переехали туда. С
ними в Йену перебрались и некоторые подчинѐнные им сотрудники. При этом Виганд и
Юдекс заранее оговорили, что их преподавательская нагрузка не составит более двух
часов в неделю. Это позволило им продолжить работу над Центуриями. Уезжая, Виганд
выражал надежду366, что сумеет найти квалифицированных работников и там. Это
означает, что не все сотрудники авторского коллектива покинули Магдебург. Неожиданно
мы можем подтвердить, что найти нужных людей в Йене удалось! Х. Шайбле наткнулся
на письмо одного йенского студента о том, что он живѐт у Виганда и «поэтому у него
мало времени»367. Вероятно, он – в качестве оплаты крова – выполнял какие-то
обязанности по подготовке «Центурий».
После 4-й центурии коллектив покинул Базилий Фабер – он уехал по приглашению
возглавить школу в Кведлинбурге. Наконец, в 1561 году Юдекс, а затем – Флаций и
Виганд были высланы из Йены из-за конфликта с властями. Флаций уехал в Регенсбург.
Там он занимался более общими проблемами – организовывал Академию (рядом, в
Ингольштадте, иезуиты организовали свой университет) 368. Фактически издание 5 и 6
томов подготовили Виганд и Юдекс.
Флаций ещѐ некоторое время помогал центуриаторам, присылая обнаруженные в
многочисленных поездках книги, но эта помощь находит документальное подтверждение
366
Schaumkell E. Op. cit. S. 50.
Sillem C. H. W. Briefsammlung des Hamburger Superintendenten Joachim Westphal. 1903, S. 440. Scheible H.
Die Entstehung … S. 57.
368
МС 1. S. 50.
367
181
только до 1561 года. Виганд и Юдекс вернулись на некоторое время в Магдебург. На
обложке 6 центурии имеется указание на то, что она написана в изгнании369. Там друзья
попытались вновь устроиться на оставленные когда-то должности в церкви св. Ульриха370.
Это не удалось, но Виганд получил в 1562 году приглашение на должность
суперинтенданта в прибалтийский Висмар. Юдекс опять поехал с ним. Очевидно,
появившиеся среди подписывавших отдельные «Центурии» Хольцхютер (Хольтхутер) и
Андреас Шоппен – это люди, которых Виганд смог привлечь к работе уже в Висмаре.
Висмар стал последним центром, в котором велась интенсивная работа над
проектом. Флаций в нем уже не участвовал, хотя его подпись ставилась под всеми
центуриями вплоть до 9-й (1565). Эти подписи имели несколько формальный характер и
свидетельствовали скорее о стремлении сохранить континуитет издания. Впоследствии,
когда обозначился конфликт Флация с Вигандом, было признано более разумным
сохранить подпись одного из них, тем более, что и имя Виганда обеспечивало в
необходимой мере сохранение этого континуитета. Другой пример: Юдекс умер в мае
1564 года (в возрасте 35 лет!), но его подпись под 9-й центурией также стоит. Затем
последовала двухлетняя задержка, вызванная не только финансовыми трудностями, но и
чисто физическими: пронѐсшаяся эпидемия унесла жизни двух сборщиков материала371.
Были отмобилизованы все немногие остававшиеся под контролем Виганда ресурсы. Под
«Посвящениями» 10 и 11 центурий появляется подпись его зятя Андреаса Корвина, а в 12й – приходского священника Томаса Хольцхютера.
Центуриаторы продолжали работу, преодолевая колоссальные трудности. Все эти
годы велась сборка и спонсорских средств, и собственно исторического материала. Тома
становятся несколько менее глобальными по охвату, крупные проблемы почти
совершенно исчезают из них, уступая место скрупулѐзно подобранными единичным
событиям, россыпи фактов, подтверждающих авторскую историческую концепцию. В
конце 60-х годов проекту был нанесен удар, от которого он уже не смог оправиться:
произошѐл окончательный разрыв между Флацием и Вигандом. Ещѐ в 1560 году
разошлись мнения двух коллег относительно учения о первородном грехе. Тогда Виганд
высказал свои замечания Флацию в частной записке; спустя семь лет тот решил ответить в
печати, включив отповедь в новое издание своего знаменитого текста Clavis Scripturae
Sacrae (1567). В ответ Виганд отказался встречаться с Флацием, выступил против него в
369
In exilio per autores contexta.
Schaumkell E. Op. cit. S. 53.
371
Schaumkell E. Op. cit. S. 56.
370
182
1568 году с серией памфлетов, а также исключил сохранявшееся по традиции его имя из
подписей под «Посвящением» 13 центурии.
Как раз в 1568 году из Йены были изгнаны те, кто когда-то изгонял оттуда Виганда
– сторонники Меланхтона372. Виганд вновь получил приглашение в этот город, приехал
туда, но вновь сумел пробыть там только 5 лет, до следующей смены правительства. В
1573 году он уехал в Брауншвейг, а затем – в Кѐнигсберг, на профессорскую должность. В
мае 1575 года он стал епископом Помезании (городок на территории совр. Польши), а с
1577 – возглавил церковь Самбии (на территории совр. Калининградской области). Проект
«Центурий» постепенно зачах. 12 том вышел в 1569 году, а 13-й – только в 1574. И снова
указание на то, что том написан Вигандом, Корвином и Хольцхютером в Висмаре, не
следует понимать буквально. Виганд, конечно, и в изгнании продолжал контролировать
проект, но это становилось всѐ более затруднительно. В 1578 году из-за разногласий
вокруг «Формулы согласия» был изгнан из проекта (и из города) Хольцхютер, а занявший
вместо него вскоре место Суперинтенданта Корвин прекратил участие в проекте из-за
занятости. Виганд в одиночку продолжал работу над оставшимися 14, 15 и 16 центуриями.
По словам Шайбле, сохранившиеся в библиотеке Вольфенбюттеля рукописные фонды
содержат связные тексты только немногих отдельных разделов373. Как мы можем
заключить сегодня, Шайбле был плохо знаком с содержанием этих рукописей. Подробно
их следует анализировать в контексте целостного корпуса «Магдебургских Центурий»;
сейчас же отметим, что дошедшие до нас благодаря герцогу Юлию Брауншвейгскому и
Библиотеке герцога Августа в г. Вольфенбюттеле рукописи во всей красе демонстрируют
нам различные стадии промежуточной обработки материала, этапы работы над текстом.
Попытка написать последние тома книги практически в одиночку, без разветвлѐнного и
оплачиваемого коллектива, была героической, однако масштаб задачи слишком далеко
превосходил силы одного, даже самого упорного и подготовленного, историка.
Сохранилось письмо (не датированное) Виганда Корвину, в котором он сообщает о том,
что наследники издателя Опорина в Базеле374 недовольны предоставленным им
материалом по оставшимся центуриям и не хотят продолжать издание до его исправления.
Виганд остался совсем один, а сбор материала был ему уже не под силу. Он обратил свою
372
Обстоятельства дальнейшей тяжелой судьбы Виганда нам известны по ряду работ его дальнего
родственника Конрада Шлюссельбурга. См., напр., (Schlusselburguis C.) Oratio funebris de vita et obitu
reverendissimi viri, pietate, doctrina, humanitate et constantia praestantis D. Ioannis Wigandi, Episcopi
Pomezaniensis, in Borussia, dignissimi, de Esslesia Iesu Christi, praeclare meriti, implicata controversiarum
Ecclesiae et memorabilium temporis illius, Theologorumque praecipuorum mentione, cum expositionis serie
cohaerentium, conscripta et habita in Schola Wismariensi. Francoforti ad Moenum, 1591. P. 21ss.
373
Scheible H. Die Entstehung … S. 61.
374
Состарившийся Опорин продал типографию в 1567 году и уже на следующий год умер. На титульном
листе 12 и 13 тома издателями названы «наследники Опорина».
183
энергию на ведение богословской полемики, выпустил за время пребывания в Восточной
Пруссии десятки брошюр-памфлетов, догматических и других сочинений; конспект
Центурий был доведѐн до 1524 года, то есть костяк работы был всѐ-таки составлен. Увы,
его не удалось заполнить материалом, и весь проект был оставлен, а после смерти в 1587
году Виганда – и вовсе забыт. Хронический острый недостаток средств и отход Флация от
проекта были важными факторами, в конце концов приведшими к его прекращению;
датой полной остановки проекта следует, видимо, считать именно кончину Виганда.
Значительно позже, в начале XVIII века, предпринимались попытки дописать
Центурии, но они не были реализованы. Переиздания оказались неудачными прежде всего
с коммерческой точки зрения. Первые три тома переиздал в 1624 году в Базеле Людвиг
Луций; он убрал из текста Посвящения и Введение, а текст переделал в соответствии с
кальвинистской идеологией. Видные деятели немецкого Просвещения З. Я. Баумгартен
(1706-1757) и И. С. Землер (1725-1791) предприняли в 1757-65 годах в Нюрнберге новое
издание «Центурий», но сумели выпустить только первые пять томов в шести книгах.
Почему Флаций потерял интерес к проекту? Специалисты, в общем, едины в том,
что он утратил интерес к проекту и занялся другими вещами. В самом деле, с конца 60-х
годов Флаций вѐл борьбу против учения кальвинистов о причастии и против собратьевлютеран по вопросу о первородном грехе, а также по нескольким сюжетам меньшего
масштаба. Среди его новых занятий одно из основных мест занимала борьба против тех,
кто стремился опровергнуть Центурии, выступал против них. По мере написания и
издания «Центурий» выяснялось, что проект, планировавшийся как памятник Истине в
лютеровском смысле слова, оказался в первую очередь прекрасным подспорьем для
идеологических баталий. Научная фундированность постепенно утрачивала свой смысл,
становилась слишком дорогостоящей роскошью. За годы выхода Центурий в свет
выяснилось, что не только примирение невозможно: невозможен и простой компромисс,
даже временный. Борьба Флация против Интеримов вылилась в нечто более
фундаментальное – в битву за непримиримость, за отказ от уступок. Флаций потерял в 70е годы интерес к Центуриям потому, что проект утратил практический смысл: в качестве
яблока раздора он уже выступил, и оставшиеся тома ничего не могли бы добавить.
Ситуация определилась, интеллектуалы заняли свои места в сражающихся лагерях. Новые
центурии уже не могли бы в ещѐ большей мере укрепить уверенность лютеран (особенно
«непримиримых») в своей правоте, немецкие государи также по большей части
определились. На первый план вышли проблемы более политического свойства; кроме
того, обострилось противостояние с власть предержащими. Они, ex officio более склонные
к компромиссам, не могли разделить решимости гнесиолютеран, и влияние Флация на
184
умы (особенно интеллектуальной элиты, чиновничества, а главное – самих государей)
постепенно снижалось. Кстати, это подтверждают и трудности, с которыми центуриаторы
столкнулись в поиске новых спонсоров. Проект сыграл свою роль, и дальнейшее его
развитие (даже простой выпуск оставшихся томов) влекло за собой расходы, но не могло
принести ощутимых дивидендов. По этой причине проект застопорился, а со смертью
Виганда и вовсе угас. Характерно, что и в начале XVIII века завершить его не удалось. За
век с четвертью наука сделала большой шаг вперед, и возводить новую надстройку на
базисе флациевых «Центурий» было уже неразумно – это идеологическое здание могло
рухнуть от первого удара критики. Проект можно было бы завершить, только полностью
переделав всю работу по первым 13 столетиям, а этот труд требовал не только энтузиазма
многих достаточно подготовленных к такой работе специалистов, но и колоссальных
материальных ресурсов, которых никакая церковь, кроме римской, просто не могла себе
позволить.
Анализ финансовой составляющей проекта показал удивительное отсутствие в
событиях какой бы то ни было «этики капитализма», хотя, казалось бы, именно лидеры
Реформации должны были бы всячески подтверждать истины «протестантской трудовой
этики». «Этос Бенджамина Франклина» никак себя не проявлял: масштабный проект,
требовавший огромных средств, вовлѐкший в качестве авторов, их помощников,
спонсоров, типографов, переплѐтчиков, библиотекарей и так далее сотни людей, не
обогатил ни одного из них. Напротив, проект планировался как расходный с самого
начала, и даже торговля экземплярами была далеко за пределами полномочий и
обязанностей организаторов проекта и авторов. Из-за недостатка средств проект остался
незаконченным; невозможность для его авторов заинтересовать возможных спонсоров
прибылью – это не их неспособность, а отсутствие в языке той эпохи понятий, на которые
можно было бы опереться.
Исключительный интерес вызывает факт, до сих пор не обсуждавшийся
историками: все руководители проекта, реализованного в «Магдебургских центуриях», люди книжной культуры, в той или иной степени реализовавшие карьеру в университете
или в других образовательных учреждениях. Только Виганд был священником и стал
чиновником, но и он, как и его товарищ по скитаниям Юдекс, побыл некоторое время на
преподавательской работе. Случайно ли это? Как мы знаем, историческое знание
итальянского гуманизма не было институционально связано с университетской средой375:
сравнительно немногие историки-гуманисты профессионально занимались образованием
375
См. об этом, в частности, И.Е. Андронов. Формирование национальной историографии в Неаполе эпохи
Возрождения. Средние века, 72(1-2): 2011. C. 130-152.
185
и в других странах. Дело в том, что рост количества учѐных специальностей, нашедших
приют под крышей университетов, сдерживался ограниченным количеством факультетов.
Чаще всего их было три, и в рамках классических маршрутов подготовки юристов, врачей
и богословов формировались зародыши естественных и гуманитарных наук нашего
времени. При необходимой поправке на германские реалии рискнѐм предположить, что
мы присутствуем при институционализации исторической науки. На данном этапе
историки находят себе место в роли преподавателей логики (особенно Аристотелевой),
древних языков, красноречия. Вспомним, что вторая половина XVI века – это время
ускоренного
развития
хронологии376
и
некоторых
других
«вспомогательных»
исторических дисциплин. История пускает корни в университетах, причѐм участвуют в
этом не авторы отвлечѐнных трактатов «о пользе истории», а лучшие из практикующих
исследователей.
Можно ли сказать, что проект «Магдебургских Центурий» не выдержал испытание
практикой? Конечно, с формальной точки зрения издание не было завершено, а
неоднородность вышедших томов (в отношении масштабности рассмотренных проблем)
довольно заметна. При этом, книга разошлась довольно широко, а произведѐнный ею
идеологический эффект превзошѐл все ожидания. Фундированность, скрупулѐзность в
подборе и систематизации материала, на которую делали основную ставку идеологи и
авторы «Центурий», стала и основным препятствием в использовании книги. Она не
имела рыночного успеха, а поиск спонсоров стал очень трудоѐмким занятием. Авторский
коллектив оказался довольно хрупким организмом; при том, что при подборе его членов
особое внимание уделялось соответствию между собой личных амбиций, со временем
идеальная пропорция разладилась. Конечно,конфликт Виганда с Флацием в 50-е годы
был немыслим. Только позже, когда Виганд приобрѐл гораздо больший вес в среде
лютеранских теологов, его выступление против Флация могло быть и было услышано.
Занятость центуриаторов другими сюжетами сумела стать почвой для конфликта, который
пришѐл в проект «Центурий» извне и разрушил его. Уже первый опыт коллективного
исторического труда показал, что наряду с соблюдением пропорциональности личных
амбиций отдельных участников необходимо также выдерживать темпы издания и вообще
не затягивать его. Возможность для участников проекта уделять внимание другим
поприщам порождала дополнительные трудности: подтверждением тому может служить и
376
Хронология отталкивалась от необходимости датировки библейских древностей и структурно долгое
время относилась к богословским наукам. Мощный толчок она получила как раз в ходе
межконфессионального конфликта, начатого «Магдебургскими центуриями».
186
конфликт Юдекса с йенскими властями, из-за которого троим лидерам проекта пришлось
разъехаться, и ссора Флация с Вигандом, и замедление публикации на последнем этапе.
Тем не менее, «Центурии» составили новую ступень в процессе формирования
истории как науки. Именно немецкие учѐные не только выдвинули на первый план
письменный документ как главный источник информации (что было особенно важным и
новым в области истории христианской церкви), но и попытались преодолеть
всевозможные «предрассудки» в масштабе всемирной истории, а также не виданным
ранее образом «разъять», выражаясь словами пушкинского Сальери, исторический
процесс на бесчисленное множество составляющих его фактов. Подвигу «учѐных мужей
из города Магдебурга» отдали должное даже противники: недаром каждый из авторовкатоликов стремился превзойти именно «Центурии», опровергнуть именно их, предложив
более тщательные методы исследования, более широкий источниковедческий кругозор,
большую общегуманитарную эрудицию. Началась эпоха многотомных сочинений,
охватывающих огромные географические и хронологические пространства; она привела к
расцвету «эрудитского» жанра в конце XVII-XVIII веках, к формированию высокого
профессионального стандарта, от которого, в свою очередь, отталкивались его критики –
историки Века Просвещения. Организационная составляющая этого сложного процесса
профессионализации истории – один из важнейших элементов историописания,
проливающий свет на будни наших коллег-историков в те времена.
187
§3. «Каталог свидетелей истины»
Главной и довольно объемной работой Флация, написанной в ходе подготовки
первого тома «Центурий», стал «Каталог свидетелей истины» (1556)377 – развернутый
перечень авторов, в сочинениях которых можно было обнаружить расхождения с
официальной католической доктриной, особенно в части преемственности развития
церкви от эпохи Христа до начала XVI в. Считается, что «Каталог» был написан как
своего рода источниковедческий справочник для «Центурий»378; на самом деле этот текст
имеет самостоятельное значение
и заслуживает особого исследования. В полемике
против католиков ему отводилась особая роль, которая не была исчерпана после
обнародования исторической концепции «Центурий»379. Труд Флация был целиком
посвящѐн доказательству истинности знаменитого ветхозаветного пророчества (3 Книга
Царств, 19:18) «Впрочем, я оставил между Израильтянами семь тысяч мужей; всех их
колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его»380. В поиске опоры
в прошлом ранняя Реформация находит в этих праведниках своих предшественников.
Теперь Флацию следовало обнаружить их и представить как непрерывную линию. Если
Реформация стоит на тех же позициях, что и эти праведники, то она является
продолжением этой линии, реализующейся как Промысл Божий (через слова Бога,
сказанные Илие), а противники еѐ логически неопровержимо оказываются в лагере
Ваала381.
Праведников должно быть много, ибо количество – важнейшее доказательство
правоты. Реформация отстаивает истину, поскольку всегда большое число праведников
демонстрирует истинность еѐ основных богословских ориентиров; еѐ массовость
расценивалась Флацием как важнейшее свидетельство соответствия идеалам этих
праведников.
Очень важно продемонстрировать, что самое расхожее обвинение реформаторов с
католической стороны – в «новаторстве» - лишено оснований. Тезис о невидимой
Истинной церкви был актуален и для Лютера, однако Лютер рассматривал его
377
Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, opus varia rerum, hoc praesertim
tempore scitu dignissimarum, cognitione refertum ... Basileae, Oporinus, 1556.
378
Авторитетная «Оксфордская энциклопедия Реформации» сводит значение этого текста до «удобной в
использовании подборки мелких источников». H. J. Hillerbrand (ed.). The Oxford Encyclopedia of the
Reformation. 4 v. New York, Oxford, 1996. V. 2, p. 110-111.
379
Достаточно сказать, что «Каталог» был переиздан в расширенной и дополненной версии в 1562 году –
году выхода 5 и 6 центурий.
380
Scheible H. Die Entstehung … S. 16. Idem. Der Plan… S. 210; Catalogus testium veritatis, qui ante nostram
aetatem reclamarunt Papae. Basileae, 1556. P.. 48.
381
Keute H. Op. cit. S. 136-7.
188
исключительно в контексте библейских пророчеств, а Флаций занялся масштабной
реконструкцией в историческом смысле. Это позволило ему выйти за пределы богословия
и обогатить историографию впечатляющей картиной в масштабах полуторатысячелетней
истории христианской Европы, картиной, отдельные персонажи которой представляются
не мучениками, погибшими за Идею, а восторжествовавшими над Злом праведниками.
«Каталог свидетелей истины» - книга, воздающая славу, а не оплакивающая гибель.
Возможно, последнее было бы ближе лично Лютеру; как бы то ни было, в 50-е гг. XVI
века Реформация находилась уже на другом, гораздо более развитом этапе, и концепции
усложнялись и развивались. Как мы видим, в ходе этого развития лютеранская концепция
церковной истории изменилась также и в сторону исторического оптимизма, обрела
жизнеутверждающие черты.
Свои взгляды на историческую концепцию «Центурий» Флаций выразил в
подготовительном сочинении, вышедшем под названием «Каталог свидетелей истины».
Несмотря на малый формат, этот томик сыграл важнейшую роль в окончательном
оформлении концепции на всѐм временном протяжении существования христианской
Церкви.
Преемственность «Магдебургских Центурий» по отношению к этому сочинению
Флация
является
предметом
дискуссии;
некоторые
авторы382
утверждают,
что
историческая концепция «Центурий» коренным образом отличается от «Каталога», а это
значит, что последний следует рассматривать не как подготовительное сочинение, а как
полностью самостоятельный труд. Концептуальные отличия «Центурий» от «Каталога» в
этом случае рассматривается как результат взаимодействия Флация с другими ведущими
членами авторского коллектива или как следствие давления, оказанного на авторов
Меланхтоном и его единомышленниками. Некоторые другие разделяют точку зрения П.
Польмана383
насчѐт
глубокой
преемственности
между
этими
двумя
работами,
позволяющей трактовать «Каталог» как подготовительное сочинение. Выражая в целом
согласие с этими последними, мы считаем необходимым опереться на самостоятельный
анализ обоих текстов – единственное средство для вынесения окончательного вывода.
«Каталог свидетелей истины» был опубликован в 1556 году – за три года до выхода
в свет первых томов «Центурий» - в том же издательстве, в котором планировалось
издание основного труда. Очевидно, что, во всяком случае, неслучайный выбор
издательства играл свою роль в подготовке издания «Центурий», по крайней мере, с точки
382
383
Backus I. Historical Method … P. 345.
Polman P. Op.cit. P. 185.
189
зрения деталей сотрудничества с издателем, установления с ним отношений и
налаживания делового взаимодействия.
Указание на титульном листе, согласно которому перу Флация принадлежит
предисловие, имплицитно содержит претензию на «абсолютность» содержащихся в
основном тексте положений, на их справочную ценность, свободную от субъективных
утверждений. Текст «Каталога» своим внешним видом это подтверждает: приводимые
факты изложены по большей части сухо, перечислением, а даже начальная работа
историка – хронологические выкладки, анализ, простое сравнение одних текстов с
другими – отсутствует. Значит ли это, что в этом произведении отсутствует также и
историческая концепция? Конечно, нет.
Собственно текст «Каталога» разбит на отдельные главы, не связанные
содержанием друг с другом и выстроенные в приблизительный хронологический порядок.
Ни один из описывающих это сочинение более поздних историков не приводит точных
данных относительно его состава, ограничиваясь очень приблизительной цифрой «около
400 персонажей», гуляющей из издания в издание384. Мы считаем необходимым начать
анализ текста «Каталога» с точных данных.
Итак, основную массу глав – 268 – составляют сведения об отдельных
исторических личностях, по той или иной причине введѐнных в число «свидетелей
истины». Кроме того, 14 глав посвящены группам людей (например, авторам
коллективных обращений к папам или за поддержкой – к их противникам, см., например,
с. 58 и 85, а также королевским династиям или даже целым народам); два десятка глав
описывают различные церковные мероприятия (например, Соборы) и другие события
церковной истории (например, схизмы). Наконец, 44 главы посвящено текстам – от
Писания до некоторых небольших полемических сочинений конца XV века. Небольшое
число глав, расположенных главным образом в начале книги, посвящено отдельным
«Церквям» (главным образом – не принявшим главенство Рима). Некоторые посвящены
вообще не людям, а собственно фактам (например, забавное пророчество на с. 114, или
привилегия с. 211, «гражданскому праву» 66), которые даже формально нельзя считать
«свидетелями истины» в том понимании, которое было характерно для понятия testis в те
времена. Весь текст «Каталога» насчитывает 359 глав.
Написанный Флацием Иллириком «Каталог свидетелей истины» - крупное
сочинение, представляющее собой перечень праведников, сторонников истинного
христианства. Перечень начинается со св. Петра и завершается мало знакомыми
384
Например, Pohlig M. Zwischen Gelehrsamkeit und konfessioneller Identitätsstiftung. Tübingen, Mohr Siebeck,
2007. S. 312.
190
сегодняшним историкам церковными деятелями начала XVI века. Таким образом,
выстроена прямая линия «свидетелей истины», то есть не связанная преемственностью
череда борцов, а массовая группа единомышленников из различных эпох. Эта группа
своим существованием демонстрирует читателю, что во все века вокруг веры
существовала и поддерживалась «Истина», то есть представление о Церкви Христовой, не
исказившееся вследствие различного рода злодеяний и узурпаций. В свою очередь, эти
последние суть элементы единого дьявольского замысла.
Полное название книги переводится так: «Каталог свидетелей истины, которые в
прошлом возражали Папе. Сборник фактов, которые особенно важно знать в наши дни,
снабжѐнный весьма полезной и необходимой для чтения информацией. С предисловием
Матфея Флация Иллирика, в котором разъясняются смысл и применение сего труда».
Отсылка к «прошлому» призвана провести чѐткую хронологическую границу: Лютера и
его последователей в «Каталоге» нет. Собрав предшественников Лютера в одной книге,
Флаций вывел их неѐ его самого. Отсутствие Лютера среди выстроенных в более или
менее строгий хронологический ряд праведников лишь выделяет его на фоне общей
исторической картины, подчѐркивая представления автора о нѐм как об эпохальном
явлении.
Отсутствие же имени самого Флация в роли автора также весьма красноречиво. Мы
знаем, что Флаций писал свою книгу сам. Заявленное на титульном листе ограничение
собственных заслуг составлением предисловия имеет двоякую цель. Во-первых, основной
текст утрачивает персонификацию, обретая
тем самым некую надличностную
«объективность», увязанную, в свою очередь, с глобальностью сюжета. Важно было также
подчеркнуть принадлежность всех описываемых исторических персонажей к лагерю,
консолидировать который как раз призвано публикуемое сочинение. Во-вторых,
положение Флация как автора, поясняющего «смысл и применение» этого справочника,
выделяет его среди единомышленников и ставит на недосягаемую высоту.
Флаций посвятил своѐ произведение герцогам саксонским, братьям Иоганну
Фридриху II («Старшему»), Иоганну Вильгельму и Иоганну Фридриху III («Младшему»).
Выбор именно этих адресатов «Посвящения» был шагом, рассчитанным на далеко идущие
последствия.
Иоганн Фридрих Великодушный (1503-1554) до 1547 года был курфюрстом
Саксонии, однако был принуждѐн отречься от курфюршества в пользу Морица
Саксонского (представителя другой, альбертинской, ветви династии Веттинов). Ветвь
Иоганна Фридриха (эрнестинская) навсегда утратила данный титул, однако в момент
выхода в свет «Каталога свидетелей истины» (1556) перспектива была ещѐ не ясной.
191
Лишение курфюршеского достоинства было результатом Шмалькальденской войны и
инициативой императора Карла V; судьба его нововведений в атмосфере религиозного
противостояния, Интерима и Тридентского Собора представлялась в некотором тумане.
Кроме того, эрнестинская ветвь сохранила обширные территории, экономическое
могущество и аристократическое достоинство. Принадлежность к разбитому в недавней
войне лагерю (Иоганн Фридрих Старший был лидером Шмалькальденского союза) делало
его детей наиболее видными фигурами возможной консолидации антиимперских сил.
Иоганн Фридрих II, был давним покровителем Флация Иллирика, в частности, в
богословских спорах с другими последователями Лютера.
Флаций особо оговаривает, что в Каталог включаются только предтечи Лютера.
«Стремясь доказать, что всегда существовали семь тысяч праведников, не преклонивших
колени перед римским Ваалом, я подготовил не слишком пространный каталог тех, кто
ещѐ до блаженной памяти доктора Мартина осуждал либо папство в целом, либо
отдельные его заблуждения » (α4r).
Прочь всякие сомнения: Флаций сам открыто заявляет в «Посвятительном письме»,
что это издание предпринято в рамках подготовки более обширного проекта:
«Было бы необходимо и полезно, чтобы была написана эрудитская и в то же
время аккуратная история Церкви, в которой от Рождества Христова до нашего
времени как можно более подробно было изложено, какая в какую эпоху существовала
форма учения, церемоний, всей религии и Церкви, в какую эпоху и где религия была чище
или наиболее искажѐнной; какими заблуждениями, злоупотреблениями, предрассудками
и, так сказать, трутнями, туманом и людскими фокусами она затемнялась,
искривлялась или искажалась; а затем, кем она была от них вновь очищена и укреплена,
возвращена к первоначальной чистоте и сверканию»385.
Дальше
мысль
детализируется:
история
должна
будет
рассказать
и
о
человеколюбии Господнем, и о Провидении, и о грешниках и еретиках, и об Учителях
веры, и опять-таки о семи тысячах праведников. Наконец, Флаций сообщает нам важную
информацию о месте проекта «Каталога» в общей перспективе его трудов, которая
больше нигде в таком чистом виде сформулирована не была:
«Эта история должна, по идее, быть поистине в постоянном доступе, или, как
говорит
385
Фукидид,
сокровищницей,
Catalogus testium ... P. α5 r et v.
готовая
ко
всем
возможным
надобностям
192
применения: при обучении ли людей, в случае возникновения у них вопросов, для укрепления
ли их в самых больших трудностях и опасностях. В свою очередь, при приготовлении
такого труда, скорее всего, потребуется и весьма большое количество книг и (других)
произведений, в том числе и неопубликованных, могущих тем или иным способом его
расширить или проиллюстрировать. Затем, потребуются и несколько специалистов,
которые с максимальными усилиями приложат к этой задаче свои труды, чтобы из
такого множества текстов и из такого количества дерьма вымысла и ерунды (ex tanto
plane stercore mendaciorum aut nugarum) […] они прилежно выбрали бы злато и
самоцветы чистой и незапятнанной истины, собрали бы его в этот преславный труд и
упорядоченно расположили. Для обеих этих нужд, а именно для приобретения книг и
подбора подходящих людей, будут потребны немалые суммы. Я вряд ли смогу выделить
или взять еѐ взаймы; я буду призывать тех, кому это по средствам, как я делал и ранее.
Я сам займусь этим делом (да будет Иисус Христос мне в помощь); и если те, кто
может и должен, поддержат сие начинание, с Божией помощью получится что-то
вполне достойное»386.
Далее следует непосредственное обращение к государям, которым адресовано
«Посвятительное письмо». Из этого фрагмента становится совершенно очевидной главная
цель публикации «Каталога» - своего рода развѐрнутое изложение концепции будущего
большого исторического сочинения, разворачивающего концепцию истории Церкви во
всемирном масштабе и в наиболее общем виде. Таким образом, все иные концепции
предназначения «Каталога свидетелей истины» и функции этого текста в историкоцерковной полемике могут быть отброшены без сомнений.
Вторым (и явно второстепенным) элементом паратекста является «Письмо к
читателю». Его основная функция – сообщить читателю основу исторической концепции
будущего глобального исторического сочинения. «Паписты, защищѐнные, как щитом,
свидетельством Писания, вечно нашѐптывали нам такой софизм: истинная-де Церковь и
религия постоянны, а ложные церкви и религии часто по-разному изменяются и
трансформируются»387. Идеология католической церкви основывается на утверждении о
собственной древности и исконности в противовес греховным нововведениям оппонентов.
В этой логике «новое» станет синонимом «ложного», а слово «новаторы» станет в
церковно-исторической полемике ругательным, причѐм использоваться будет обеими
сторонами. Широко прибегая к ветхозаветным аллегориям, Флаций поясняет свою логику:
386
387
Ibid. P. α6v-7r.
Ibid. Epistola ad lectorem. P. α.
193
нынешняя римская церковь – не та Церковь, которую завещал роду людскому Иисус
Христос, а совершенно другой, глубоко трансформировавшийся со временем организм.
«Письмо к читателю» направлено на вполне художественное по форме развенчание идеи о
неизменности римской церкви в веках христианской истории.
«Совершенно очевидно, что приблизительно в 200 году по р. Х. древняя Церковь в
отношении религии совершенно соответствовала нашей нынешней, хотя в масштабах
она и отличалась от (церкви) наших противников. Позже, около 300 года нашей эры,
начали постепенно распространяться семена свои в лоне церкви некоторые заблуждения,
вызревшие внутри папства. Их было не так много и они были не слишком вредны вплоть
до 600 года, когда возобладала не наша религия, а та, которая соответствует
(нынешней) папистской. Тот, кто внимательно прочтѐт авторов или Отцов этой эпохи
(таких, как Иероним, Августин, Амвросий, Иларий, Иоанн Златоуст и другие), легко
обнаружит, что во многих вопросах их мнение совпадает с нашим. При этом, как это
бывает, подчас кто-то из них неосторожно перегибал палку в ответе пустым
ораторам, и наши противники тотчас искажали это вопреки намерениям автора,
действуя против нас в своих собственных интересах. При этом в их работах так много
согласного с нашим учением, что зачастую они подвергают резкой критике, высмеивают
и проклинают практически те же самые зародыши нынешних заблуждений и пороки. Я
покажу это ниже в моѐм Каталоге.
После 600 года, по мере роста папского царства, религия настолько значительно
ухудшилась, что при практически ежедневном росте ошибок и злоупотреблений в ней всѐ
меньше и меньше оставалось изначальной искренности и чистоты. Однако и после этого
Господь не отверг народа своего, как говорит Павел. Он всегда оставлял себе семь
тысяч, а то и больше, праведников, сопротивлявшихся и противодействовавших этим
разрастающимся, увеличивающимся и шагающим повсюду заблуждениям не столько
словом и пером, сколько кровью и самой жизнью. [...]
И вот из этих самых исторических свидетельств будут получены многочисленные
доказательства того, что всегда существовало немало тысяч праведников, правильно
мыслящая часть общества, которая одинаково с нами критиковала либо папство в
целом, либо отдельные его элементы. И поскольку и разрушительное время [edax
vetustas388] истощило память о многих, и Антихрист со своими приверженцами
388
Одна из характерных для «памфлетных» страниц Флация аллюзий на клише из классической литературы,
в данном случае – на хрестоматийный отрывок из «Метаморфоз» Овидия.
194
положили все силы, чтобы попрать их, теперь один Учитель [Doctor389] имеет огромное
множество учеников и слушателей»390.
Как мы видим, последовательный историзм в середине 50-х годов был Флацию ещѐ
неведом. В угоду интересам богословской полемики он возвѐл свои религиозные взгляды
в некоторый абсолют, под который «разворачивал» историю в обратную сторону.
Очевидно, пока это лишь ораторский приѐм, однако он ясно доказывает: в этот период
своей деятельности Флаций – ещѐ по преимуществу богослов, гуманист с замечательным
(как правило) латинским слогом, эрудит, но ещѐ не профессиональный историк, то есть не
исследователь, ставящий превыше всего (даже собственных мнений) постулаты своей
научной дисциплины.
Основной текст «Каталога» состоит из 356 отдельных статей разного калибра и
тематики (340 в основном тексте и 17 в «Приложении», подготовленном Флацием, пока
книга находилась в печати391; папа Григорий I встречается дважды – в основном тексте и в
«Приложении»). Считается, что «Каталог» содержит перечень и краткую характеристику
праведников
в
лютеранском
понимании,
бывших
предтечами
самого
Лютера.
Подавляющее большинство этих статей посвящены персоналиям (268), однако 88
(четверть!) имеют в заголовках названия церковных мероприятий, текстов, групп людей.
Разумеется, за каждым из них стоят конкретные люди, определѐнная часть или даже
большинство из которых могли быть также признаны «праведниками» во флацианском
понимании. Конечно, исторические события и тексты включены в текст книги как
свидетельства массовой распространѐнности описываемых мнений и явлений, однако
чисто формальная неоднородность структуры может указывать на недостаточно
скрупулѐзную научную проработку. Эта нечѐткость структуры роднит придаѐт
«Каталогу» публицистические черты, соответствующим образом корректируя наши
представления о его жанре и предназначении.
Итак, 88 статей, не посвящѐнных персоналиям, делятся следующим образом. 17 из
них описывают события церковной истории – Вселенские и Поместные соборы. Обращает
на себя внимание тот факт, что в основном отмеченные Флацием Соборы приходятся на
ранний период церковной истории. Шесть из них (Первый Никейский, Первый
389
Аллюзия на Лютера.
Catalogus testium ... Praefatio. P. α3 r - α4r.
391
Все подсчѐты сделаны не по составленному самим Флацием указателю (он, как оказалось, не вполне
точен), а при помощи электронного оглавления, сделанного коллегами из Маннгеймского университета
(Германия): URL: http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahist/autoren/flacius_hist.html (дата обращение:
15.03.2015).
390
195
Константинопольский, Милевитанский, Халкидонский, «Шестой» Карфагенский и
Турский) описаны подряд и вполне укладываются в одну линию, которую условно можно
называть «Борьба Соборов против первенства пап». Если описание происходившего на
этих Соборах более или менее соответствует нашим сегодняшним знаниям, то их
нумерация и датировка далеки от точности. Так, Карфагенский Собор, обсуждавший
проблемы после кончины папы Зосимы (418), датируется 430 годом, а Милевитанских
поместных Соборов, как мы сегодня знаем, было два. Следующий блок на эту тему
представляет Констанцский и Базельский Соборы – события, знаковые для всей ранней
лютеранской историографии. Помимо Соборов, отдельно в структуре «Каталога»
выделяются две «схизмы» (рр. 780, 863). Первая из них описывает конфликт Урбана VI и
антипапы Климента VII 1378-80 гг., ставший прологом тех событий, которые мы сегодня
называем Великой схизмой. Вторая – жаркие споры и раздоры (dissidium) при дворе
императора Фридриха II, ошибочно датированные 1255 годом и описанные (со ссылкой на
Авентина) крайне сумбурно.
Другая любопытная группа объектов «Каталога», не соответствующих отдельным
историческим личностям, - это группы людей: отдельные национальные «церкви», группы
священников, группы иерархов, еретики, представители некоторых городов и даже
народов. Встречаются и богословские школы, выступавшие в доктринальных диспутах с
позиций, впоследствии близких лютеранам. Отдельные «церкви» выделены лишь по
принципу неподчинения папству или невыполнения некоторых требований католического
вероучения. В частности, «равеннская, аквилейская и миланская» выделены за то, что на
протяжении примерно 200 лет они не подчинялись папам, и лишь около 700 года Риму
удалось их себе подчинить392; церковь Славонии – за то, что вплоть до эпохи Флация
пользовалась своим языком в богослужении и не подчинялась требованию перейти на
латынь393. «Английская» церковь была выделена потому, что, по утверждению Джона
Бойла, до вмешательства в свои дела папы Григория I и его эмиссаров она отличалась
особенной чистотой нравов. Никаких пояснений, никаких доказательств Флаций более не
приводит – мнения Бойла вполне достаточно. Избранные национальные церкви выделены
в главки почти в самом начале книги и расположены недалеко друг от друга.
Однако наиболее любопытной для нас является «греческая церковь», рассказ о
которой имеет смысл привести целиком в буквальном переводе – он прекрасно отражает
как уровень представлений о Востоке и России в позднеренессансной Европе, так и сам
способ получения информации, еѐ изложения и распространения далее.
392
393
Catalogus testium … P. 28-29.
Ibid. P. 29.
196
Греческая церковь и сопряжѐнные с ней – азиатская, македонская, мезийская,
валашская, русская, московская и африканская, то есть весь мир или уж точно намного
большая его часть – никогда не принимала по всеобщему согласию папское первенство,
никогда не одобряла идеи Чистилища, частных служб, бдений (как они говорят) по
умершим, индульгенций, причащения под одним видом, необходимости безбрачия
духовенства, поклонения статуям, и прочего подобного: но всегда противостояли этим
богохульствам, в которых и заключается едва ли не вся религия Антихриста. Это
свидетельство с очевидностью доказывает, что вышеприведѐнные идеи не являются
католическими и были неизвестны древней Церкви. И если бы они практиковались в
древней Церкви, то они не были бы неизвестны и не отсутствовали бы в греческой, через
которую христианская религия добралась до латинской и которая была еѐ наставницей в
религии. Следовательно, с самого начала существовали великие Церкви, противоречившие
Антихристу; и пусть паписты не славят понапрасну вселенский консенсус своих
богохульств. В самом деле, следует засвидетельствовать эту важнейшую истину.
Я слышал, что в Базеле есть рукопись исследований Эмерика, в котором он
перечислил эти ошибки, а лучше сказать, истины греков:
Что святым не следует поклоняться, даже Пресвятой Деве: ибо единственным
посредником является Христос.
Что только Господу мы должны исповедоваться в своих грехах.
Что наказания, накладываемые священниками Папы, достойны порицания.
Ещѐ что всякий день подходит для любого вида пищи – мяса и прочего.
Что монашеские обеты не являются благочестивыми.
Ещѐ что те, кто жертвует святым какое-либо имущество, совершает
жертвоприношение Дьяволу.
Ещѐ что почитать крест и целовать его глупо и неблагочестиво.
Что чудеса святых ложны.
Что они проклинают освящѐнную воду.
Что одинаковое значение имеет крещение речной и освящѐнной водой.
Ещѐ что папские декреты и законы не следует ни слушать, ни исполнять. Однако
я боюсь, что не всѐ из этого могло выдерживаться вплоть до наших дней, или даже в
последние столетия394.
394
Ibid. P. 13-14.
197
Неточности в тексте Флация, разумеется, не случайны: общая высокая оценка
Восточных церквей наложилась в его сознании на необходимость повторить некоторые из
протестантских тезисов, приписав их уважаемой церкви, блюдущей евангельские
традиции. Флаций был убеждѐн, что эти церкви более строго по сравнению с Римской
придерживаются евангельского закона; это означало, что она просто должна была
соответствовать приведѐнным в процитированном отрывке истинам. Так появился
любопытный и полный неточностей и некорректных обобщений абзац. Вообще такой
способ мышления и экспозиции аргументов характерен как для Флация, так и для
широкого круга его коллег-лютеран.
Отдельную
категорию
«Свидетелей
Истины»
составляют
представители
еретических течений – агапиты, бесериты (сочувствовавшие в VIII веке иконоборцу
Бесеру), вальденсы и «болгары» (богомилы)395. Излишне подчѐркивать, что эти течения
снискали высокую оценку Флация благодаря непризнанию авторитета римских пап.
Обращает на себя внимание особо подробное описание движения вальденсов. Славный
муж и влиятельный гражданин Лиона Пьер Вальдо был избран Богом, чтобы
противостоять «четырѐм столпам Антихриста» XII века – Грациану, Петру Ломбардскому,
Франциску Ассизскому и Доминику. Выступления Вальдеса и возникновение движения –
высокохудожественная
вставка,
преисполненная
драматизма
и
композиционного
совершенства. Этот пассаж настолько отличается от основного текста «Каталога»,
настолько преисполнен эмоциональной силы, что выглядит вполне самостоятельным
сочинением.
Прежде всего, описание судьбы Пьера Вальдо преисполнено художественных
достоинств.
Проводятся
прямые
аналогии
между
Вальдо
и
Лютером;
сугубо
положительная оценка действий первого переносится читателем и на второго. Таким
образом, непропорционально большое место, уделяемое в «Каталоге» этому течению,
получает простое объяснение: как в концептуальном, так и в жанровом отношении оно
заменяет собой рассказ о Лютере и его последователях. Особенно подчѐркивается то
обстоятельство, что вальденсы критиковали римскую церковь за то же, за что
впоследствии еѐ критиковал Лютер. То обстоятельство, что изначально течение
вальденсов не было направлено на конфронтацию с Римом, Флацию не нужно и поэтому
не рассматривается: наоборот, вольно или невольно он видит в этом движении главным
образом то, что сближает его с лютеранством как в идеологии, так и в практике.
В частности, это проявляется в тенденции Флация рассматривать дошедшие от
вальденсов тексты, а также в особом внимании к истории конфликта. Интересно, что
395
Соответственно Ibid. P. 36, 111, 704-761, 1067.
198
Флаций вполне осознаѐт недостаточность источников, предоставляющих информацию о
сюжете 400-летней давности. В своей реконструкции событий он делает предположения и
допуски, которые не ослабляют, а напротив, усиливают убедительность делаемых им
выводов. Флаций широко привлекает к исследованию источники противного лагеря,
направленные, как правило, против вальденсов. Стремясь воссоздать богословское
содержание этого движения, историк формулирует его в виде «статей», которые
удивительным образом напоминают как выступления Лютера, так и содержащееся выше в
«Каталоге» суммированное описание восточных церквей.
Статьи вальденсов.
1. Они твѐрдо считают, что в том, что касается Спасения, следует
верить только Священному Писанию, а кроме него – ни одному человеку или
тексту.
2. Нисколько не сомневаясь, они веруют, что Священное Писание
целиком содержит всѐ необходимое для Спасения; и в религии не следует
принимать или допускать ничего сверх того, что Господь преподал нам в
Священном Писании.
3. Они утверждают, что существует лишь один посредник, и ни из
каких соображений не следует призывать святых.
4. Они говорят, что Чистилища не существует, а все люди либо
оправданы Христом к жизни вечной, либо – неверующие – обречены на вечную
погибель, а никакого третьего или четвѐртого места нет.
5. Они принимают и одобряют лишь два таинства – Крещение и
Причащение.
6. Они утверждают, что все мессы, а в особенности те, что
служатся в пользу покойников, не богоугодны, и их вообще следует отменить.
7. Все человеческие традиции следует отбросить или просто не
считать ни в коей мере необходимыми или способствующими Спасению:
следует
отменить
пение
и
чтение
вслух
службы,
закреплѐнные
за
определѐнными днями посты, излишние праздники, различия в питании, а
также отменить различные степени и звания священнослужителей, монахов и
монахинь, различные способы благословления или посвящения тварей, обеты,
паломничества, а также массу других ритуалов и обрядов, изобретѐнных или
выдуманных людьми.
199
8. Они совершенно отвергают первенство Папы над всеми церквями, а
самое главное – его власть надо всеми государствами, или учение об обоих
мечах; они также считают, что не следует сохранять в Церкви других званий,
кроме священников, диаконов и епископов.
9. Они говорят, что богоугодно и необходимо причащение обоими
видами, поскольку это было приказано и завещано Христом.
10. Они настаивают, что римская церковь – это Вавилон, о котором
идѐт речь в Апокалипсисе, а папа – источник всех заблуждений и истинный
Антихрист.
11. Индульгенции они полностью отвергают, поскольку 400 лет назад их
не было, а точнее, они были изобретены 250 лет назад Бонифацием VIII.
12. Они
учат, что брак
священников является
богоугодным
и
необходимым для церкви.
13. Внимающие слову Господа и правильно мыслящие люди составляют
Его церковь, и ключи от церкви даны ей Христом для того, чтобы она могла и
даже должна была укрыться от волков и призвать истинных и добрых
пастырей Христовых, слушать их голос и получать от них Таинства396.
Мы увидим, насколько последовательно стремился Флаций к установлению
преемственности между противниками римской церковной доктрины из разных эпох,
насколько его общеисторическая реконструкция была подчинена единому замыслу.
Ссылка на Бонифация VIII (папу в 1294-1303 гг.), несмотря на свою неточность, позволяет
заключить, что источники Флация описывали современное ему содержание учения
вальденсов. Характерно, что в описании «статей вальденсов» нет ни слова о покаянии –
понятии, очень важном для их учения и отвергаемом как церковная практика лютеранами.
Формированию концепции покаяния и отпущения грехов будут посвящены многие
страницы «Магдебургских Центурий». Очевидно, Флаций обходит молчанием эту сторону
учения вальденсов потому, что его собственные взгляды в данном пункте существенно с
ним расходятся. Кроме того, мы должны также помнить о настроениях и мнениях
адресатов издания – «князей мира сего», на которых в условиях подготовки
«Магдебурсгких Центурий» делался особый расчѐт. Светские властители (или их
советники) не стали бы углубляться в доктринальные расхождения и охладели бы к
396
Ibid. P. 709.
200
проекту, если бы обнаружили, что симпатии автора снискало движение, не могущее
считаться до конца праведным.
Исключительно подробно, буквально по месяцам и дням, описывал Флаций
гонения на вальденсов во Франции, германских государствах, Швейцарии и Ломбардии.
Историк не только подчѐркнуто оставляет свои симпатии за вальденсами, но и - это
весьма неожиданно – подвергает осуждению действия светских властей, приведшие к
возобновлению гонений во Франции в 1545 году. Выступление историка против
законного монарха было крайне редким в историографии XVI века явлением.
Вальденсы особенно привлекали Флация своей многочисленностью. Это позволило
ему выделить их среди прочих персонажей «Каталога» как «Народ Божий», всей массой
своей следующий к вечной жизни. Занимая центральное положение в череде «свидетелей
истины», они одновременно являются и прямыми предтечами лютеран. «Я считаю, что
вероисповедание таборитов, написанное в 1431 году, глубоко соответствует нашему
учению и опирается на самые верные аргументы, как я ниже опишу. А Сильвий
свидетельствует, что среди таборитов было принято учение вальденсов» 397.
Тем не менее, между вальденсами и своими единомышленниками Флаций
проводит строгую границу. Во избежание возможного полного отождествления он особо
оговаривает, что при всех симпатиях движение вальденсов всѐ-таки остаѐтся ересью (ни
одна другая ересь, которым симпатизировал Флаций, не была рассмотрена им под этим
углом зрения). Проблема была очень деликатна: явные предтечи лютеран, вальденсы
обнаруживали яркое доктринальное своеобразие, и автор «Каталога» был вынужден,
избегая восхвалений, подчеркнуть и недостатки этого учения и отмежеваться от них.
Почему же речь идѐт именно о ереси? Причин несколько, и мы изложим их в том порядке,
в котором это сделано в «Каталоге»398. Первой Флаций называет тенденцию вальденсов
восхвалять Учителей церкви и претензию их лидеров на то же место в истории. Другая
заключается в явном злоупотреблении практикой учения и изучения религии. «Все
мужчины и женщины, от мала до велика, не прекращают учить и учиться ни днѐм, ни
ночью. Даже работник, работающий днѐм, ночью учит и учится». Помимо того, что
учение ведѐтся без книг, что к учению получают доступ совершенно неспособные к этому
люди, у этой традиции есть и другое негативное последствие – постоянно занятые
толкованием люди не имеют достаточно времени для молитвы! Следующая причина
обвинения в ереси – это упрощѐнное толкование Писания. «Я видел и слышал
деревенщину (rusticam idiotam), который декламировал от слова к слову Книгу Иова».
397
398
Ibid. P. 722.
Ibid. P. 724.
201
Флаций приводит многочисленные примеры искажений Писания, ошибок в понимании
слов и т. п. Чтобы показать неверные толкования, Флаций прибегает к немецким словам:
очевидно, он слушал вальденсов именно на этом языке. Затем, претензии на
«апостольскую жизнь», то есть следование идеалу бедности, слабо соответствовали
упрѐкам,
которые
делались
тем,
кто
жил
иначе.
Флаций
отмечал
также
непоследовательность в почитании текста Священного Писания: «что они не одобряют в
тексте Нового Завета, они считают сказками». Далее, осуждения заслужила практика
непочтительного отношения к св. таинствам, разделявшимся лютеранским учением.
Наконец, последним упрѐком Флация была «ненависть, которую питали вальденсы к
Церкви». Очевидно, имелись в виду призывы к насилию, раздававшиеся в периоды
гонений. И всѐ же Флаций выступает в целом в защиту современных ему вальденсов: он
подробно перечисляет все обвинения, выдвинутые в их адрес римской Курией, и в лучших
традициях богословского диспута отводит их одно за другим. В опровержении обвинений
он следует лютеровской традиции и даже цитирует по большей части те же локусы
Писания. На защиту ереси 400-летней давности мобилизуются все достижения
современной Флацию теологии и логики: упорная оборона позиций вальденсов
(совпадающих с собственными) составила основной объѐм данного раздела.399
Отдельно описывает Флаций и «обычаи вальденсов». Любопытно, что поведение
представителей того или иного течения может рассматриваться в качестве критерия
истинности самого течения. Именно так Флаций и считает: «Еретиков можно опознать по
нравам и речам»400. Строгие нравы вальденсов вызывают сочуствие и, в целом, одобрение
автора «Каталога», хотя в некоторых выражениях заметен явный скепсис.
Нравом они строги и умеренны. Чванство в одеждах им несвойственно – они не
пользуются ни богатыми, ни слишком потрѐпанными одеяниями. Торговлю они не ведут,
дабы избежать лжи, клятв и обманов; но живут только ручным трудом, как
ремесленники, и их богословы - ткачи и сапожники. Богатств они не накапливают, но
удовлетворяются
необходимым.
Лионские
бедняки
также
богобоязненны.
Они
соблюдают умеренность в еде и питье – в таверны и на танцы, а также не прочие
глупости не ходят. Гнев в себе подавляют. Даже за работой либо учатся, либо учат:
поэтому мало молятся. В церковь они ходят для вида – делают пожертвования, и
причащаются, и присутствуют на проповеди, чтобы поймать проповедника на слове.
Женщины их также скромны. Они берегутся от злословия или шутовства, от
399
400
Ibid. P. 735.
Ibid. P.754.
202
легкомысленных речей, лжи и клятв. Они также редко отвечают на вопрос прямо. И если
ты спросишь одного: «Ты знаешь Евангелия или Послания?», он может ответить «Кто
бы меня им научил!», или что этому должен учить тот, кто обладает большим и
глубоким пониманием, или что для этого надо найти незанятого и более подходящего
человека . Они говорят в основном «да» и «нет», говоря, что это им можно401.
Последние строки обнаруживают, бесспорно, какой-то личный опыт неудачного
общения Флация с вальденсами, его попытку что-то у них разузнать. Из его рассказа мы
знаем, в частности, что он лично общался общаться с вальденсами Померании и Прусской
марки. Тем не менее, ссылается он в основном на найденные им тексты, причѐм по
большей части – католического происхождения, направленные против учения вальденсов
или на организацию истребления этой секты. Не является ли это другим свидетельством
неудачных попыток выведать что-то лично?
Наконец, Флаций цитирует без комментариев несколько текстов Инквизиции,
характеризующих практику вальденсов. В частности, характеристика обычаев при
вознесении молитвы402 явно противоречит неоднократно сказанному Флацием выше о
том, что молятся вальденсы явно недостаточно. Однако это противоречие осталось без
комментариев. Почему? Мы склонны трактовать это как уважение Флация к источнику,
желание датьбогатую информацию, разнообразные толкования фактов прошлого. Кроме
того,
описанные
Флацием
молитвы
вызывают
ощущение
огромного
времени,
затрачиваемого на эту религиозную практику. Возможно, сами верующие считали, что
молятся недостаточно, ибо описанные бесконечные череды молитв были, скорее всего,
недостижимым идеалом, особенно если речь шла о ремесленниках и сельских
тружениках. Повторялись эти длительные коленопреклоненные молитвы минимум пять
раз в день, что плохо сочетается со светским бытом сторонников этого учения. Другой
цитируемый текст, также от Инквизиции (он датирован 1391 годом), сообщает, что
вальденсы молятся семь раз в день; многие другие детали также не соответствуют
приведѐнному выше из других источников403. Наконец, отрывок из «Истории Чехии» Энея
Сильвио Пикколомини (папы Пия II) сообщает целый ряд мелких подробностей о
чешских вальденсах, однако также остаѐтся без комментариев404.
Столкнувшись с серьѐзной методологической проблемой, Флаций, на наш взгляд,
весьма достойно из неѐ вышел. Нам неизвестны другие примеры из современной ему
401
Ibid. P. 756.
Ibid. P. 957.
403
Ibid. P. 759.
404
Ibid. P. 760.
402
203
историографии, когда историк сталкивался с противоречиями в своих источниках и не
стремился обойти эти противоречия молчанием или «замазать» их рассуждениями на
отвлечѐнные темы, а честно выложил их в своѐм труде, насколько возможно чѐтко
локализовал их во времени и пространстве, а окончательное суждение оставил за
читателем. Мастерство Флация проявилось также в том, что, несмотря на некоторые
очевидные расхождения в его источниках, они никоим образом не ставят под сомнение
правомерность высказываемых автором оценок и его общий весьма удовлетворительный
контроль над текстом. Этот эпизод, наряду с некоторыми подобными, даѐт нам право
вести речь о «Каталоге свидетелей истины» как одном из наиболее значимых
произведений ранней протестантской церковной историографии и, в более широком
смысле, исторической науки XVI века в целом.
Следующая группа объектов, помещѐнных Флацием в «Каталог», - это разного
рода тексты. Главную роль среди них играют, конечно, написанные для изобличения
церковных нравов или политики Рима. Череда текстов (их около пяти десятков)
открывается Св. Писанием, с которого, собственно, и начинается «Каталог свидетелей
истины». Писание приводится в «Каталоге» как ориентир, точка отсчѐта, как главный
оплот в борьбе с папством. «Св. Писание не только по сей день сражается с Папой и его
заблуждениями,
отстаивающими
противоположное
учение,
но
и
развѐрнуто
предсказывает будущий приход Антихриста, без обиняков указывая, что это будет Папа, и
заранее указывает на его заблуждения»405. Почти сразу после указания на Писание
следуют Каноны апостольские: уклоняясь от обсуждения подлинности этого текста,
Флаций лишь использует его к своей выгоде – отмечает, что Каноны (наряду с
некоторыми Отцами и постановлениями Соборов) выступают против безбрачия
духовенства, а также не поддерживают идеи воздержания от видов пищи (поста).
Особое любопытство вызывают художественные тексты, привлечѐнные Флацием в
качестве «свидетелей истины». Первым из них является стихотворение, взятое из
«Хронографии» Валентина Мюнцера и датируемое последним приблизительно VI
веком406. Оно представляет собой предсказание о неизбежном падении римского
церковного могущества в результате ошибок, преступлений и многочисленных грехов.
Первые строчки этого стихотворения в слегка изменѐнном виде были использованы
императором Фридрихом II для того, чтобы уязвить Римскую Курию. Текст
стихотворения
в
целом
не
позволяет
сделать
даже
самых
приблизительных
предположений относительно повода его написания; Флацию удобно считать его
405
406
Ibid. P. 7. Опорой, как это часто делается, становятся слова Св. Павла из 1 Кор 3:6 и 2 Кор 6.
Ibid. P. 99.
204
написанным примерно в то время, когда, как он понял, началось возвышение папства.
Таким образом, простое и понятное анонимное стихотворение было использовано не в
качестве неопровержимого доказательства своей концепции, а для эмоционального
воздействия на читателя.
Другое интересное пророчество – т. наз. Gallorum levitas – привлекло внимание
Флация своей популярностью среди верующих407. Во времена Флация было неизвестно ни
авторство, ни датировка этого небольшого стихотворения. Сегодня мы знаем, что оно
восходит к самому концу XIII или к началу XIV века и принадлежит английскому монахупоэту Питеру Лэнгтофту408. Оно помещено в текст «Каталога» между королѐм
лангобардов Алахием и Сидонием Аполлинарием; в отсутствие датировки можно сделать
вывод, что Флаций допускал создание этого текста в V веке. В то же время, Флаций
допускает, что правы те, кто считает текст принадлежащим св. Бригитте, а от себя
выражает уверенность, что эти строки сочинены «самое позднее 100, если не 200 лет
назад». Флаций крайне не уверен в датировке текста, однако использует его. Собственно
говоря, текст привлечѐн только ради последних двух строчек, в которых предсказано:
«повсюду будет править император, и в его правление закончится слава тщеславного
клира». Остальной текст пророчества невразумителен и к конкретным историческим
событиям однозначно привязан быть не мог. Флаций понимал это и по этой причине не
стал цитировать стихотворение более пространно.
Следующий упоминающийся в «Каталоге» художественный текст восходит, по
мнению Флация, к началу XII века и представляет собой латинские песенки, написанные
характерными для средневековых фольклорных произведений размерами, с частыми
отступлениями от ритма и нарушениями409. Следом за этими стишками идѐт деятельность
Хильдегарды (также воспринимавшейся многими в качестве пророчицы), а также еѐ
родственницы Елизаветы410. Интерес Флация к этим текстам, а также их компактное
изложение в структуре «Каталога» имеет простое объяснение: они были недавно
выпущены в одном томе издателем Лефевром в Париже. Выписки из этого тома попали в
«Каталог» в компактном виде.
Среди неожиданно привлечѐнных к аргументации текстов отметим Кодекс
Юстиниана, Новеллы которого предписывают отправление богослужения на языках,
407
Ibid. P. 114.
См., например, Freeman E. A. Historical Essays. 1st series. 5th ed. London-New York, 1896. P. iii.
Замечательное исследование этого и других схожих текстов см. Coote L. A. Prophecy and public affairs in later
medieval England. Oxford, 2000. P. 75-89.
409
Catalogus testium … P. 648.
410
Ibid. P. 650, 656.
408
205
распространѐнных в данной местности411. Другой пример использования светского
законодательства – «Саксонская Правда» (142), не позволявшая церковникам обогащаться
за счѐт доли в наследовании.
Один из указов Карла Великого использован Флацием для того, чтобы показать,
что император решал церковные (в том числе доктринальные) вопросы самостоятельно,
безо всякой оглядки на римских первосвященников. Флаций цитирует только начальные и
завершающие абзацы этого текста412, в котором ему важны именно формулировки,
эпитеты, говоря современным языком – позиционирование короля в отношениях с Богом
и
религиозными
служителями
в
своей
массе.
Налицо
использование
чисто
филологического, гуманистического инструментария, контрастирующего с основным
аргументационным аппаратом «Каталога».
Константинов Дара Флаций едва упоминает 413. Конечно, и Константинов Дар, и
Дар Людовика Благочестивого в «Каталоге свидетелей истины» безоговорочно
отвергаются414. Оба документа стали для Флация поводом провести преемственность
между Карлом Великим и королями саксонской династии (с особым акцентом на Оттоне
I); инструментом этой преемственности выступает политика данных государей в области
религии, а конкретно – вероятность и возможность столь масштабных дарений
императоров Священной Римской империи римским епископам. Полностью приводит
Флаций текст Привилегии, посредством которой папа Лев VIII передал императору
Оттону «и его наследникам» Королевство Италию415.
В «Каталоге» отмечены не только тексты как таковые (то есть в отрыве от форм их
существования), но и конкретные книги, встреченные Флацием в ходе своих поисков. Вот
пример того, как «свидетелем истины» признан конкретный предмет.
В библиотеке Фульды хранится какой-то старый экземпляр басен Эзопа и
подобных им, снабжѐнный красивыми иллюстрациями. Многие иллюстрации зло
высмеивают папистских прелатов. Часто там можно увидеть волков в клобуках,
собравшихся на сходку. На одной из них изображѐн волк с выбритой головой, одетый в
монашеский куколь, который проповедует окружившим его овцам. К этой картинке
приложены следующие слова: «Волк в куколе – лицемер». Как в Евангелии: «Берегитесь
411
Ibid. P. 66.
Ibid. P. 145.
413
Ibid. P. 211. В «Магдебургских Центуриях» этот документ будет приведѐн полностью.
414
«Константинов Дар всеми специалистами отвергается безоговорочно». Ibid..
415
Ibid. P. 226.
412
206
лжепророков»416. В самой первой басне волк в куколе опирается на палку и выступает
перед ослами, говоря им: «Бог свидетель, как нутром своим люблю я вас». В другой
изображается кот в головном уборе, держащий в руке епископский посох и
проповедующий мышам с целью обратить в свою веру. Самая старшая землеройка
отвечает ему такими словами: «Лучше уж мне умереть язычником, чем в твоих лапах
христианином»; и после этого все мыши разбегаются. Видимо, тот, кто когда-то
изобразил эти картины, хотел указать, что лицемерные фарисеи Антихриста обойдут
все моря и сушу (как говорит Иисус417), чтобы найти одного последователя, который в
конце концов в два раза больше будет заслуживать геенны огненной, нежели раньше. Он
указал также, что они самые настоящие волки, совратители и пожиратели стада
Господа. В каком-то из своих трудов об этих баснях упоминает Вицелий418, называя их
исключительно лютеранскими419. Скорее всего, они были написаны впервые 200 или 300
лет назад420.
Этот пассаж крайне не типичен для «Каталога», и, тем не менее, он очень
примечателен. Во-первых, Флаций – вполне в русле приобретающей сегодня новую
актуальность «истории вещей», Sachgeschichte – проводит исследование найденного им
предмета. Вычитав у Витцеля об этой книге, он разыскал еѐ сам и рассмотрел подробно,
представив собственные соображения относительно еѐ датировки (XIII-XIV вв). Басни
(текст) не более важны для исследователя, нежели иллюстрации, существующие,
очевидно, в единственном экземпляре. Описание единичного – важный новый шаг в
исторической методологии; внимание к единичному источнику и доверие ему
значительно обогатит историческое познание во всех его разновидностях.
Некоторые интересные тексты Флаций пересказывает подробно. Так, на 18
страницах он излагает содержание найденного им манускрипта «Об эпохах в жизни
Церкви» (De aetatibus Ecclesiae)421. Флаций ещѐ не мог знать, что этот текст принадлежал
перу известного канониста Бонаграции Бергамского (ок. 1265-1340), соратника Михаила
Чезенского. Тем не менее, он сопровождает его пересказ правильной, хоть и
приблизительной, датировкой. В центре внимания – отождествление отдельных эпох
церковной истории с принятым в те времена делением человеческой жизни на периоды –
416
«Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Мф
7:15
417
Ссылка Флация неточна: выражение mare ac aridam встречается в Аг 2:7.
418
Протестантский богослов Георг Витцель, 1501-73.
419
Lutheranissimas.
420
Catalogus testium … P. 677.
421
Ibid. P. 762-780.
207
младенчество, детство, отрочество, молодость, зрелость и старость (отсутствует только
последний период – крайняя старость, silicernium). Младенчество начинается с проповеди
Иисуса и продолжается до того момента, пока апостолы не разошлись проповедовать
христианство в разные страны; с него начинается детство. Отрочество более или менее
соответствует эпохе гонений и мучеников, молодость – эпохе Соборов. Зрелость церкви
начинается с того времени, когда Бонифаций IV добился от императора Фоки, чтобы
римская кафедра встала во главе всей христианской церкви. Признаками наступившей
«старости» церкви стали церковные расколы (или, в оптике Флация, - отделение четырѐх
патриаршеств от Рима). «Тогда возросли пороки, и начались расколы. Цветение церкви
опало, и крепость еѐ ослабла». Мусульмане захватили Святую Землю. Множество ярких
эпитетов, почерпнутых из средневекового источника, укрепляют аналогию между
эпохами церковной истории и возрастами человека. Отметим, что историчность
восприятия
церковной
истории,
понимание
эволюции
церкви
как
организма,
отождествление еѐ с развивающимся телом присутствовали уже в источнике, однако
Флаций мастерски заострил эту проблематику, оформил еѐ художественно и вместе с тем
кратко. Этот текст стал поводом рассмотреть более подробно вопрос о моральном облике
священнослужителей XIV века, занявший несколько глав и включивший рассмотрение
нескольких небольших моральных сочинений церковных авторов422.
Ещѐ один пример юмористической басни, приведѐнной Флацием в качестве
«свидетеля
истины»
-
«Покаяние
осла» (903-905);
стихотворного
памфлета
–
«Вавилонское чудовище» (928). Вообще среди тем и материалов «Каталога» плотность
художественных текстов начиная с середины XIV века значительно возрастает. Больше
половины художественных текстов приходится на последние два столетия. Дело не только
в том, что эти источники были Флацию более доступны; он стремится подчеркнуть
комичность
и
абсурдность
сложившейся
ситуации,
выступает
не
столько
с
фактологическим обоснованием концепции, сколько с эмоциональной критикой. Из
произведений протестантских авторов собраны сатирические стихотворные цитаты,
выступающие в качестве независимых «свидетелей». Чем ближе к современности, тем
менее скрупулѐзным, более ярким и художественным становится повествование.
Отдельное место в структуре «Каталога свидетелей истины» занимает раздел
Gravamina (букв. «бремя», «тяготы»; в тексте часто встречается словосочетание gravamina
et usurpationes) – это термин, которым протестанты называли в самом общем виде поборы
церковников, их различные претензии экономического и прочего характера, не
относящиеся к религиозным материям stricto sensu. Например, среди gravamina мы
422
Ibid. P. 782-795.
208
встречаем претензии клира на неподсудность светским властям, их привилегии при
разборе имущественных дел и прочее. В качестве синонима при толковании этого термина
предлагается понятие «политическое» в противоположность «религиозному». Конечно,
нынешнее значение слова «политический» далеко ушло от узуса XVI века, однако
некоторый свет на значение этого загадочного термина приводимое Флацием толкование
помогает.
«Мы сочли нужным собрать в одном месте все, как когда-то это называли,
бремена (gravamina – ИА), то есть наложенные папами и прелатами политические
тяготы, на несение которых часто жалуются народы и царства, и изложить в данном
месте нашего труда. Ибо христиане уже могли догадаться, насколько невыносимым не
только духовным, но и политическим гнѐтом они подавляют и ниспровергают народы и
царства. К сожалению, до нас дошло совсем не многое, ибо таковые свидетельства с
самого начала аккуратно уничтожались клириками, даже больше, чем другое
направленное против папы; это было ещѐ более несправедливо и ещѐ в большей степени
затрагивало богатства клира, нежели его религиозную деятельность»423.
Сама грамматика латинского оригинала доказывает: Флаций ещѐ не знал, каким
словом обозначить имущественные претензии папства, а также стремление его утвердить
господство духовной власти над светской. Возможно, терминологическая неуверенность
связана и с недостатком времени на редактирование текста, вызванным работой над
«Магдебургскими Центуриями». Имущественные и политические злоупотребления он
назвал словом Gravamina; обширная и точная терминология для обозначения новых
политических реалий сложится лишь спустя столетие. В конце XVII века понятие
«регализм», борьба против папских иммунитетов и узурпаций станет достоянием
движения юрисдикционализма. Важно, что Флаций отметил близость, если не
идентичность,
политических
и
имущественных
интересов
клира:
политическое
могущество было очевидным средством достижения иных земных благ.
Раздел Gravamina довольно велик (88 страниц); эти страницы выделяются
жанровым своеобразием и составляют своего рода «книгу в книге». В отличие от
основного текста «Каталога», здесь наблюдается некоторый отход от эрудитского
стремления охватить всѐ, от присущей данному тексту энциклопедичности. Схематичное
изображение всемирно-исторической концепции, разрабатываемой для Центурий»,
423
Несколько сумбурный перевод призван отразить сумбурность латинского оригинала, недостаточную
стилистическую и грамматическую проработанность текста. См. Catalogus testium … P. 402-403.
209
прерывается
оригинальным,
не
имеющим
аналогов
политическим
памфлетом,
адресованным германским государям. Основан он на анализе практики европейских
(главным
образом
французских
и
германских)
монархов,
противостоявших
имущественному натиску церкви. Одновременно данные страницы являются и
публикацией источников (например, перевод с французского на латынь ранее практически
неизвестного документа 1329 года – подписанного королѐм и представленного в Париже
съезду «прелатов и баронов Французского королевства») 424. Открывается раздел перечнем
деяний французских королей, направленных против узурпаций католического клира. Он
охватывает период от Людовика IX (1226-1270) до Карла VI Валуа (1380-1422).
Завершается этот фрагмент полным латинским текстом «Аппелляции», представленной
Парижским
университетом
папе
Льву
X
(1513-1521).
Германские
сюжеты
рассматриваются в этой главе в виде вопросов, поднимавшихся на церковных Соборах
(Втором Лионском, Констанцском и Базельском).
«Каталог свидетелей истины» не является историческим сочинением в собственном
смысле
слова.
В
нѐм
отсутствует
сформулированная
общая
концепция,
не
рассматривается динамика исторических событий, отсутствует сюжет. Кроме того, в этом
довольно пространном тексте содержится крайне мало хронологических данных,
позволяющих хотя бы приблизительно соотносить описываемых персонажей с эпохами, в
которые они жили. Книга явно носит справочный характер; очевидно, она была написана
для того, чтобы на еѐ основе создать историческую концепцию в полном смысле слова. С
одной стороны, «Каталог» является бесспорным шагом вперѐд, свидетельством эволюции
исторической концепции, выраженной в трудах первых протестантских историков.
Отметим, что наиболее чѐтко эта преемственность прослеживается не по отношению к
идеям Меланхтона (и тем более Себастьяна Франка), а по отношению к Каспару Хедио, в
частности – к рассмотренной нами «Хронике ранних христианских церквей». Хедио, как
мы знаем, не относил себя к последователям Лютера; более того, у истоков замысла
«Магдебургских Центурий» стоял именно Меланхтон. Между тем, замысел «Центурий»
выкристаллизовался в размышлениях и трудах Флация, Нидбрука и Ланге в отрыве от
линии прямой преемственности идей от Лютера. Не в этом ли отрыве заключается
истинная причина неприязни, которую Меланхтон в конце концов испытал в адрес
«Центурий» и их авторов? Нам это представляется более чем вероятным. Кроме того,
проделанный анализ подтверждает правильность взгляда на «Каталог свидетелей истины»
424
По «изданной книге доктора и кардинала Пьера Бертрана». [Bertrandus P.] Libellus adversus Petrum de
Cugneriis, Parisiis, 1495. 24 c. Заметим, что Пьер Бертран был уже малоизвестен во времена Флация, и его
текст отнюдь не лежал на поверхности источниковедческих поисков. В наше время этот некогда славный
юрист-каноник вообще почти забыт, а многие его рукописи хранятся в Ватикане в неизданном виде.
210
как на подготовительное сочинение, написанное для членов авторского коллектива, а
также потенциальных спонсоров и покупателей будущих «Магдебургских Центурий».
Отметим, что замысел «Центурий» уже был создан, и работа над ними уже велась в то
время, когда Флаций составлял свой «Каталог». Очевидно, мысль о необходимости такого
сочинения пришла к нему во время работы над «Центуриями», когда он понял, что
замысел его слишком масштабен и слишком амбициозен, чтобы реализоваться без
промежуточных публикаций. Таким образом, схематически упрощая, «Каталог свидетелей
истины»
можно
представить
как
переходный
историографии от концепции Хедио к «Центуриям».
этап
в
ранней
протестантской
211
§4. Паратекст «Магдебургских центурий»
Отдельные элементы и положения паратекста «Магдебургских центурий»
привлекались историками для иллюстрации их наблюдений; мимо него не мог пройти ни
один из исследователей книги, особенно в последние полвека. Тем не менее, анализ
паратекста «Магдебургских центурий», который бы рассматривал его в качестве цельного
объекта исследований, ещѐ не проводился. Между тем, этот анализ мог бы предоставить
нам ценнейшую информацию по целому ряду проблем. Среди них следует особо
выделить круг вопросов, вообще почти не затрагивавшихся исследователями425 и
касающихся позиционирования книги на книжном рынке. Проект «Центурий» был
беспрецедентным по длительности и дороговизне предприятием, вовлекшим рекордное
для XVI века количество сотрудников и разного рода помощников. Разумеется,
идеологическая составляющая замысла сыграла основную роль при зарождении идеи,
однако в процессе ее реализации материальные вопросы также вышли на первый план.
Были ли «Центурии» ориентированы на создание общей для протестантских церквей
концепции? Был ли их адресатом единичный читатель-аристократ из протестантского
лагеря, или же они были ориентированы на массу лютеранских священников и
непосредственных участников идеологических сражений? В какой мере «Центурии» были
нацелены на завоевание сердец ещѐ не определившихся верующих? Насколько широко
планировалось охватить читающую публику и какими средствами авторы собирались
убедить еѐ в своей правоте? Была ли книга предназначена для чтения в противном лагере?
Какое место она должна была занять по отношению к книгам (и заключѐнным в них
концепциям) предшественников-лютеран и в более общей перспективе – в ряду трудов по
истории христианской Церкви? Какими могли бы стать труды последователей
«Центурий» и как история Церкви могла бы развиваться дальше, по мнению авторов?
Анализ паратекста «Магдебургских центурий», обособленного от основного текста, не
способен исчерпывающе ответить на все эти вопросы, но в большинстве случаев
предоставленная им информация вполне удовлетворит исследовательские потребности.
Полное название вышедшей книги мало запомнилось современникам, к тому же
точная формулировка немного варьировалась от тома к тому во второстепенных деталях.
Тома книги посвящались отдельным столетиям, откуда и возникло принятое самим
авторами и устоявшееся среди потомков краткое название книги426. Авторами на
425
Х. Болбук в недавнем исследовании (Bollbuck H. Wahrheitszeugnis ….) коснулся некоторых аспектов
«Центурий» в жанре «истории книг», однако паратекст не был подвергнут систематическому анализу.
426
Авторы не без гордости сообщали в предисловии к своему сочинению, что и слово «центурии» родилось
у них в ходе работы над сочинением. См. EH I, pars 1, pg. 7. В печати это слово появилось в 50-е годы, в
212
титульном листе первого тома скромно назывались «несколько учѐных и благочестивых
мужей из города Магдебурга». Почему на обложке не были указаны имена руководителей
проекта, в частности, Флация Иллирика? Дело в том, что в отсутствии указания на имя
автора имелся глубокий символический смысл. Оно интерпретировалось как заявка на
некоторое сверх-знание, на универсальность высказываемых в книге истин, не
принадлежащих кому-то одному из мыслителей. Важнейшая из книг того времени –
Библия – не имела авторов на обложке, как их не имели и катехизисы, и многие другие
тексты религиозного содержания, лишѐнные полемического потенциала и заключавшие
«базовые» знания. Вообще, применительно к западному богословию, наличие имени
автора на обложке означало, что перед нами – произведение, с помощью которого этот
автор в той или иной степени определял свою позицию относительно других авторов,
будь то ученый спор, квалификационная работа в университете, учебное или справочное
пособие. Если же автора не было, то тогда – как и много позже – отсутствие имени
сигнализировало читателю об официальности, бесспорности концепции. Вспомним, в
частности, что обычно в XVI-XVII веках (а в учѐных книгах и в XVIII столетии) имя
автора не предшествовало названию, а завершало его, стояло в косвенном падеже с
предлогом и в целом в меньшей степени служило идентификации книги, нежели название.
В отношении «Центурий», однако, всѐ было не так однозначно. Указание на
«благочестивых и учѐных мужей» рассчитано на подтверждение высокого статуса
руководителей проекта, авторитетность их мнения. В то же время поимѐнно они не
называются, поскольку они выступают не от своего имени. Оставить книгу вообще без
указания на авторство было невозможно – это убило бы полемический заряд книги,
сообщило бы читателям, что ничего нового по отношению к «официальной» книжной
культуре она не содержит. Вспомним, что вся основная печатная продукция лютеран была
авторской. При этом приведение конкретных имен, напротив, сводило бы содержание
книги к мнению конкретных лиц, в то время как они претендовали на выражение
группового
мнения
своих
единомышленников-лютеран,
ставших
уже
довольно
многочисленными.
Профессор А. П. Лебедев воспринял идею титульного листа так, как этого и хотели
когда-то центуриаторы: «авторами были многие и никто в особенности»427. Для того
облика «Центурий» на книжном рынке, на который рассчитывали авторы идеи, крайне
важно было представить его как труд коллективный, выражающий общее мнение.
памфлетах Флация против Меланхтона и его сторонников – «филиппистов». Те пренебрежительно прозвали
авторов «центуриаторами»; слово прижилось и используется в качестве названия этого авторского
коллектива и по сей день.
427
Лебедев А. П. Церковная историография в главных еѐ представителях с IV по XX в. С. 207.
213
Отдельные имена, как мы увидим, не скрывались – в этом не было особой нужды, да и
авторские амбиции были авторам не чужды. Кроме того, было естественным ожидать со
стороны римской Курии идеологическое противодействие. Если против Лютера
аргументы ad personam некоторое время действовали, то против целого коллектива это бы
не сработало. Имплицитно Курии было заявлено: идеологическому противнику придѐтся
иметь дело с силой, способной реализовать значительный потенциал, как человеческий,
так и материальный. По этой же причине, кстати, авторы перестали скрывать некоторые
детали материального обеспечения своего проекта: значительные суммы, многочисленные
авторы делали книгу выражением «официального», не отмеченного личностным
отпечатком того или иного лидера мнения.
Несмотря на отсутствие прямого указания, имена авторов не представляли никакой
тайны: те, кто брал на себя ответственность за публиковавшееся, подписывали своими
именами
«Посвящения» в начале каждого тома. Такое оформление авторства
претендовало на некую большую по сравнению с указанием на авторство отдельных
фрагментов авторитетность: ведь речь шла об очень злободневных вещах, говорить о
которых было отнюдь не всегда безопасно. Кроме того, коллегиальность помогала
отдельным авторам справиться с религиозным волнением. Это важное обстоятельство
исследователи до сих пор обходили молчанием. Затеянное Флацием Иллириком и его
единомышленниками дело – подведение мощного исторического базиса под обвинения в
адрес римской церкви – было очень рискованным с точки зрения спасения души, и
сплоченный строй коллег был мощной духовной поддержкой.
Показательным было упоминание в заглавии не «Истории Церкви», а «церковной
истории». Вариант historia ecclesiae мог лучше подойти к истории грехопадения
собственно римской Курии; тем не менее, был предпочтѐн оборот, отсылающий к
Евсевию Кесарийскому и заявляющий о недвусмысленной претензии на преемственность.
На титульном листе первой центурии проставлено интересное указание (на втором
издании оно было уточнено адресацией «Типограф-читателю»). Оно гласило, что взявший
эту книгу в руки («справедливый и искренне судящий читатель») быстро поймѐт, что от
самого сотворения мира на данную тему не было издано ничего более полезного или
более необходимого. Обычная реклама, но с уточнением, обращающим особое внимание
на Предисловие («где, в частности, указываются причины создания сего труда») и
специальную главу в начале сочинения, Methodus, разъясняющую цели создания
отдельных глав каждого тома. Отдельно подчѐркнуто наличие в томах разного рода
предметных указателей.
214
Важное свидетельство отсутствия восприятия авторами своего текста как связного
рассказа – формат издания. После появления замечательных работ Роже Шартье историки
обращают внимание на внешние формы, в которых появляются те или иные тексты428.
«Центурии» были изданы in folio. Фолианты не очень удобны для чтения, тем более
регулярного; они служили для хранения информации и еѐ классификации в сопоставлении
как с другими фолиантами, так и внутри каждого отдельного тома. Затянутые в дорогую
кожу дарственные экземпляры играли важную роль своим внушительным внешним
видом; более практичные (и менее дорогие) картонные переплѐты обеспечивали
многолетнее хранение, но не облегчали манипулирование текстом. Ключевым понятием
для фолианта становилась содержащаяся в нѐм информация, по необходимости
утрачивающая
принадлежность
своим
авторам
в
качестве
интеллектуальной
собственности. «Смерть автора» развязывала руки читателю, давала ему физическую
возможность и моральное право самостоятельно выбирать из книги аргументы, составлять
из них новые тексты – от воскресной проповеди в сельской церкви или выступления перед
многотысячной толпой верующих, от придворного богословского спора до памфлета или
обращения к властям. Именно из этого источника власть предержащие могли черпать
необходимые для каждодневных идеологических баталий факты. Реформация первой
сделала шаг в сторону справочника, претендующего на полный охват прошлого. После
этого она окончательно вырвалась за пределы еѐ восприятия и самоидентификации как
«ереси»: в еѐ распоряжении теперь была уникальная «база данных», а тот факт, что книга
стала началом новой эпохи в историографии, оказался, в общем, случайностью,
безусловно счастливой для исторической науки в целом.
Несколько слов о языковом выборе авторов «Центурий». Кажется очевидным, что
такое сочинение могло быть напечатано только на латыни. Конечно, во второй половине
XVI века почти все крупные сочинения выходили именно на латинском языке, и
немецкоязычные авторы в поисках более широкой аудитории делали такой выбор ещѐ
долго. Современные историки не видят в языковом выборе никаких интересных
нюансов429. Всѐ было бы просто, если бы не вторая страница первой центурии. Там
посреди чистого листа содержится просьба не готовить немецкого перевода и не
публиковать его самостоятельно. Форма этой просьбы позволяет увидеть за ней не
абстрактные «авторские права» (самого понятия о которых, как мы знаем, тогда просто не
428
Ряд статей опубликован на русском языке в сборнике Шартье Р. Письменная культура и общество. М.,
2006.
429
Последним из известных нам случаев констатации этого обстоятельства является публикация 2007 года
MC 1. S. 63.
215
существовало), а конкретную коммерческую выгоду, которую авторы надеялись извлечь
из немецкого переиздания своего труда. Издатель Томас Ребарт выпустил в 1560-65 годах
на немецком языке первые четыре тома центурий430. Немецкая публикация преследовала
прежде всего рыночные цели, но их не оправдала; важнее то, что появление немецкой
версии не сделало книгу существенно популярнее. Авторы были недовольны
результатами сотрудничества с йенским издателем, и публикация немецкой версии была
приостановлена. Очевидно, определяющим для успеха и распространения книги был всѐтаки латинский текст. Любопытно, что диспут с виттенбергской школой Меланхтона –
главными идейными противниками Флация внутри лютеранского лагеря – вѐлся в
основном на немецком, несмотря на богословский характер; печатная перепалка с
основным защитником филиппистов Юстом Мением проходила полностью на немецком
языке. Очевидно, не тематика была определяющей в выборе языка. Скорее, выбор
объяснялся масштабностью поднимаемых проблем, расчѐтом на конкретного идейного
противника, которым в случае с «Центуриями» была римская Курия. Центуриаторы
опасались, что кто-то лишит их издателя прибыли; указывая на латыни (!), что готовится
немецкий перевод, они обращаются прежде всего к тем, кто способен его сделать, а не к
абстрактному немецкоязычному читателю. К 1562 году надежды на материальную выгоду
рассеялись окончательно, и центуриаторы не только не видели более смысла
препятствовать
частной
инициативе,
но
и
попытались
придать
ей
видимость
легитимности. После «Посвящения» 6 центурии следовало обращение к читателям. В нѐм
содержалось самое широкое разрешение переводить «Центурии» на новые языки, а также
просьба делать это правильно и целиком. Отметим, что после такого разрешения попытки
издать «Центурии» на новых языках прекратились на очень долгое время.
Титульный лист, оформление, предисловия, посвящения, даже выбор языка
показывают нам (как и показывали когда-то читателям-современникам), какого
конкретного эффекта ожидали руководители проекта от его реализации. В частности,
титульный лист сообщает, что книга издавалась не по распоряжению властей какого-то
конкретного германского государства и не претендует ни на какой официальный статус в
условиях противостояния светской и духовной власти, а также противостояния внутри
церкви. Напротив, система посвящений каждой отдельной центурии новым светским
430
Второй том, к примеру, назывался так: Kirchen Historia. Die anndere hundert Jar oder Centurien, Darinnen
ordentlich, und mit hohem vleis beschrieben wird der gantze stand und das wesen der Kirchen Christi, nach deme
die Apostel nun sind hinweg gewesen, zu den zeiten, da Keiser Traianus, Antoninus Pius, Antoninus Verus,
Commodus, und zum teil auch Severus regieret haben, und etliche fürtreffliche Lerer in der Kirchen, aus Gottes
gnaden und segen gewesen sind, als Ignatius, Polycarpus, Papias, Apollinarius, Melito, Theophilus, Polycrates,
Egesippus, Pantenus, Clemens, Justinus, Ireneus, und dergleichen mehr, welche der lieben Apostel fustapffen
nachgefolget, aus den fürnemesten geschichtbüchern, auch der Vetern und anderer schriften. Aus dem Lateinischen
Exemplar durch die Authores vleissig verdeudscht und trewlich ubersehen. Jhena, Th. Rebart. 1560. 416 c.
216
государям (а позже – и просто влиятельным лицам) свидетельствует не только о
напряжѐнных поисках спонсоров и политических покровителей проекта, но и о
стремлении заявить о книге на надгосударственном и даже на наднациональном уровне.
Как понимали члены авторского коллектива цель своей работы в тот момент, когда
принимались за свой труд? Название книги указывает объект исследования – церковную
историю – лишь в самом общем виде. В «Посвятительном письме» центуриаторы кратко
сформулировали то, чему они уделят наибольшее внимание, или иными словами, то,
«чему может научить церковная история». Церковная история воспринималась
неотделимо от еѐ полезности, а написание – от извлечения пользы, то есть – в данном
контексте – от незамедлительного и частого применения тезисов сочинения в
идеологической борьбе. Такой подход был в корне отличным от соображений о
«полезности» (utilitas historiae), часто звучавших в ренессансной историографии. Целью
истории, как светской, так и церковной, является рассказ о том, каким из неѐ предстаѐт
облик Господа. «А как же иначе может быть восславлен Бог за его удивительные милости,
которыми всеми он помогал роду человеческому, если бы из истории нельзя было бы
узнать о сущности, воле, трудах и благодеяниях Господа?»431. Ни много ни мало,
центуриаторы замахнулись на постижение Божественного замысла через изучение
истории! Разумеется, амбиции центуриаторов не распространялись на Промысл Божий в
целом, однако систематическое изучение его отдельных проявлений однозначно
постулировалось как единственный способ приближения к познанию Истины.
Может показаться, что такие установки центуриаторов свидетельствуют об их
стремлении найти идеологическую, а также методологическую опору в прошлом, в
средневековой
историографии,
а
их
тезисы
являются
реминисценцией
раннесредневековых – Августина и (в меньшей мере) Евсевия. Это не так. Созвучие
тезисов «Центурий» с установками средневековых авторов имеет несколько объяснений.
Во-первых, они не шли вразрез с библейскими истинами, а значит, не вызывали протеста
центуриаторов; все случаи расхождения мнений авторов «Центурий» и средневековых
писателей подробнейшим образом, в мельчайших деталях воспроизводились на страницах
«Центурий» как недочеты (naevi). Во-вторых, сочинения средневековых авторов служили
источниками «Центурий», и волей-неволей историки XVI века подпали под влияние тех,
кого конспектировали. В-третьих, центуриаторы пришли к созвучным тезисам не в
процессе методологического «возврата», а через отрицание отрицания, на новом витке
развития историографического сознания. Таким образом, они двигались не «назад» в
средневековой теоцентричности, а скорее «вперѐд» к познанию Господа через
431
EH I, p. I, p. α2.
217
объективную реконструкцию событий и явлений, реальность и истинность которых
верифицировалась вполне рациональными методами.
Исторические произведения классической древности (в терминологии «Центурий»
- «языческие истории»), по мнению авторов книги, годятся только для иллюстрации
отдельных фактов и аспектов божественного замысла - в основном для того, чтобы
проиллюстрировать «вторую таблицу Декалога», то есть вторую часть Закона Моисеева,
представляемую даже зрительно в качестве второй половины Скрижалей Завета.
Центуриаторы убеждены, что их труд – это самый важный шаг на пути Познания.
Характерно, что они сообщают об этом не в общем предисловии и не в главе,
посвящѐнной методологии, а в «Посвятительном письме», обращѐнном к светским
государям.
«Языческие рассказы» (Ethnicae narrationes) «ничего не говорят непосредственно о
Боге, о начале мира и ни одного из самых древних событий (rerum priscarum) не
разъясняют и не сообщают: они не знают о первых людях, о проявлениях Господа, об
обещаниях прихода Мессии, об управлении и сохранении Церкви»432.
Перефразируя слова о «второй доске Завета», мы можем сказать так: согласно
центуриаторам, политическая история недостаточна для реконструкции глобальной
исторической картины. Для этого годится только Священная история. Подчеркнѐм:
центуриаторы не ставят историю Церкви выше истории государств или народов; они
искренне считают, что всеобщая, всемирная история может быть только историей,
составляющей прямую линию от сотворения мира до Страшного Суда, то есть historia
sacra.
«Сюжеты из священной истории учат, как Аврааму, его потомству, и, наконец,
Давиду был дан божественный обет о семени, которое в будущем искупит род
человеческий из прискорбного служения Диаволу и его темницы. Они также изложат
замечательные чудеса Господа, которыми он утвердил своѐ учение, украсил и сохранил
Церковь и которых ни у каких других людей (in nulla alia gente) никогда не было. Они
описывают, когда придѐт Мессия, как он явит себя, каковы будут его учение и деяния,
каким образом, в частности, страданиями и покорностью он спасѐт род человеческий;
как он исполнит всѐ, что о нѐм было предсказано с начала мира; каким образом при
помощи когда-то Патриархов, затем Пророков, а потом Апостолов он распространил
432
Ibid. P. α2v.
218
по всему свету и до сих пор распространяет радостное и спасительное евангельское
известие (Euangelii… nuncium) и как он призывает людей к тому, чтобы влиться в жизнь
вечную».
Эта цитата показывает, что, строго говоря, центуриаторы не собирались
ограничивать свой труд рассказом о прошлом. Понятие «история» для них шире, чем
совокупность фактов прошлого или их анализ: они видели неизбежным и экскурс в
будущее в той мере, в которой оно следует из Писания и подтверждено пророчествами и
общей религиозной перспективой. Возможность и даже обязанность «заглянуть в
будущее» была прерогативой только священной истории – светская, языческая
воспринималась как значительно более узкая отрасль знаний. Впрочем, священная
история шире светской и в том, что касается непосредственно прошлого: примеры и
документы, иллюстрирующие «истинные доблести обеих Таблиц» (verarum virtutum in
utraque Tabula), более систематически (multo solidius et illustrius) излагаются через сюжеты
первой из них. Именно священная история должна рассказывать о подвигах и воздаяниях,
прегрешениях и наказаниях, - в общем, обо всѐм том, что человеку действительно
необходимо. История христианской церкви между веком Евсевия и веком Лютера ещѐ не
была изложена систематически (изученные нами в первой части труда труды по
церковной истории не могли компенсировать нехватку общих трудов); центуриаторы
ставили перед собой поистине колоссальную задачу. Они разделяли взгляды на
практическую, утилитарную ценность истории, но они понимали эту ценность
своеобразно – сквозь призму Жизни Вечной, а не преходящих земныхдел, но при этом так
же просто, прямо и непосредственно, как и многие гуманисты раньше них. Локальный
метод не предусматривал придания историческому повествованию художественной
формы. Центуриаторы шли на это вполне сознательно, отмечая в качестве достоинств
своего подхода полноту, точность и обильность информации433.
Из вышеизложенного следует, что важнейшим элементом этой картины
планировалось представить начальную картину церковной истории – евангельскую эпоху.
Учение Иисуса было важнейшим событием всемирной истории, сопоставимым с
Творением и концом света. Кроме того, на эту эпоху стоит взглянуть и под другим углом
зрения. Описывая историю христианской церкви, центуриаторы оставляли за рамками
своего труда человеческую историю дохристианской эры.
433
Ibid. P. α3.
219
«И возблагодарим Бога, вечного отца и господа нашего Иисуса Христа за то, что
трудами Моисея и других Пророков он пожелал соткать непрерывную историю с самого
основания мира до прихода Христа, а о последующем – описанную Апостолами; каковым
сокровищем мы с благодарностью в сердце воспользуемся»434.
Весь исторический материал, собранный авторами «Магдебургских Центурий»,
сортировался по 16 основным критериям, а затем излагался в отдельных посвящѐнных
столетиям томах в 16 отдельных главах. Главы эти суть следующие:
1. Самая короткая глава без заглавия – краткое содержание истории в описываемое
столетие, формулируемое как propositio или argomentum.
2. О географическом распространении церкви (De loco et propagatione ecclesiae)
3. О преследовании и мирном существовании Церкви (De persecutione et
tranquillitate Ecclesiae)
4. Об учениях (De doctrina; эта глава бывает посвящена трудам богословов,
состоянию богословия)
5. О
ересях
(De
haeresibus;
эта
обычно
описывает
труды
и
деятелей,
противодействовавших в рамках богословской дискуссии персонажам из гл. 4)
6. О ритуалах и церемониях (De ritibus et ceremoniis)
7. Об организации и управлении церковью (De politia et gubernatione ecclesiae)
8. О расколах (De schismatibus)
9. О Соборах (De synodis)
10. О биографиях епископов и богословов (De Episcoporum et Doctorum vitis;
разумеется, каждый раз глава 10 тесно переплетается с гл. 4 и ей вторит)
11. О еретиках (De Haereticis; вторит гл. 5)
12. О мучениках (De Martyribus; вторит гл. 3)
13. О чудесах (De Miraculis)
14. Об иудеях (De Rebus Iudaicis)
15. О других религиях, помимо Церкви Христовой (De aliis Religionibus extra
Ecclesiam Christi; и здесь изложение обычно начинается с иудаизма)
16. Об политических изменениях (De motibus et mutationibus in Imperiis politicis)
В двух частях первого тома по этим 16 разделам систематизирована информация,
собранная из источников о времени Иисуса и апостолов, в первую очередь – из Нового
Завета. Но «Магдебургские Центурии» начинаются не с «искажений», а с изображения
идеального порядка I века – эпохи Христа и Апостолов. Этим событиям посвящена первая
434
Ibid. P. 3r.
220
«Центурия», вышедшая в 1559 году в двух томах. Материал был разделен между ними
таким образом, что первый том описывает «церковную историю»435 времени Христа, а
второй – времени апостолов. К сожалению, современные исследователи, как и их
колллеги XIX-XX веков, практически игнорируют первый том «Центурий», поскольку он
не вполне укладывается в общепринятое представление об исторической концепции
книги. По своей форме он является не историческим сочинением (рассказом о процессе,
развивающемся во времени), а фактически зарисовкой статичной картины, ставшей для
всей концепции своего рода отправной точкой. Тем не менее, высказанные выше
соображения об исключительной важности начальной точки для концепции «Центурий» в
целом побуждают нас уделить первому тому особое внимание.
Доминирующим источником первой центурии является Священное писание:
первой еѐ части – главным образом Евангелия, а второй – Деяния апостолов и Послания
апостольские. Изредка встречаются и ссылки на Апокалипсис. Другие источники имеют
подчинѐнное значение; в этом отношении историки-лютеране не противоречат
нарождающейся в католической среде иерархизации локусов (она обретѐт свою
окончательную форму в трудах Мельчора Кано)436. Чаще всего цитируются произведения
Иосифа Флавия («Иудейские древности») и Евсевия Кесарийского («Церковная история»),
хотя упоминаются они на порядок реже Библии. Языческие античные авторы – философы,
историки и прочие – вообще игнорируются. Собственно, доверие к Иосифу Флавию
(единственному языческому автору, чей труд привлечѐн в первой Центурии в качестве
источника) объяснялось тем, что благодаря известной вставке о христианах он считался
вполне благонадѐжным.
Как уже говорилось, доверие к текстам, не относящимся к библейским, было
невысоким, их цитирование чаще всего подразумевало скрытую полемику с ними.
Например, в доктринально самой важной главе тома – четвѐртой - другие авторы вообще
не цитируются, но зато на них основана глава V «О ересях». Эта глава, в частности,
свидетельствует о хорошем знакомстве центуриаторов с широким кругом литературы.
Для описания ересей используются и авторы, которым центуриаторы доверяют «в целом»
– Ириней, Евсевий, Феодорит Кирский, Тертуллиан и другие (разумеется, для написания
этой главы привлекались также локусы из Священного Писания).
Эти замечания носят предварительный характер, поскольку в середине XVI века
принципы иерархии локусов стали общим местом. Новое начинает проявляться при
435
Конечно, на самом деле еѐ ещѐ нет, речь идѐт только о зарождении понятия Церкви; однако в принятой в
«Центуриях» терминологии всѐ выглядит именно так.
436
Об этом подробнее см. Андронов И. Е. Учение о локусах и методология истории в XVI столетии. В:
Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Вып. 5, ч. 1, 2011. С. 205-211.
221
анализе конкретного использования библейских цитат, при изучении методов работы с
источником и оценок извлечѐнным из них событиям и историческим реалиям.
Амбициозность
замысла
книги
проявлялась,
в
частности,
в
намеренном
противопоставлении нового труда прежним историко-церковным сочинениям; еѐ сразу
необходимо было чѐтко позиционировать среди благословлѐнных церковной традицией
предшественников. Наиболее очевидным казалось сопоставление новой работы с
общепризнанной классикой – «Церковной историей» Евсевия Кесарийского. Эта работа
используется в качестве ориентира в различных аспектах; особенно
очевидна
преемственность с сочинением «Отца церковной истории» в расположении материала.
Разумеется, сам сюжет предусматривает определѐнную последовательность событий;
традиционно (эту традицию основал именно Евсевий) первая книга сочинения посвящена
личности Иисуса Христа, рассуждениям о его природе, его подробной биографии (говоря
словами Евсевия, изложению «Божественного Домостроительства, основание которому
положено Господом нашим Иисусом Христом»437). Хронологически первая книга
сочинения Евсевия (и первая книга первой Центурии) завершается событиями,
непосредственно последовавшими за Вознесением. Евсевий предпослал первой книге
несколько строк, в которых описал тематику своего исследования применительно к
различным эпохам, а заодно и порядок расположения материала. Эти строки в
«Центуриях» были расширены до пространного описания методов подбора материала и
его системы расположения и вылились в своего рода манифест исследовательского
подхода438. Они представляют собой связный текст, приобретающий особенную важность
как источник по проблеме восприятия авторами своего труда. Написание такого текста
станет в историко-церковной полемике традицией, и мы увидим, как и последователи, и
противники центуриаторов будут особенно тщательно готовить вводные главы и
насыщать их программным содержанием.
Конечно, авторы отдавали себе отчѐт в том, что, несмотря на весь новаторский
потенциал, тематически их произведение будет помещено читателями в контекст
сложившейся историографической традиции. Желая направить ассоциации своей целевой
аудитории в нужном направлении, центуриаторы обозначили во введении к первому тому
интересный ряд избранных предшественников. Помимо Евсевия, в этот ряд попали его
продолжатели (Сократ Схоластик, Созомен, Феодорит Кирский), а также ещѐ несколько
437
438
Евсевий Кесарийский. Церковная история I.2.
Praefatio in historiam ecclesiasticam, causas contexendae historiae, et commemorationem utilitatum, et denique
quandam ipsius scriptionis formam atque rationem seu Methodum continens. EH I, pars I, p. α4-β3 (9 страниц,
Praefatio), β4-γ3 (15 страниц, Methodus). Последнее – это лишь схема расположения материала по главам; то,
что мы назвали бы «методом» сегодня, находится в Praefatio.
222
малопримечательных церковных историков, среди которых мы неожиданно встречаем
Науклера и Сабеллико. Конечно, упоминание этих историков в первых строчках
«Предисловия» - не более чем риторическая фигура, и не следует придавать ей серьѐзного,
тем более программного значения. Тем не менее, широкое использование сочинений этих
авторов в историко-церковной литературе первой половины XVI века, а также в «Каталоге
свидетелей истины», свидетельствует о полном осознании центуриаторами своей роли в
развитии церковной историографии, об их позиционировании своего труда как ключевого
поворотного пункта и одновременно высшего авторитета в данной важнейшей области
знаний.
Историко-церковная традиция довольствовалась соображениями о методе своей
работы, которые предпослал своей «Церковной истории» сам Евсевий. Продолжатели
Евсевия избегали рассуждений на методологические темы; авторы «Центурий» нарушили
эту традицию. Сформулировав собственные представления о методе, они поставили себя
на один уровень с легендарным «отцом церковной истории», что в классической
западноевропейской традиции было абсолютно невозможно! В самом деле, ни один из
средневековых или ренессансных продолжателей Евсевия (пусть не в объѐме всего
замысла, фрагментарно) не мог и помыслить соперничать с образцом в теоретическом
плане: столь непререкаем был авторитет данного сочинения и, в более широком смысле,
письменного слова предшественника вообще. Формулирование Метода во введении
«Центурий» – шаг исключительной смелости с политической точки зрения. Для нас
сегодняшних он имеет и другое значение: с него начинается методологическое осознание
историком Нового Времени своего труда – исток современной теории истории.
Петер Майнхольд отмечал, что центуриаторы совершенно чѐтко осознавали
новаторский характер своей работы439. Их «совершенно новый способ изложения»
основывался на критике всех предшествующих работ. Разрыв с предшествующей
традицией был подчѐркнут уже во Введении. Этот ход фактически вынудил последующих
критиков Центурий из католического лагеря, наоборот, искать утраченный континуитет,
пытаться его восстановить. На некоторое время опора на преемственность по отношению
к историко-церковной традиции станет козырной картой католического лагеря, но
крупнейший из противников «Центурий» - Баронио – снова сделает ставку на критику
практически всех своих предшественников. Дело в том, что необходимость опираться на
континуитет связала руки католическим историкам и потребовала дополнительных
усилий, софистических ухищрений, материальных ресурсов для того, чтобы сохранить
требуемые самой дискуссией темпы профессионализации ремесла, повышения качества
439
Meinhold P. Geschichte der kirchlichen Historiographie. Freiburg/München, 1967. Bd. 1, S. 277.
223
исторического анализа. Во время написания «Каталога свидетелей истины» Флаций ещѐ
опирается на концепцию всеобъемлющей преемственности; она является стержнем,
объединившим более 400 исторических персонажей (подчас притянутых вопреки логике).
Этот
текст
-
свидетельство
кристаллизации
общей
исторической
концепции
«Магдебургских центурий»; сам факт его выхода в печати обнаруживает напряжѐнную
работу мысли, эволюцию мышления целого авторского коллектива. В период после его
выхода (1556) до выхода первого тома «Центурий» (1559) происходит превращение тезиса
о непоколебимой преемственности в череде предшественников лютеранства в фигуру
речи, неизбежный идеологический штамп. В
ходе осознания своего места в
историографическом процессе центуриаторы сделали свой выбор в пользу разрыва, чтобы
подчеркнуть новаторство.
Авторы нового сочинения сознательно не ставили перед собой цели создания
цельного, удобочитаемого текста («подобно Илиаде Гомера»440); они тщательно изучают
произведения тех, кого сами включили в линию своих предшественников (от Евсевия до
Сабеллико) и обнаруживают, в частности, недостатки и лакуны, которые следует
запомнить. Так, они обещают тщательно воссоздать в историческом разрезе «историю
догмы», которая и станет основным содержанием их исследования от столетия к
столетию. Эта сторона знания «по праву занимает главенствующее место в истории
церкви», при том, что предшественники центуриаторов на ниве церковной истории сами
не разбирались в данном вопросе441. Воссоздание эволюции догмы станет главным шагом
вперѐд «Центурий» по сравнению с предшествующими сочинениями.
Первым объектом для полемики становится сам Евсевий. Дискуссия начата прямо
в «Предисловии», и еѐ тема символична: определение христианина и понятия праведника.
Евсевий избегает чѐткого определения своей позиции, но говорит, что некоторые люди,
даже если у них отсутствует понятие о Христе, могут считаться праведниками (например,
Авраам). Центуриаторы пренебрегли тем фактом, что, по мнению Евсевия, известный
Аврааму бог и есть Христос, Слово Божие. Со своей стороны, они расширяют число
праведников за счѐт тех, кого можно описать как честного человека Ethnico more442.
440
EH I, I . P. β2. Отметим, кстати, начало конца отождествления историографии с литературными жанрами.
Пока ещѐ не вполне осознанно, но уже ощутимо различие между способами написания художественного
текста (для которого как раз и потребно пресловутое «вдохновение») и научного (для которого
тщательность важнее красоты).
441
… de doctrinae forma, quae quolibet seculo in Ecclesia Christi extiterit (…) Iure autem haec pars vel principem
in Ecclesiastica historia locum obtinet: siquidem praecipua nota et cor uerae Ecclesiae existit. Imo ne illi ipsi quidem
historici uidentur satis bene doctrinam hanc coelestem intellexisse.
442
То есть в духе трактата Цицерона «Об обязанностях» или Данте, проводившего в 4 песне Ада различие
между христианскими и моральными добродетелями.
224
Центуриаторы утверждают: концепция Евсевия слишком обща и неконкретна, для
использования в церковных диспутах непригодна. Конечно, этот выпад в адрес великого
предшественника политически ангажирован. В частности, они подчѐркивали, что для
Евсевия принадлежность к сообществу христиан определяется знанием Христа и учения,
умеренностью духа и справедливостью, скромностью жизни, силой добродетели, а также
любовью к Господу; его основной виной было невнимание к проблеме отпущения грехов
и божественного правосудия, а главное – к догмату оправдания верой. Центуриаторов
совершенно не смущает, что этот догмат не мог быть известен Евсевию, не формировался
и не обсуждался в его времена даже в самых суровых и отвлечѐнных богословских спорах.
Мы не будем касаться доктринальной стороны: она очень важна в изучении
идеологической стороны столкновения, но нас интересует больше дискурс в пределах
«искусства истории». Обращение именно к Евсевию, вкладывание распространѐнного
положения именно в его уста с последующим их опровержением – это признание
авторитетности историка из Цезареи не только для «Рима», но и для всего христианского
мира в целом. Евсевий отвергнут потому, что он не разобрался в том, в чѐм люди стали
претендовать на понимание тысячу лет спустя.
Исходя даже только из списка признаваемых центуриаторами предшественников,
мы можем понять, что зарождающаяся именно здесь новая методология должна будет не
только подвергнуться сравнению с евсевианской, но и проявить себя более совершенной.
В самом деле, структура глав, принятая в сочинении Евсевия Кесарийского «Церковная
история», послужила прообразом структуры отдельных Центурий. Евсевий выстраивает
свои книги по императорам; авторы нового сочинения – по векам, что выглядит несколько
искусственно, но не более искусственно, чем периодизация церковной истории по
светским правителям. При этом некоторые упомянутые в «Методе» темы развивают темы
Евсевия, заявленные во введении к его труду443 – наследование епископских кафедр,
история теологов, ересей, евреев, мучеников и т. п.
Первый полемический удар, наносимый по Евсевию, вовсе не означает, что
«Центурии» были направлены против Евсевия или задуманы для того, чтобы поставить
под сомнение его престиж. Недаром Евсевий и возражение против него вынесены во
«Введение»: эта коллизия также наполнена символическим смыслом. Она отделяет
Центурии от предшествующей историографической традиции, от трудов «авторитетных»
писателей, чей авторитет, как известно, держался на уважении к традиции, на том, что их
тексты были освящены веками. Декалог становится критерием веры, важнейшим
параметром, по которому оценивается человек. Таким образом, те качества, которые
443
EH I, pars 1, p. 1.
225
Евсевий признавал положительными, ничего не значат по сравнению с тем, чего «в
действительности» требует христианский закон. Строгость увеличивается, но приобретает
несколько «внешний» характер: при всей нечѐткости в формулировках и понятийной
непроработанности некоторых вопросов Евсевий обнаруживал большую по сравнению с
центуриаторами терпимость в вопросах веры.
Во введении в кратком виде сформулированы все претензии к предшественникам
на ниве церковной истории. Они сводятся к увлечению описанием людей и событий и
отсутствию внимания к таким аспектам, как суть идеологических конфликтов и
воздействие этих самых событий на облик и даже на само учение Церкви. Например,
описывая ереси, предшествовавшие церковные историки, по мнению центуриаторов, не
анализировали их содержание, не сопоставляли его с позицией официальной Церкви.
Недостаточно освещались и различия в церковной практике различных католических
стран, в управлении Церковью на той или иной территории. Предшественники уделяли
такое внимание личностям, что их можно назвать «историками личности»444. Претензия
заключается в том, что много внимания уделяется событиям, и мало – теориям и спорам.
Достойным же внимания историков провозглашается то, что более поздние историки
Церкви назовут Dogmengeschichte, историей догмы (в «Центуриях» - doctrinae forma).
Несмотря
на
наличие
столь
категорических
претензий,
центуриаторы
положительно относятся к личностям древних церковных историков, а также чаще всего
доверяют их информации. В основном тексте «Центурий» их работы широко
привлекаются к реконструкции исторической картины; в «Предисловии» говорится и о
ценности их работ в целом445. В этом утверждении нет никакого противоречия с
принципом «разрыва преемственности», о которой речь шла выше. Центуриаторы
воспринимают свою работу в ключе, понятном и общем для историографии вплоть до
эпохи Просвещения: они «надстраивают» свои умозаключения и разыскания на
произведениях предшественников, не подвергая этих последних особенной критике. В
частности, объявляется, что из предшественников будут браться целые куски
повествования, и делаться это будет не равнодушно, но с благодарностью (gratis animis) и,
конечно, без каких-то угрызений. Если практикующие историки Раннего Нового времени,
как
правило,
избегали
давать
развѐрнутое
определение
своему
отношению
в
предшественникам, то для центуриаторов этот пункт стал одним из важнейших
программных утверждений.
444
445
“Tantum sunt personales, ut sic dicamus, historici”.
EH I, p. α4.
226
Уже при чтении «Предисловия» становится очевидным, что авторы «Центурий» не
воспринимали свою работу как историко-церковную в узком смысле слова. Ни один
известный им сюжет не отбрасывался из их сочинения априорно, на основании того, что
тематически он не относится к церковной истории stricto sensu. Единственная оговорка
необходима в отношении дохристианской истории. Она не заслуживала внимания лишь
потому, что церковь была хронологически самым первым «внешним» проявлением бога
(visibilis in hac terra coetus). С еѐ возникновением, однако, начались и преследования еѐ, о
которых (а также о том, что по поводу этого думали различные благомыслящие мужи)
центуриаторы собирались писать особенно подробно. Таким образом, после проповеди
христовой интрига всемирной истории сложилась моментально и более уже не
прекращалась.
Центуриаторы указывают, что после достаточного, но не слишком пространного
(mediocriter)
изложения
«внешнего»
состояния
церкви
нас
ждѐт
описание
«внутреннего»446. Впервые в церковной историографии провозглашается, что объектом
исследования достойно стать не только то, относительно чего авторитетные церковные
писатели соглашаются друг с другом, но и то, что вызвало их споры, рождѐнные
столкновением мнений ошибки и разногласия, понимаемые как однозначный ущерб для
единства мнений (corruptelae).
Отдельную речь центуриаторы собирались вести о ересях, причѐм не о вызванных
ими событиях внешней истории, а об их учениях и о тех положениях, в которых они
расходятся с «генеральной линией» (sincera doctrina). Никакого снисхождения к еретикам
не будет: они однозначно трактуются как внутренние враги Церкви. И всѐ же читателю
будет даваться возможность самостоятельно судить о том, в каких положениях еретики
противоречат «божьей истине». Это положение тоже имело для центуриаторов
программное значение. Дело в том, что римская Курия обвиняла Лютера и его
последователей в ереси, и чтобы отвести такое унизительное для новой философии
религии обвинение, требовалось не просто создать историческое произведение (см. выше),
но и категорически отмежеваться от множества еретических учений предшествующих
эпох.
Интересно, что установка на изучение ересей как «вещи в себе» натолкнула
центуриаторов на новые классы источников, о которых предшествующие историки не
имели даже отдалѐнного представления. Например, было замечено, что церковный
церемониал не остался неизменным и носит в себе следы изменения догмы. Отсюда
следует, что его следует изучать как явление, имеющее своѐ рациональное объяснение.
446
EH I, p. βi. “His externis explicatis mediocriter, interior et propinquior Ecclesiae forma ac ratio proponeretur”.
227
Помимо церемониала, изменялась и система управления церковью (politia), которая также
вбирала в себя новые элементы светского характера (metamorphosis quaedam Ecclesiastici
regiminis in ciuile aut mundanum tentata): Флаций Иллирик в «Предисловии» осознаѐт эти
изменения во времени и считает их вполне достойным исследования сюжетом. Были
также отмечены расхождения между учениями отдельных крупных церковных писателей,
которые в «Центуриях» впервые были восприняты как закономерное явление,
развивающееся по определѐнным закономерностям.
Разумеется, заявленная на самых первых страницах «Центурий» проблематика не
ограничивалась только новаторскими темами, однако они занимали наиболее видное
место. Кроме них, в «Центуриях» должны были присутствовать и более привычные глазу
тогдашнего читателя сюжеты – рассказы о святых и мучениках, о чудесах, «которыми
Господь украсил свою Церковь», а также об изменении политической картины мира (de
mutationibus imperiorum politicorum). Это последнее вполне нивелировало различия между
историей христианской Церкви и общей историей христианских земель и даже всеобщей
историей.
Наши представления о сути «Центурий» определяются их практической ценностью
для ведения полемики против римской Курии; при анализе этого произведения обычно
делаются оговорки, подчѐркивающие несоответствие книги принятым в те времена
канонам исторического произведения, а также нынешним представлениям. Между тем,
центуриаторы не только называют свою работу «Историей», но и всячески подчѐркивают
еѐ принадлежность к этой сфере гуманитарного знания. В предисловии (с. 4) говорится,
что авторы книги не стремятся собрать факты сами по себе, а предлагают общую картину
– Церковную Историю. Основополагающими в этой истории являются деяния Господа, а
задача историка, в общем, проста – разъяснять важнейшее из того, что Он предпринял для
достижения своих целей. При этом, считают центуриаторы, современные историки никак
не могут уступать древним. Если языческие авторы подробно описывают высказывания
великих людей, а также «формы правления, законы, декреты, конституции, письма, речи и
деяния», то это тем более уместно в истории церковной, «где учѐность и другие подобные
качества имеют тот же самый смысл». При этом, правда, не следует соперничать с
политическими историками в описании событий внешней истории: это не будет полезно
для церкви, а значит, будет поводом для всяческих обвинений. Одновременно приходится
отказаться и от занимательных фактов, которые не имеют отношения к основной теме:
228
они «доставляют некоторое удовольствие любопытному уму, однако расстраивают вкус и
приводят в беспорядок память»447.
Зачем центуриаторы пишут свою книгу? Свою основную цель они видят в
создании целостной картины церковной истории, которую благодаря «Центуриям» можно
будет «держать перед глазами, будто нарисованную на картине». Они будут доказывать
единство всей христианской церкви, основанной на общих принципах единым
основателем, а также покажут, что учение, распространившееся в церкви в последнее
время, соответствует изначальному. Всѐ появившееся позже будет рассмотрено в
хронологическом порядке, по мере возникновения: претензии римского епископа на
первенство, детали богослужения, нововведения культа (такие, например, как поклонение
мощам и т. п.). Отдельно будут обсуждаться «признаки истинной Церкви» и «признаки
ложной» - то, что можно будет непосредственно использовать в идеологическом споре с
Римом, не прибегая даже к посредству исторической информации и аргументов. Таким
образом, одним из важнейших качеств «Центурий» планировалось сделать полезность
книги даже для дискуссии вне историко-церковного поля. Разумеется, значительное место
в книге планировалось отвести и «длани Господней» - проявлениям благодати,
снизошедшей на различных выдающихся мужей Церкви, о карах, постигших как
«фальшивых и фанатичных учителей», так и тех, кто должен был бороться против
искажений, но не делал этого.
Можно только догадываться, каким интересным их сочинение обещало стать для
читателя, прочитавшего «Предисловие». Он заинтригован! Оказывается, Евсевий во
всеуслышание объявлен не вполне удовлетворительным, а с ним – и череда популярных
его продолжателей448 (Созомена, Сократа Схоластика и Феодорита в первую очередь).
Оказывается, кто-то может взяться за новое изложение материала, уже описанного когдато великими классиками: на этом материале будет построено новое, не виданное доселе
здание церковной истории многих столетий, прошедших после создания классических
греческих историй. Эта история будет доведена до современности, а базой для еѐ
написания еѐ будет то, что ранее никто и никогда не принимал в расчѐт: эволюция
христианской Истины! Изменения в вероучении, содержание ересей, споры между
447
EH I, p. βiii. “Confusio seu narratio uariarum rerum in historiis, potest quidem aliquid delectationis afferre
curiosae menti, sed iudicia perturbat, et memoria”.
448
Свидетельство популярности этих авторов среди читающей публики – большое количество переизданий.
Любопытно, что сам издатель «Магдебургских Центурий» Иоганн Опорин незадолго до выхода первого
тома переиздал в одном томе все самые популярные «Церковные истории», в том числе знаменитую
«Трѐхчастную историю» (Historia Tripartita, составленная из текстов Созомена, Сократа и Феодорита). Это
издание способствовало подогреванию читательского интереса, готовя рынок к выходу новой истории
Церкви – скандальные слухи о ней уже просочились. С другой стороны, издание именно у Опорина не
имело прямого воздействия на рынок (при большом количестве сравнительно недавно вышедших других
изданий).
229
церковными авторитетами – всѐ это раньше тщательно замалчивалось официальными
церковными авторами, а те, кто пытался им печатно возражать, ещѐ не применяли
системный подход. Наконец, менее значительные факторы (такие, например, как
изменения в церковном церемониале или эволюция органов церковного управления)
иллюстрировали главную идею лютеранства в таком неожиданном и новом ракурсе, что
проявляющиеся при этом свете истины приобретали особую очевидность, казались
совершенно бесспорными. Выход «Центурий» был долгожданным событием; читатель,
наконец получивший первый том в руки, читал «Предисловие» и снова осознавал
новаторство
книги,
глобальность
подхода,
смелость,
отрицание
традиционных
авторитетов, критический дух по отношению к предшественникам и всякого рода
«официальным точкам зрения»!
После «Предисловия» в книге помещѐн «Метод» - перечень глав, на которые будет
разбит каждый том. Ещѐ Флаций с Нидбруком априорно решили, что каждое столетие
прошлого даѐт достаточно информации для того, чтобы заполнить соответствующие
ячейки заранее составленной и продиктованной, конечно, идеологическим императивом
матрицы. «Метод» - это и своего рода указатель, являющийся главным стержнем
«Центурий», ключом к пониманию всего огромного сочинения, сложного и длительного
предприятия. После знакомства с ним становится понятным, что «Центурии» не
предназначались для чтения целиком или большими фрагментами (в отличие от
«Церковных анналов», о которых речь пойдѐт ниже). Материал, из которого
формировались «Центурии», изначально планировалось препарировать таким образом,
чтобы он, лишѐнный логической последовательности и целостности, был при этом легко
находим. Опираясь на «Метод», можно было найти информацию по любому аспекту
церковной жизни (или сосуществования церкви и государства), если дата события
приблизительно известна. Как мы знаем, центуриаторы ранее заявили о своѐм намерении
написать «историческое сочинение», то есть нечто связное и предназначенное для чтения;
одновременно они дают ключ к интерпретации сложнейшей фактологической «мозаики» с
помощью «Метода». Налицо явное противоречие, которое легко разрешается: слова об
«историческом сочинении» - это обязательная фигура речи, это расположение своего
труда «в линию» с Евсевием и его непосредственными продолжателями, но никак не
характеристика основного текста в жанровом отношении. В конце каждого тома давался и
подробный географический и именной указатель (в первой части первой Центурии,
посвящѐнной евангельским событиям, имелся ещѐ и указатель отсылок на текст Библии).
Рассматриваемый нами труд был задуман как «готовый к употреблению» подсобный
230
материал, возможно, как готовые фрагменты текста для других сочинений, уже
подготавливаемых с конкретной целью участия в спорах.
Удалось ли центуриаторам выполнить все заявления, приведѐнные во введении?
Конечно, точный ответ на этот вопрос может дать лишь подробный анализ содержания
«Центурий» тезис за тезисом – анализ, до сих пор так и не произведѐнный историками.
Вес «Центурий» в глобальном историографическом процессе различается в зависимости
от взгляда на этот процесс, от эпохи, из которой этот взгляд бросают в глубь веков.
Постановка себя в ряд историков Церкви, начинающийся с Евсевия, и одновременный
разрыв с традицией предшественников полностью себя оправдали. Исследователи более
поздних эпох – Штойдлин, Баур, Лебедев, Нигг, Майнхольд449, а также авторы множества
работ с меньшим охватом материала – при изложении материала следуют схеме,
фактически
предложенной центуриаторами
во введении. Согласно этой
схеме,
историография Церкви начинается с Евсевия, развивается авторами «Трѐхчастной
истории» и некоторыми другими продолжателями, а затем застывает вплоть до появления
«Центурий». Разумеется, более поздние исследователи в той или иной мере отдают
должное и дискуссии с католиками, порождѐнной «Центуриями» непосредственно.
Важнейшим элементом определения места нового проекта в общественной жизни и
в церковной полемике была целая система «Посвящений». Посвящения были
предпосланы каждому тому-«центурии», а в первой центурии, разделѐнной на две
«книги», были предусмотрены отдельные посвящения для каждой, и всякий раз,
разумеется, разным лицам. Масштаб светских политических деятелей, охватываемых
этими посвящениями, не только различен; он имеет также собственную динамику.
Странным образом персоны, упомянутые в «Посвящениях», ни разу не привлекали
внимание позднейших исследователей, и мы сделаем первую попытку обобщить
полученную информацию.
Первая центурия посвящена «Христиану и его сыну Фридриху», королям Дании,
Норвегии, «готов и генетов», герцогам Шлезвигским и Эльзасским, государям
Дитмархским, графам Ольденбургским и Дельменхорстским и пр. Датский король
Кристиан III умер как раз во время подготовки к печати первой Центурии, и в память о его
обещаниях, а также в надежде на верность отцовским принципам наследника престола
Фредерика II центуриаторы решили прославить его в первом посвящении. Конечно,
449
Stäudlin C. F. Geschichte und Literatur der Kirchengeschichte. Hannover, 1827; Baur F. Ch. Die Epochen der
kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen, 1852; Лебедев А. П. Церковная историография в главных еѐ
представителях с IV по XX в. СПб., 1903; Nigg W. Die Kirchengeschichtesschreibung. Grundzüge ihrer
historischen Entwicklung. München, C. H. Beck, 1934; Meinhold P. Geschichte der kirchlichen Historiographie.
Freiburg, 1967.
231
довольно странно видеть среди адресатов посвящения недавно умершее лицо, но сами
центуриаторы ещѐ не знали, какой вариант поиска спонсоров окажется наиболее
эффективным. Помимо датских королей, был отмечен и шеф покойного Нидбрука
Максимилиан – будущий император Священной римской империи, а пока – «лишь»
король Богемии, эрцгерцог австрийский, герцог Бургундии и Силезии, маркиз Моравский,
граф Тирольский и.т.д. Подробное перечисление титулов и корон – не только абсолютно
необходимый в ту эпоху этикет, но и средство, могущее охладить пыл у критиковкатоликов. Второе посвящение, конечно, было необходимо для того, чтобы воздать
должное человеку, с чьего благосклонного согласия Нидбрук вложил в проект столько
сил.
Вторая
книга
первой
Центурии
посвящена
Отто
Генриху
стольничему
(Archidapifer) Священной Римской империи, курфюрсту, графу Рейн-Пфальцскому, князю
Баварскому и т. д., а также Августу, Священной Римской империи архимаршалу и
курфюрсту, герцогу Саксонскому, ландграфу Тюрингскому и прочая и прочая. Эти лица
сыграли особую роль в подготовке издания, и о ней мы скажем ниже. Вторая центурия
была посвящена представителям местной феодальной власти. Книга посвящена Иоганну
Фридриху II, Вильгельму, Иоганну Фридриху Младшему – братьям, герцогам
Саксонским, ландграфам Тюрингии, бургграфам Магдебургским; Иоганну Альберту и
Ульриху герцогам Мекленбургским (Megapolensium), князьям Вандальским, графам
Шверинским, Ростокским и Штаргартенским; Вольфгангу, князю Анхальтскому, графу
Асканскому,
государю
Бернбургскому
и
пр.
Эти
князья
обеспечили
своей
благосклонностью саму возможность работать над книгой в Магдебурге, и, конечно,
признательность авторов должна была быть отмечена. Центурия третья посвящена
«щедрым и прославленным господам» Вильгельму, графу Нассау, Катенельбогена и
Дитца; Гюнтеру, графу и государю Шварцбургскому; Гебхарду, Альберту, Иоганну
Георгу и Иоганну Альберту, Вольраду сыну Альберта, Христофору сыну Гебхарда графам Мансфельдским, государям Шраппелау и Хельдрунгена и пр., а также Людвигу,
Генриху, Альберту Георгу, Вольфгангу Эрнесту, Бодону, Иоганну и Генриху – графам
Штольбергским,
Кѐнигштайнским,
Рутцефортским,
Вернигеродским,
государям
Эпштейнским, Минценбергским, Бройбергским и пр.
Количество лиц, упомянутых в посвящениях, растѐт, но вес каждого из них
невысок и до поры до времени имеет тенденцию к уменьшению. Кто эти люди? Это,
конечно, спонсоры и потенциальные политические покровители: как мы увидим при
анализе содержания книги, оно подразумевало резкое обострение конфликта с Римом, а
значит, появление физической опасности для его авторов. Спонсорство подобных
232
проектов – очень интересное явление; прежде всего, это результат длительной эволюции
этических взглядов на взаимоотношения историка и государя, начавшейся трудами
Петрарки и продолжавшейся уже более двух столетий. Помещение имѐн и титулов мелких
(но большей частью всѐ же формально политически независимых!) владетелей – это
«билет в бессмертие» нового образца. Он сменил старый, со времѐн Петрарки
беззастенчиво
навязывавшийся
некоторыми
гуманистами
своим
мелкопоместным
покровителям: в эпоху Возрождения случалось, что историки описывали деяния своих
спонсоров с пафосом и размахом, достойными Тацита, Ливия или Светония450. Если в
XIV-XV веках отдельные деятели Возрождения непосредственно возвеличивали деяния
своих меценатов и это считалось допустимым, то в середине XVI века неприкрытая лесть
и непропорциональная заслугам пафосность воспринимались как безвкусица и в солидном
издании, посвящѐнном к тому же проблеме всемирно-исторического масштаба, появиться
не могли. И всѐ же спонсорам «Центурий» было мало торжества абстрактной идеи на свои
деньги: они хотели и увековечивания своего имени в той форме, в которой это делалось в
«Центуриях», с титулами «щедрых и прославленных господ». Со своей стороны, ища
спонсоров, центуриаторы продавали идею, стремились сделать имеющий огромное
мировоззренческое значение проект наиболее привлекательным для тех, для кого это
значение могло быть и не столь важным.
Мартина Хартманн отмечала: «Вопрос о спонсорах предприятия очень сложен,
поскольку, вероятно, просьбы о поддержке были в основном устными и адресованными
лично, а возможная передача средств также вряд ли отражалась в переписке, поскольку
она могла быть перехвачена, и этого боялись даже в эпоху Поздней Реформации»451.
Последнее замечание маловразумительно, поскольку, как мы знаем из упоминавшихся
выше публикаций еще XIX века, переписка была очень интенсивной, и в ней нашли своѐ
отображение самые разнообразные, даже довольно деликатные аспекты работы. С другой
стороны, Нидбрук подписывался псевдонимом и в качестве места отправления письма
указывал «Утопию». Ему действительно приходилось принимать меры конспирации,
впрочем, довольно элементарные.
Вероятно452, основным спонсором на этапе подготовки и начальной публикации
был курфюрст Отто Генрих Пфальцский (1502-1559), которому (наряду с курфюрстом
Августом Саксонским) была посвящѐна 2-я часть 1 тома, вышедшая в 1560 году. Отто
450
Это явление было блестяще описано, в частности, у Георга Фойгта. См. Фойгт Г. Возрождение
классической древности, или Первый век гуманизма. В 2 тт. М., 1884, 1885.
451
МС 1, S. 59-60.
452
Эту гипотезу также высказывает М. Хартманн (МС 1, S. 60). Правда, Хартманн ошибочно указывает на 2
центурию и 1560 год выхода.
233
Генрих был очень набожным государем и в молодости даже совершил паломничество в
Святую землю. В 1542 году он не только сам перешѐл в лютеранство, но и распространил
его на своих подданных в Пфальц-Нойбурге, а с 1557 оно было распространено на всѐ
курфюршество. Главной заслугой его стало собирание книг. Собранная к концу жизни
коллекция – знаменитая Bibliotheca Palatina – была одним из богатейших собраний своей
эпохи, ставшим желанной добычей католической армии в 1622 году, в ходе
Тридцатилетней войны. Поддерживая проект «Магдебургских центурий» сначала
книгами, а затем – и деньгами, Отто Генрих руководствовался гуманистическими
представлениями о необходимости покровительствовать искусствам и гуманитарным
наукам; эти представления требовали огромных материальных затрат и практически
полностью отвлекли графа от других традиционных для светского государя занятий.
Курфюрст испытывал особое расположение к Флацию и в 1557 году даже пытался
переманить того к себе в Гейдельберг на преподавательскую работу. Это обеспечило бы
Флацию личное благополучие, но затруднило бы работу над проектом. Флаций отказался,
что, впрочем, не помешало ему вскоре переехать в гораздо менее удалѐнную Йену.
Тенденция благодарить в «Посвящениях» тех, кто помог проекту деньгами или
предоставлением личной библиотеки, прерывается в 4 центурии: еѐ адресатом является
Елизавета (1533-1603), «королева Англии, Франции и Ирландии». Елизавета стала
королевой в самом конце 1558 года; 4-я центурия увидела свет в 1560-м. Разумеется,
«Посвящение» содержало исчерпывающую информацию, оправдывающую обращение к
венценосной особе, ничего проекту пока не давшей. Дело всѐ в том, что Британия, без
сомнения, является богоизбранной страной453. «Ибо некоторые утверждают, что»454
Иосиф Аримафейский, снявший тело Иисуса с креста «среди такой злобы иудеев» и
предавший его погребению, «примерно в 63 году по Р. Х.» прибыл в Англию, где с
ревностным усердием основал град нового духовного Рая. Конечно, такое обращение к
королеве было вынужденным исключением из общей стратегии поиска адресатов
отдельных центурий. Только что взошедшая на престол королева и до коронации была
известна своими симпатиями к протестантизму; год с небольшим ушѐл на подтверждение
этих симпатий, выяснение желательности такого посвящения, наконец, на печатание
453
Est autem Britannia quoque inter eas regiones, quae statim post exhibitum Messiam, lucem Verbi divini accepit:
& quam Deus hoc honore dignatus est, ut in ea Paradisum spiritualem plantaret atque excoleret. EH IV, Epistola
Dedicatoria, p. 7.
454
“Sunt enim qui affirmare non dubitent...” Ibid. Эта фраза сама по себе в состоянии обнаружить
искусственную притянутость этого аргумента, который упоминается только в «Посвящении» 4 тома. Ни в
одном из мест 1 тома (вышедшеговсего годом ранее!), где речь идѐт о деяниях Иосифа Аримафейского, нет
и тени упоминания о его поездке в Британию, при том, что, например, авторы обнаруживают знакомство с
апокрифическим Евангелием от Никодима. См., например, EH I, p. I Col. 362.
234
книги. Казалось бы, материал IV века не даѐт никакого повода сделать особенный акцент
на английских делах, в то время как более естественным могло бы стать ожидание выхода
томов, где такие маркетинговые ходы были бы более оправданы тематически. Однако в
первые годы издания центуриаторы тяготели к обращению к величайшим коронам
протестантской Европы, и каждая возможность должна была быть использована. В
данном случае центуриаторы подхватили утверждение Евтропия о том, что Константин
родился в Британии455, а этот факт случайным быть никак не может.
Впрочем, Британия выделяется среди других стран не только как родина
Константина. Не следует сбрасывать со счетов и еѐ историческую близость Германии.
Многие факторы прошлого были общими для двух стран, к тому же их объединяло
противостояние Риму, и поэтому протестанты Германии чувствовали к Англии особую
симпатию. Пытаясь найти этой симпатии рациональное объяснение, центуриаторы
прибегнули даже к такой категории, как «естественное право». Этими словами в
«Посвящении» королеве они назвали то общее, что появилось в законодательстве «самых
процветающих языческих государств» на основе Второй таблицы Декалога. Божественное
Провидение,
очевидно,
создало
моральную
базу
для
дальнейшего
торжества
протестантизма в Англии, а также в других «процветающих языческих государствах». Мы
присутствуем при попытке выделить общие качества, присущие народам, первыми и
наиболее полно воспринявшими идеи протестантизма.
Маркетинговая стратегия четвертого тома «Центурий» была продолжена в пятом
(1562). Во-первых, надо было закрепить связь между выходящей книгой и ведущими
коронами протестантской Европы: эта связь была пока неустойчивой и скорее
эмоциональной, чем конкретно-материальной, однако авторам, возможно, казалось, что еѐ
можно консолидировать, попутно решив проблему материальной стороны проекта. Вовторых, самолюбие королевы могло быть задето тем фактом, что она в качестве объекта
для «Посвящения» оказалась в компании лиц, расположенных на феодальной лестнице
значительно ниже неѐ. Пятая центурия посвящена королю Швеции (а также «готов и
вандалов») Эрику XIV (1533-1577), находившемуся на троне с 1560 по 68 гг. Обращение к
королю было выдержано в значительно менее эмоциональном тоне, чем предыдущее
обращение к королеве; оно построено главным образом на представлении о
неотвратимости божьей кары за различные преступления против учения Христа,
совершѐнные Церковью. Лично монарх упоминается только в самом конце. Центуриаторы
говорят о высоком авторитете адресата среди истинно верующих христиан, о полезности
455
См. EH IV, Epistola dedicatoria, p. 10 и EH IV, col. 61; см. также Римские историки IV века. Москва,
РОССПЭН, 1997. С. 67.
235
своей книги. После должных ссылок на Давида и Исайю (говоривших об авторитете
царской власти) авторы позволяют себе крайне осторожно намекнуть на желательность
помощи456.
материальной
Сопровождаются
намѐки
обычным
для
большинства
«Посвящений» лейтмотивом существования при адресате неких «клеветников», которые
распространяют лживую информацию о книге. Эту клевету и должен рассеять подарок –
экземпляр тома, в виде которого то или иное «Посвящение» вручалось адресату.
Смелый маркетинговый ход не дал результата. Оба монарха не только не выказали
поддержки проекту, но и вообще в своей практической деятельности воздержались от
обязывающих шагов на конфессиональном поле. Эксперимент не удался, и центуриаторы
возвратились к стратегии, опробованной в третьем томе. Шестой, седьмой и последующие
тома были посвящены малоизвестным и совершенно неизвестным спонсорам, мелким
феодалам, а также частным лицам. Из общего ряда снова выбивается 11-я Центурия,
посвящѐнная толпе «мудрейших, светлейших и славнейших мужей, господ консулов и
сенаторов» и вообще «всей республике и церкви» Линдау, что на Боденском озере. Этот
крохотный городок был известным форпостом евангелической веры на Юге Германии, но
это не главное: он стал единственным городом, официально оказавшим материальную
поддержку проекту. Почин показался многообещающим, и его необходимо было всемерно
поддержать, прославив посвящением в отсутствие более материально обусловленных
кандидатур.
На наш взгляд, самыми интересными объектами «Посвящений» стали как раз
безвестные персоны, не облечѐнные светской властью даже в минимальном масштабе. Их
присутствие
в
«Посвящениях» становится
преобладающим
начиная
с
7
тома
(исключением, как уже говорилось, был том 11-й). Среди нескольких десятков этих людей
мы встречаем дипломатов и медиков (8-я), группу «граждан Нюрнбергской Республики»
(там же), маршалка Гессена (10-я), а также массу лиц, сословную принадлежность
которых выяснить очень затруднительно. Проект был рассчитан на поддержку не
государей и не церковных лидеров, а представителей интеллигенции, чиновников, даже
знатных горожан. В различных германских городах зарождается интеллектуальная среда,
особый слой населения, отдельные представители которого в исторической перспективе
лишены интеллектуальной индивидуальности: речь не идѐт о религиозных лидерах или
авторах сочинений. Этот слой становится заметен только при достижении определѐнной
массовой доли, и, видимо, в середине XVI века в Германии необходимый процентный
456
“Petimus igitur quanta possumus subjectione, ut R. T. M. hunc nostrum laborem, difficilem certe, et maximos
sumptus requirentem, ut omnes pij facile iudicare possunt, sed (ut speramus) Ecclesiae Christi salutarem, sereno
vultu accipiat, et istos pios conatus adiuvet”. EH V, Epistola dedicatoria, p. A4.
236
уровень уже был достигнут, и была создана важнейшая предпосылка для дальнейшего
развития гражданского и национального сознания.
В своѐм знаменитом эссе457 Роже Шартье нарисовал в целом однородную картину
иерархически ориентированных отношений между авторами и венценосными адресатами
своих текстов.
Авторы «подносят» монарху своѐ творение, «ищут покровительства»,
пытаются «снискать его благосклонность»… Возможно, французский материал позволял
Шартье сделать его выводы, но при знакомстве с результатами его работ необходимо
держать в голове специфику парижской картины. Мощная централизация власти,
контроль короны за книгоиздательской деятельностью, относительная слабость церковной
цензуры вне собственно церковного книгопечатания – всѐ это выделяло Францию даже
среди сохранивших верность католичеству государств. Развернувшаяся в английской
историографии дискуссия не дала чѐткого ответа на вопрос о реальной роли
покровительства адресатов (пресловутого «патронажа») в складывании книжного рынка,
но именно в рамках этой дискуссии впервые в данный контекст были введены различные
понятия из сферы сегодняшнего бизнеса458. «Магдебургские центурии» не дают повода
думать, что их авторы стремились «снискать благосклонность» своих адресатов вне
вполне осязаемой материальной поддержки своего проекта. Проще говоря, перспектива
просить денег на продолжение работы не заставила Флация обратиться к практике
восхваления государей или даже к какому бы то ни было определению иерархического
превосходства своих адресатов. С другой стороны, мы обязаны отметить, что
«Посвящения» максимально выделены на фоне основного текста «Центурий»; это
выделение достигнуто не только размером шрифта или расположением в книге, но и при
помощи инструментов стилистики. Ирония, сарказм, остроумные метафоры, обыгрывание
омонимов и другие риторические приѐмы, вкус к которым обнаружили ещѐ гуманисты, всѐ это обильно присутствует в тексте «Центурий», но совершенно прекращается в
«Посвящениях». Панегириками эти «Посвящения» тоже не становятся: авторы знают себе
цену и не унижают себя, чрезмерно восхваляя адресатов. Скорее «Посвящения» выражают
надежды на дальнейшую поддержку, убеждают адресатов в том, что благое дело зачтѐтся
на Страшном Суде. Оценка поддержки проекта как мероприятия, важного для судьбы
каждого могущественного христианина, в той или иной форме присутствует на первых
страницах каждого тома; при этом авторы, конечно, не позволяют себе никакой иронии
457
Chartier R. Le prince, la bibliothèque et la dédicace. In: Le Pouvoir des bibliothèques: La mémoire des livres
dans la culture occidentale. Sous la dir. de M. Barantin, C. Jacob. Paris, Albin Michel, 1996. P. 204-223. См. рус.
текст «Патронаж и посвящение». В: Шартье Р. Письменная культура и общество. М., 2006. С. 78-101.
458
Rutter R. William Caxton and Literary Patronage. In: Studies in Philology. Vol. LXXXIV (1987), n. 4, P. 440470. Edwards A. S. G., Meale C. V. The Marketing of Printed Books in Late Medieval England. In: The Library.
Vol. 15 (1992), N. 2, P. 95-124.
237
даже в адрес противников. Текст «Посвящений» пишется для людей авторитетных и
серьѐзных, в словесных экивоках не искушѐнных; принятые в основном тексте приѐмы,
понятные подкованным в гуманитарных науках богословам, проповедникам, студентам,
здесь просто не уместны459.
Главной целью «Посвящений» как элемента паратекста следует считать попытку
консолидации
лютеранского
лагеря,
нецеленную
на
преодоление
сословных
и
национальных барьеров. «Посвящения» показывают нам, кроме того, стратегию подбора
спонсоров проекта, а также детали обещания вечной славы и признательности
единомышленников. Спонсорская поддержка проекта действительно обещала «билет в
бессмертие», поскольку на начальном этапе работы у авторов не было сомнений в полном
и
безоговорочном
успехе
своей
миссии.
Затем
масштаб
личностей
адресатов
«Посвящений» заметно уменьшается; единая стратегия уступает место попыткам найти
поддержку то у одних, то у других социальных групп. Это было свидетельством кризиса
проекта, падения его популярности и общего снижения к середине 70-х годов XVI века
актуальности исторического дискурса для богословского диспута. Прекращение выпуска
последних томов стало отчасти следствием провала именно этой стратегии. Отметим
также отсутствие попыток вовлечь в число единомышленников представителей других
протестантских конфессий (например, кальвинистов), а также отказ от поиска
компромисса с католическим лагерем, полностью соответствующий тональности
основного текста «Центурий».
459
Наше внимание привлекла фраза, подчѐркивающая познавательную важность церковной истории: «Она
учит, что человек появился на свет не случайно, не из грязи под действием солнечных лучей, как мыши из
комьев гнили (как некогда говорили философы), а согласно собственному плану Господа и благодаря
удивительному его могуществу» EH I 1, p. α2v. Оказалось, что замечание о мышах – это не риторическая
фигура, не пример позднеренессансного красноречия, а реальное свидетельство о распространѐнных в XV
веке представлениях о происхождении жизни на Земле! Перед нами отголосок теории Аристотеля о
самозарождении жизни, противоречившей христианской доктрине, но никогда полностью не исчезавшей из
коллективных представлений. В других сочинениях по церковной истории подобного встречено не было.
238
§5. Историческая концепция «Центурий»
Начало
исторического
полотна
«Магдебургских
центурий»,
отправная
хронологическая точка и в то же время идеальный порядок, не подлежащий критике или
даже сомнениям, - это евангельская история. Главным содержанием исторического
процесса авторы «Центурий» видят накапливающиеся прискорбные перемены в облике
Церкви, определяющие все происходящие в современности и в будущем события.
История воспринимается как нечто имеющее начало (в случае с историей Церкви –
Первое пришествие, а в более широком смысле – Творение) и конец. О конце истории мы
можем судить лишь по замечаниям, оброненным в тексте «Центурий» - завершающий их
том так и не был написан. Тем не менее, окончание исторического полотна должно было
приходиться не на современные авторам события, а на будущее в их восприятии. Это
будущее виделось им как краткая предыстория неизбежного Страшного Суда, который не
только станет завершением основного сюжета их исследования (Божественного замысла),
но и проиллюстрирует абсолютную верность вынесенных в их книге оценок. Одним из
наиболее важных событий, предваряющих скорый конец света, была проповедь Мартина
Лютера. Мы уже отметили постановку этого неожиданного для нас хронологического
предела в паратексте; осталось лишь отметить, что события грехопадения Церкви
рисуются на тысячах страниц «Магдебургских Центурий» столь драматично, что, с одной
стороны, перспектива Страшного Суда не рисуется как что-то действительно
устрашающее праведников, а с другой, временной промежуток, отделяющий тех
читателей, для которых книга писалась (то есть современников), от евангельской эпохи,
казался настолько больше остающегося времени, что последним можно было почти
пренебречь. Увы, нам сложно судить о перспективах развития Церкви в представлениях
Центуриаторов – том книги, посвящѐнный XVI веку, так и не был написан.
Бросается в глаза отсутствие в «Магдебургских центуриях» иной периодизации,
помимо формального деления истории на столетия: других критериев, кроме формальнохронологических, центуриаторы не выдвигают. В их тексте не только отсутствуют
термины «античная история», «Средние Века» и им подобные, но даже не формулируется
потребность в такого рода крупных эпохах. Есть единый исторический процесс
трансформации церкви, рассмотренный по отдельным столетиям ради хронологической
точности. Этот процесс представлен более или менее равномерным и постепенным;
наблюдающееся «сгущение красок», изменение общей картины (иллюстрируемое
уместностью всѐ более и более ярких и жѐстких эпитетов) может быть увидено только при
переходе от одного столетия (то есть одного тома) к другому. Поскольку другие
239
периодизационные критерии не выдвигаются, рассуждать о «концепции средневековья» в
«Центуриях», как это делают некоторые коллеги460, представляется не вполне
корректным. На пути демонстрации того, как разворачивается основной процесс истории
церкви, еѐ отход от «древних доблестей», нет никаких промежуточных остановок.
Авторов не заботит также усвояемость материала читателями. Во-первых, книга
задумывалась не для сквозного чтения, а еѐ единообразная структура гораздо лучше
годилась для пользования в качестве справочника; во-вторых, основная концепция должна
была быть ясна читателю с самого начала (практически после паратекстов первого тома),
а дальнейшие века были призваны проиллюстрировать общий ход событий своим
материалом. С другой стороны, на этой долгом историческом пути мы можем определить
основные поворотные пункты, которые облегчат нам рассмотрение основной концепции.
Предлагаемая нами в настоящем исследовании периодизационная граница между 5 и 6
центурией наиболее логично вытекает из этой концепции и, по нашему убеждению, в
наибольшей степени соответствует замыслу авторов.
Ситуация первого века христианской эры рассматривалась центуриаторами как
образцовая. В самом деле, если общий политический облик эпохи, внутреннее состояние
Римской империи было далеко от идеала, «положение Церкви» оценивалось по
совершенно другому критерию. Иисус Христос (помощью которого заручились авторы
«Центурий», обратившиеся к нему в первой главе своего произведения) оставил Церковь в
том состоянии, в котором она должна была оставаться в обществе многие столетия. Этот
момент реконструирован со всей возможной тщательностью. Постепенный отход от
идеала начал прорисовываться далеко не сразу; Апостолы (об этом речь во второй части
первой центурии) распространили Церковь вширь, не изменив еѐ положения в государстве
и роли в обществе. Первые пять столетий церковной истории – это эпоха, в течение
которой церковь преодолевала мощное идеологическое и политическое противодействие
империи, прокладывала себе путь к душам верующих, завоѐвывала массы. На протяжении
первых пяти томов «Центурий» общий характер истории остаѐтся неизменным, и на фоне
в целом соответствующего Писанию облика церкви некоторые негативные проявления не
имеют системного характера. Отход от идеального порядка станет совершенно очевидным
только к 6 центурии; пока накапливались лишь некоторые частные отклонения,
скрупулѐзно отмечаемые авторами книги.
460
Hartmann M. Humanismus und Kirchenkritik. Matthias Flacius Illyricus als Erforscher des Mittelalters. Stuttgart,
Jan Thorbecke Verlag, 2001. 336 c.; Bollbuck H. Testimony of true faith and the ruler’s mission: the middle ages in
the Magdeburg Centuries and the Melanchton school. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Bd. 101 (2010), S.
238-262.
240
Историческая концепция «Центурий» отталкивалась от восприятия первого века
(точнее, эпохи Христа и Апостолов, представленной в Новом Завете) как времени
образцового порядка, исторического идеала, от которого Церковь понемногу стала
отступать в последующие времена. Практически вся деятельность большинства христиан
– церковных авторов, принявших новую религию римских императоров, а затем всѐ более
широкого круга людей – вела к постепенному отходу от этого идеального порядка.
Два события в этой схеме имеют для авторов «Центурий» эпохальное значение –
поворот Римской империи в сторону христианства (часто символически именуемое как
«обращение Константина») и перемены VIII века, связанные с деятельностью Карла
Великого. Великое историческое полотно, которое центуриаторы успели довести до конца
XIII века, делится этими событиями на три мощных пласта, первым из которых является
история доконстантиновой Церкви. В исторической литературе в целом устоялось
мнение461 о том, что Древняя Церковь имеет для центуриаторов (и в целом для
лютеранской историографии) подчинѐнное смысловое значение и поэтому она была
исследована с меньшим вниманием и глубиной. Ирена Баккус недавно пыталась оспорить
этот тезис462, одновременно уточняя само понятие Древней Церкви и доводя его до конца
VI
века.
Началом
же
собственно
«церковной
истории»
для
замечательной
исследовательницы стал момент появления первых сочинений Отцов Церкви. Это
логично, особенно если принять во внимание, что первым признаком начавшегося
постепенного отхода от идеального порядка как раз стали различные «искажения»
(depravationes), проявившиеся как в появлявшихся из-под их пера сочинениях, так и
одновременно с этим в практике христиан и светских властей. Тем не менее,
концептуальное значение первого века христианской истории также очень высоко.
Первые три столетия церковной истории выглядят в «Магдебургских Центуриях»
как время благополучного развития Церкви, преодоления огромных пространств,
успешного преодоления первых гонений. IV век в целом также оценивается позитивно,
несмотря на то что начало его было отмечено гонениями Диоклетиана и деятельностью
Ария. Тем не менее, делаются важные оговорки: несмотря на общее «счастье и славу»,
покой Церкви был нарушен, с одной стороны, целым рядом еретиков, а с другой –
«бескрайним
461
множеством
мятежников»,
чьими
неразумием
и
неопытностью
Решающую роль в формировании этого положения (как и ряда других) сыграла фундаментальная книга
П. Польмана Polman P. L’élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle. Gembloux, 1932.
462
См. Backus I. Historical Method and Confessional Identity in the era of the Reformation (1378-1615), LeidenBoston, 2003.
241
воспользовался диавол для того, чтобы нарушить и смутить спокойствие церкви463. В IV
веке, наряду с описанием церковного церемониала (riti), появляется отдельно
«церемониал Римской церкви»464. С другой стороны, в отношении положения Церкви
внутри государственного устройства (так называемой politia) пока всѐ в порядке: в
частности, светские власти постоянно заботятся о том, чтобы к управлению церковью
назначались люди образованные, добропорядочные, испытанные, проверенные в
склонности к обучению465.
Главным содержанием церковной истории в IV веке центуриаторам виделось
невиданное развитие богословской мысли. В IV веке, «как ни в каком другом»466,
первоклассных богословов было великое множество – Арнобий, Лактанций, Евсевий,
Афанасий, Иларий, Викторин, Василий Великий, Назианзин, Амвросий, Пруденций,
Епифаний, Феофил Александрийский, Иероним, Фаустин, Дидим, Ефрем, Оптат
Милевитанский и другие. Причина этому заключалась не в развитии мысли и не в
нарождающихся школах, традициях и прочем, а только в том, что идеальный порядок
евангельской эпохи во многом был ещѐ жив. Таким образом, стержнем исторической
концепции вообще и первых веков в особенности для центуриаторов был не прогресс, а
консервативая ориентация на характеристику предшествующей эпохи: «И в этом веке
было велико почтение к Священному Писанию и его авторитет»467. В отношении
перечисленных выше церковных писателей центуриаторы считают вполне допустимым
использовать слово Patres, употреблявшееся среди последователей Лютера крайне
редко468. Они далеки от идеализации или представлении об особой благодати,
снизошедшей на этих авторов и стремятся оценивать их только сообразно истинности
высказывавшихся
ими
тезисов.
Всячески
подчѐркиваются
и
сравнительно
немногочисленные «ошибки» этих авторов – положения, с которыми их мировоззрение не
позволяло им соглашаться.
Несмотря на то, что основные церковные авторы IV века ещѐ заслуживают в глазах
центуриаторов почитания и уважения, описание их имеет ряд интересных особенностей.
Впервые
в
историографии
перед
историками
встала
проблема
классификации,
группировки и даже типологии церковного автора. Центуриаторы решают сгруппировать
Отцов в зависимости от географии их происхождения. Сначала они обещают
463
В оригинале – «infinita multitudo nominum factiosorum», буквально – сторонников отдельных партий;
можно приблизительно перевести как «раскольников». EH IV, c. 583.
464
EH IV, c. 477.
465
EH IV, c. 483 45-54.
466
EH IV, c. 160.3.
467
EH IV, c. 160 15-16.
468
Например, EH IV, c. 291 7-11.
242
«иерусалимских учителей», затем быстро переходят к антиохийским, затем – к группе
других восточных (в терминологии центуриаторов – «азиатских») священников. Особенно
подробно описаны биографии Евсевия Кесарийского (ст. 903-914), Григория Богослова
(914-929), Григория Нисского (929-939) и Василия Великого (939-959). Писатели
Восточной церкви, греческие Отцы рассмотрены с неменьшей тщательностью, чем
латинские, и ни один из них – будущих стлопов православия – не выделен особо на фоне
других. Из африканских учителей особенное место отведено Афанасию (1027-1053), из
Созомена переписывается вся корреспонденция, во-первых, самого Афанасия с
императорами, а во-вторых, императоров-соправителей о нѐм. Дидиму, Арнобию и
особенно почитаемому на Западе Лактанцию уделено гораздо меньше внимания. Из
«островных» Отцов объемностью описания выделяется Епифаний (ст. 1103-1114), из
европейских – Иларий (1133-1147), Амвросий (1147-1170) и Иероним (1206-1261). Св.
Иероним пользовался особым уважением у ученых церковников, и лютеране отдавали ему
должное – он, как и сравнительно недавно Лютер, переводил Священное Писание! Тем не
менее, центуриаторы не пытсются скрыть встреченных у Иеронима «субъективностей и
неточностей» (opiniones et naevi, 1247-1251). Чаще всего эти неточности вызваны
несогласием с толкованиями Иеронима, которыми он предварил каждую отдельную книгу
своего перевода. За отдельными претензиями центуриаторов скрывалось общее неприятие
принципа, согласно которому Иероним посмел сопроводить Писание комментариями,
причѐм далеко не только филологического характера.
На материале IV века центуриаторы не только отделяют от ортодоксального
христианства всех последователей Ария и даже тех, кто согласен с ним во
второстепенных вопросах, но и обнаруживают зачатки будущих глубоких расхождений
внутри ортодоксального лагеря, получившего поддержку императора и Никейского
Собора. Следует отметить, что глава «О схизмах» описывает не собственно
доктринальные расхождения, а механизм возникновения схизмы или механизм еѐ
обнаружения, методы борьбы со схизматиками (например, с донатистами – Константина).
Подмечаются все мелкие схизмы, например, «схизма Мелетия», 289, или новациан, 592.
Схизмой центуриаторы считают и любой спор, способный хотя бы отдалѐнно угрожать
единству Церкви. Этот момент представляет особый интерес в свете обвинений,
выдвинутых Римом против выступлений Мартина Лютера. Спор вокруг исчисления Пасхи
– тоже схизма (ст. 591), как и пересказанный Евагрием Схоластиком невинный, в общемто, спор между Евсевием и Евстафием. Последний конфликт разыгрался вокруг того, что
оба почтенных мужа обвинили друг друга в отходе от норм Никейского вероисповедания;
центуриаторам этого оказалось достаточно, чтобы выделить спор в отдельную «схизму»
243
(ст. 593-594). Видимо, важнейшим критерием, превращающим любое внутрицерковное
разногласия в схизму, Очевидно, схизмой признавался не любой конфликт вообще, а
только тот, фоном для которого было учение Ария.
Принято считать, что исторические личности удостаиваются на страницах
«Магдебургских Центурий» положительных оценок, если они являются правоверными
христианами и их отношение к Церкви соответствует взглядам авторов. В целом это
мнение верно, однако следует сделать существенные уточнения. Их суть станет ясна, если
обратить внимание на персону римского императора Диоклетиана. Его характеристика по
большей часть взята из сочинения церковной истории Евсевия Кесарийского. Гонения
Диоклетиана на христиан стали хрестоматийным анти-«эталоном», архетипом гонений
вообще и моделью для сравнения с политикой ряда других государей. Несмотря на целый
ряд отмечаемых в позднеантичной историографии личных достоинств императора,
преследования христиан не позволяют характеризовать этого императора положительно.
«Однако, как об этом писал Евтропий, умом и рассудком он был проницателен и изощрѐн,
изобретателен, строг и основателен. Благодаря этим достоинствам он сделал для империи
много полезного»469. Никакая из хорошо известных интеллектуалам Возрождения
многочисленных, смелых и не всегда удачных реформ этого императора не выступает
поводом для отрицательной оценки его как исторической личности. Проблема их
объективной оценки на страницах «Центурий», конечно, не ставится: они важны только
как средство, позволяющее оценить достоинства и недостатки личности императора.
Значительная часть ответственности за эти реформы перекладывается (в соответствии со
сказанным Евсевием470) на выбранного Диоклетианом соправителя Максимиана Геркулия
– мужа «дикого, грубого, коварного и жестокого, к тому же исполнительного в каждом из
жестоких замыслов Диоклетиана. Более того, в том, что касалось повседневного
поведения, он был также глуп и падок на наслаждения»471.
Добровольный отход Диоклетиана и Максимиана от верховной светской власти
был для центуриаторов чем-то из ряда вон выходящим. Они даже характеризуют
произошедшее как «редкое и удивительное событие», а его результат оценивают в целом
негативно и обозначают возникший у власти хаос, приведший к кровопролитным
столкновениям претендентов и победе Константина, словом πνιῠθνηξᾰλίε472. Характерно,
что если победа Константина оценивается как одно из важнейших событий IV века и
469
Ingenio enim fuit, ut Eutropius de eo scripsit, ac iudicio sagax et subtilis, solers, severus et diligens: quibus
virtutinus in imperio multa gessit salutaria. EH IV, col. 36 24.
470
См. «Церковная история», кн. 8, гл. 1.
471
EH IV, col. 36 24-28.
472
Слово из «Илиады», означающее букв. «многовластие». EH IV, col. 46 57-58.
244
истории вообще, как один из ярчайших примеров реализации Воли Божией, приведший к
ней кризис и его причины характеризуются как результат неудачных действий
Диоклетиана, действия которого были направлены против самого принципа единовластия.
В V веке кризис резко обострился. Центуриаторы не делали различия между
кризисом в светской и церковной сферах. Вообще для их восприятия истории характерно
отсутствие строгого разделения между этими сферами – оно станет отличительной чертой
более поздней католической историографии. Наиболее ярко можно проиллюстрировать
это положение взглядами центуриаторов на главную, по их мнению, причину кризиса V
века – натиск варварских племѐн. Историки, почти все из которых имели германские
корни, не отмечали культурных различий между римлянами и варварами, и в их
изображении падение Рима выглядело не катастрофой античного мира, а мощным ударом
по христианству. По их мнению, проблема была не собственно в варварах и не в
конкретных разрушениях или человеческих жертвах, а в принадлежности завоевателей к
язычеству или к арианской ереси. Таким образом, каждое их действие против Рима
трактовалось как направленное против христианской Церкви, совершѐнное в интересах
Антихриста. Отказ от целого ряда отличий между слоями общества, между культурным
уровнем народов и т. п. «размывал» картину прошлого, однако позволял центуриаторам
сделать важный, даже революционный для историографии своего времени вывод о
взаимосвязанности различных сторон исторического процесса между собой. В частности,
возвышение римских епископов (первые поползновения на привилегированное положение
в Церкви также датируется этим временем), бывшее важным элементом общего
исторического процесса, стало оборотной стороной ослабления светской власти Рима.
В 5 центурии не проводится никакого различия между восточными и западными
императорами, их деяния рассматриваются в единой схеме и под одним и тем же углом
зрения. Критерии праведности и неправедности, доблестей государственных мужей и
другие личностные параметры оценки абсолютно идентичны. И константинопольские, и
римские правители – это «императоры» без дальнейших различий между ними.
Важнейшее для нас событие V века – так называемое «падение Западной римской
империи» – в «Центуриях» было проигнорировано. Империя продолжила свою жизнь в
другой ипостаси, в сознании людей XVI века идентичной основной473. Об императорах
Востока часто говорится, что они «управляли империумом на Востоке» (Imperium in
473
Эта логика позволила в своѐ время П. М. Бицилли сделать парадоксальный на первый взгляд, но весьма
логичный вывод о несостоятельности «Падения Западной Римской империи» как исторического события.
Бицилли П. М. Падение римской империи. Одесса, 1919. 95 с.; Его же. Избранные труды по средневековой
истории: Россия и Запад. Москва, Языки славянских культур, 2006. 808 с.
245
Oriente administravit), то есть континуитет империи под сомнение не ставился. Таким
образом, очевидно, ничего не рухнуло!
Политические события, изображаемые современной нам исторической литературой
как катастрофа античного мира, в логике центуриаторов виделись проделками Сатаны,
обречѐнными разделить судьбу остальных его махинаций. Прежде всего, «варварские,
вандальские и другие племена», частью исповедовавшие язычество, частью – арианство
«или заражѐнные иными ошибками», стали в этом столетии «свирепствовать в отношении
Христова учения, а также всех верных сторонников благочестия». «Господь, однако, в
замечательной мудрости и силе своей не только укрепил своих сторонников, но даже
некоторых защитил и сохранил, а преследователям их воздал справедливым наказанием, и
тем самым доказал, что он сильнее диаволов и всех их слуг» (1.29-42).
Любопытно, что эти события – преследования христиан со стороны воинствующих
язычников или ариан – даже не являются единственной главной проблемой данного
столетия! Не менее важно для центуриаторов появление новых ересей – пелагианства, а
также учений Нестория и Евтихия. Важно и то, что именно в эту эпоху, по мнению
центуриаторов, начинается возвышение римских епископов над остальными. Нашлись,
правда, доблестные стражи (vigiles acres et strenuae), которые разглядели махинации и
«практически ухватили волка за уши», сумев отразить эту «безумную и злодейскую
попытку». Однако в V веке «Антихрист как бы зачал внутри себя нечто, что в
последующем столетии вышло подобно созревшему плоду» (2.8-19). Таким образом, если
центуриаторы не демонстрируют особой чѐткости в понимании причин и сущности
произошедшего между V и VI веками перелома, они тем не менее вполне определились с
датой этого глубокого изменения. «Спрятав» еѐ в основном тексте книги, сделав ставку на
однородность
структуры
книги
(и
структуры
заключѐнного
в
ней
знания,
предназначенного для хранения и пользования), центуриаторы добились того, что
последующие историки попросту упустили этот перелом – его не видно по оглавлению!
Глубокий кризис императорской власти на Западе отражен и в том, что имена западных
императоров второй половины V века почти не используются в качестве эпонимов.
Нам непривычно читать о бурях V века со строго историко-церковной позиции.
Тем не менее, мы вынуждены признать, что события «внешней» по отношению к церкви
истории – падение Рима, возникновение новых государств – по сути дела, лишь
доказывали правоту общей концепции «Магдебургских Центурий», основанной на
преходящем характере светской власти, политического величия и вообще всего мирского.
Отчасти наши ощущения объясняются тем, что в нашей обычной светской исторической
литературе судьба Запада после падения Рима и судьба Восточной Римской империи
246
рассматривались отдельно друг от друга, и драматизм одной картины резко отличался по
своему наполнению от внешнего благополучия другой. Центуриаторы включили в
картину кризиса и Византию, и после этого действительно катастрофичность событий на
Западе уменьшилась вдвое. Они сумели (в отличие от многих своих предшественников, а
главное, многих поколений своих последователей!) отойти от западоцентричности мира,
увидеть универсализм христианской религии в единении огромных пространств. Их
борьба против «Первенства Петра» может быть интерпретирована и как борьба против
восприятия Европы как религиозного, политического и культурного лидера. Этот аспект
наследия «Магдебургских Центурий» остался не замеченным целыми поколениями
западноевропейских
исследователей;
между
тем,
противостояние
«Центурий» и
католической реакции на них неопровержимо свидетельствует о том, что фактически
начался диспут о соразмерности ценности и заслуг различных цивилизаций с
западноевропейской. Однако, в начале XVII века появились новые стереотипы
европейского лидерства, которые наложились на мощную инициативу, развитую
католической стороной. Новые стереотипы мышления и европейского самовосприятия
укоренились благодаря бурному научному прогрессу Запада, открытию новых земель,
формированию великих держав и постепенному установлению их политического
господства в других частях света; голос центуриаторов уже на расстоянии в несколько
десятилетий слышался очень слабо, тем более что новое лютеранское богословие и
историография следующего поколения перестали уделять этой проблеме много внимания.
После 5 тома меняется и внешний облик «Центурий», и тон изложения; важнейшие
исторические события, изменившие сам характер истории христианской церкви, сами по
себе не являются исчерпывающим объяснением этой перемены. Тома становятся тоньше,
они, очевидно, даются всѐ труднее, а находок сравнительно немного. Что происходит?
Центуриаторы, безусловно, вложили основной заряд энергии и организованности в
написание первых пяти томов. Был проделан поистине колоссальный труд. Однако
дальше трудности стали расти (внешние факторы, распад авторского коллектива,
переезды), а трудности сбора источников – только возрастать. Сотрудников становилось
всѐ меньше, а задач – всѐ больше. Качество труда тоже стало страдать: тома становятся
заметно менее объѐмными, а их содержание – не таким богатым. Локальный метод,
конечно, уже отшлифован и сбоев не даѐт, квалификация оставшихся сотрудников
возрастает, и это до поры до времени компенсирует потери. Кроме того, почти
неожиданно для авторов сама история сворачивает с пути, который казался естественным
развитием. VI век – время явного разрыва в преемственности между столетиями, и этот
дисконтинуитет,
прежде
не
осознаваемый
центуриаторами,
нанѐс
удар
по
247
универсальности локального метода. Они не видели заранее, что изменение характера
истории в VI веке (и в немного меньшей мере – в двух последующих веках) приведѐт к
изменению проблематики и семантики локусов, а сосредоточенность на сочинениях
церковников будет отдалять от объективного наполнения исторического процесса.
Изменение содержания источников, возникновение новых тенденций в способах
наполнения глав (это отображается в структуре отдельных глав, особенно 4),
количественно иное распределение материала по главам – всѐ это стало сюрпризом,
повлекшим новые трудности и, разумеется, разногласия и размолвки внутри авторского
коллектива. Возникшие материальные трудности, политическое преследование ряда
ответственных членов авторского коллектива, наконец, отвлечение Флация Иллирика на
ряд новых проектов также повлекли за собой перемены в авторском коллективе, что
неизбежно сказалось и на облике следующих томов, и на технике реализации
первоначально цельной исторической концепции сочинения.
Объем томов с 6 по 11 значительно меньше, чем предыдущих и последующих.
Отчасти это может быть вызвано изменением условий работы, переменами в авторском
коллективе. Впрочем, в дальнейшем условия становились ещѐ менее благоприятными,
ещѐ несколько опытных авторов отошли от проекта, однако – ценой увеличившегося
времени на подготовку текста – 12 и 13 тома вновь прибавили в объѐме и глубине
материала. В чѐм причина? Почему изучение эпохи между закатом классической
античности на Западе и расцветом Высокого Средневековья оказалось менее объѐмным?
Отчасти причиной является меньшее количество доступных центуриаторам
источников по сравнению с предшествующей и последующей эпохой. Сокращение
количества трудов церковных писателей в соответствующие столетия – это не только
следствие кризиса (об этом речь ниже), но и причина изучения его под определѐнным
углом зрения.
В VI веке объективное содержание истории существенно меняется, центуриаторы
отражают это в своей книге, однако делают это весьма непривычным (в первую очередь
для исследователя из XXI века) образом. Главное, что привлекает их внимание, - это
«проросшие семена ложных учений и культов».
В самом деле, с точки зрения их
представлении о верховной светской власти кардинальных перемен не произошло –
«Римской империей управляли Анастасий, Юстин Старший, Юстиниан, Юстин Младший,
Тиберий и Маврикий: однако ж этот век никоим образом не походил на предшествующие
два»474 (15.27-31). Уже из первой главы VI центурии видно, что надлом в истории
474
EH VI, col. 15.
248
произошѐл именно при переходе от V к VI веку, а не «где-то в VII веке», как считает Х.
Болбук.
«Ибо в церкви учителей было меньше, и они были не такими значительными:
кроме Фульгенция и Григория Великого, остальным будет воздано совсем немногое».
Положения христианского учения в VI столетии получили меньшее разъяснение, и дело
Божье не получило такой поддержки, какую оно получило в более раннюю эпоху.
Приведем лишь один пример из множества однотипных рассуждений VI тома,
перекликающихся с аналогичными местами в других томах «Центурий»:
«Положения христианского учения излагались и разъяснялись всеми с гораздо
меньшей чѐткостью: только вопрос о Боге-отце, как, впрочем, и в другие времена, был
обсуждаем с большим усердием, и его понимание не изменилось. Несомненно, особые
заботы вызвала разрушительная деятельность Ария, Нестория и Евтихия. Тем временем
всѐ более и более становились непонятными учения о силах человеческих, о Законе
(Божием. – ИА), об Оправдании, о благодеяниях и многих других. Причиной же этого был
громадный рост числа созданных человеками ритуалов, церемоний и других религиозных
мероприятий»475.
На многих страницах VI и последующих центурий мы встречаем эту мысль: одна
из основных причин дальнейшего глубокого изменения христианского учения крылась во
«внешнем» изменении культа, что, в свою очередь, имело решающее значение для судьбы
всего западного христианства.
Снижение активности церковных авторов и деятелей рассматривалось как другая
первопричина упадка VI века. За этим несомненным фактом (который, обратим внимание,
поставлен превыше и падения Западной Римской империи, и разрушительных войн этой
эпохи, и варварских завоеваний) мы ясно различаем констатацию упадка книжной
культуры, христианской доктрины. Это характеризует отношение к «культуре»476 и
вполне конкретное восприятие этой самой «культуры», а также умение центуриаторов
представить осязаемую картину культуры во времени, еѐ взлѐта и падения, одним словом,
динамики. Динамическое восприятие книжной культуры является одним из важнейших
новшеств в историографии, конкретным и огромным по своему значению вкладом
475
EH VI, col. 15 35-48.
Это слово должно быть помещено в кавычки только потому, что сами центуриаторы его в данном
контексте не употребляли, и мы должны ввести его для того, чтобы разобраться в хитросплетениях
понятийного аппарата лютеранской историографии и дать явлениям более привычные для нашего времени
определения.
476
249
«Магдебургских Центурий» в развитие историографии, далеко вне рамок христианской
исторической науки.
Во-вторых, отметим, что важнейшим элементом «культуры» для центуриаторов
является текст. Упадок вызван меньшим количеством занятия. Латинское слово studium –
ключевое понятие 6 тома «Магдебургских Центурий», которое недостаточно переводить
просто как «исследование» или «изучение»; нужнопостоянно помнить, что это действие в
умах латинских авторов XVI века соответствует обработке земли, возделыванию
интеллектуального поля, которое неизбежно приносит плоды, хорошие или плохие в
зависимости от качества обработки. Результатом, продуктом studium является текст; когда
текстов стало меньше, дурные ростки дьявольских учений быстро заколосились, составляя
прямую угрозу торжеству христианства.
«Колосящиеся ростки» - это не просто художественный образ, а понятие, вполне
соответствующее представлениям центуриаторов. Вот ещѐ один, описывающий прямое
следствие недостаточной творческой активности церковных писателей VI века:
А царство Антихриста, которое в предыдущее столение практически было
зачато во чреве Церкви, в этот век получило жизнь и развитие, и плод почти даже
достиг
зрелости, в результате чего в своѐ время и последовали роды (которые
приходятся на начало VII века, при императоре Фоке). Воистину, когда, как было писано
Григорием, обнаглевший Иоанн (патриарх. – ИА) Константинопольский присвоил себе
титул
Вселенского,
он
выступил
предтечей
Антихриста.
Однако
римские
первосвященники, и Григорий первый среди них, не просто были предтечей Антихриста,
но и всеми силами воспроизвели его и заложили основы его (царства. – ИА), поскольку они
присвоили себе власть над другими епископами, а также сделали многое из того, что
доступно лишь силам Антихриста477.
Итак, в представлениях центуриаторов Отцы и Учители Церкви стояли на страже
торжества христианства. От них зависели ни много ни мало судьбы всего христианства, а
значит – в логике той эпохи – судьбы всего человечества. Центуриаторы собирают
сведения о тех или иных сторонах жизни, к примеру, о язычестве, повторяемые в
различные столетия различными критиками, и группируют их не по темам или объектам,
а по столетиям и по отдельным критикам. Это – ещѐ одно доказательство первостепенной
важности деятельности Отцов и Учителей для всей исторической концепции «Центурий»,
при том, что собственно сочинения церковных авторов занимали подчинѐнное положение
477
EH VI, col. 16 32-46.
250
в иерархии локусов. Вспомним описание учения Ария: при том, что центуриаторы не
экономят эпитетов на характеристике этой ереси, одни и те же аргументы повторяются в
различных томах в зависимости от того, в какую эпоху они прозвучали. Таким образом,
для победы над Антихристом, по мнению центуриаторов, было важно не просто один раз
навсегда заклеймить дьявола, а делать это постоянно, находясь на страже религиозной
Истины. Очевидно, и себя самих центуриаторы видели членами этой цепочки людей,
обличающих искажение Истины и передающим священный долг борьбы своим
последователям вплоть до Страшного Суда. Важным звеном этой протянувшейся на все
века цепочки «учителей» (Doctores) был Мартин Лютер, но, как мы увидим позже, он был
не один даже в свою эпоху. Скажем больше: его сила заключалась именно в том, что он
был наиболее ярким на фоне множества церковных (и не только – вспомним так часто
упоминаемого центуриаторами Эразма) авторов меньшего масштаба и меньшей
критической эффективности.
Сравнительно небольшой объѐм 6, 7 и 8 томов объясняется скудостью
источниковой базы: архивы, в которые удалось проникнуть авторам «Центурий», не
предложили богатого материала, а главный источник по более ранней эпохе – сочинения
церковных авторов – пошѐл на убыль. Конечно, труды Кассиодора, Олимпиодора, Боэция,
Григория Великого и некоторых других авторов были исследованы досконально, но
количественно содержащаяся в них информация оказалась не особенно богатой. При
чтении отдельных страниц или разделов складывается даже ощущение, что 6 том не мал, а
велик – так глубоко исследованы, так тщательно «разъяты» локусы трудов Григория
Великого, ставших основным источником по VI веку.
В 6 центурии история обретает новый лейтмотив – искажения учения Церкви в
трудах богословов. Конечно, и в предыдущих томах анализу были подвергнуты все
тезисы Отцов Церкви, с которыми центуриаторы были несогласны. Однако только с VI
века «личные и неуместные мнения, «соломинки» и ошибки Учителей»478 нарастают как
снежный ком. Перечисляются как отдельные неточности, так и свидетельства
привнесения
в
ранее
существовавшую
общепринятую
доктрину
субъективных
отклонений. Отметим ещѐ один момент, упущенный исследователями «Центурий»: новые
отклонения от доктрины анализируются не только на уровне их расхождения с
евангельской картиной (как еѐ воспринимали Лютер и его последователи), но и на фоне
более ранних искажений. Это – характерное проявление высокопрофессионального
историзма, недоступного другим историкам этой эпохи, яркий пример не только
478
Раздел называется Inclinatio doctrinae, complectens peculiares et incommodas opiniones, stipulas et errores
doctorum. EH VI, col. 277-288.
251
мастерства центуриаторов, но и в целом успехов церковной историографии в техническом
и теоретическом отношении. Взятая же отдельно сюжетная линия искажений церковного
учения постепенно вырастает в интенсивный и сложный диахронический процесс.
Элементы, каждый из которых может повлиять, скорее всего, лишь на оценку творчества
или праведности того или иного автора, складываются в картину, резко меняющую свои
свойства и характеризующую общий ход человеческой истории.
Основные «искажения» VI века сгруппированы в разделы, посвящѐнные
проблемам оправдания верой и благих дел. В реальности эти два вопроса являются двумя
способами интерпретировать одну проблему – о необходимости (или необязательности)
благих дел для достижения Спасения. В отдельных локусах авторов VI века звучат мысли
о том, что некоторые действия (например, подача милостыни) приближают человека к
Спасению, что, как мы знаем, категорически расходится с лютеровской концепцией
оправдания верой. Более того, авторы VI века призывают церковь проповедовать
верующим эту (неверную с точки зрения центуриаторов) концепцию: в этом, прежде
всего, и реализуется отход церкви от истинного учения, обусловивший и перелом VI века.
Точно так же отсутствует принципиальная разница между разделами «о молитвах» (6.280281) и «о святых» (282-283): основное отклонение в вопросе о молитвах заключалось в
адресации их теперь не только Иисусу Христу или Богу-Отцу. В ту эпоху появляется
(пока ещѐ смутное и спорадическое) представление о самостоятельной «воле» святых, об
их способности влиять на происходящее в будущем, то есть быть эффективными
адресатами. Отдельные факты «отклонений» зафиксированы в вопросе «о кресте» (так
называли проблему всеобъемлющего характера искупительной жертвы Иисуса Христа), о
браке, о девстве и проч. Отдельного замечания заслуживает вопрос «О Чистилище» (286287). Несмотря на то, что у Григория Великого можно обнаружить несколько
свидетельств о начале складывания представлений о Чистилище, первым приводится
(явно притянутая насильно) цитата из Боэция, мимоходом упоминающая муки душ,
испытываемые после телесной смерти. Зачем? Видимо, для того, чтобы придать этой идее
вид распространѐнного мнения, а не «личного заблуждения» Григория Великого, то есть
не сводить ответственность за складывание одной из наиболее одиозных в глазах лютеран
богословских теорий к «ошибке» одного Учителя, то есть к субъективному фактору.
В VII веке тенденция только усугубилась. Центуриаторы всячески выставляют
напоказ тот факт, что Отцов было сравнительно мало и продуктивность их была
невысокой. Выделяются Иоанн Константинопольский, Кесарий Арльский, Максим
Сарагосский, Юлиан епископ Толедский, Иоанн Жиронский, Исидор, Адельхейм, Дадон,
Геофрид; их деятельность, однако, оценивается хуже деятельности их предшественников.
252
Восточные Отцы «вцепились мѐртвой хваткой»479 в монофелитскую ересь, а «римские и
западные» занялись введением новых культов и церемоний, амбициозно ставя себя выше
церкви и гоняясь за благами мира сего и славой; служение последних характеризуется как
«ревностное и суеверное»480.
Важнейшее событие мировой религиозной истории – зарождение мусульманства –
в 7 центурии едва освещается. Центуриаторы настроены против него весьма враждебно,
но пока не заостряют на нѐм внимания. Легко предположить, что об этом событии
говорится мало потому, что о нѐм говорится мало в изученных центуриаторами
источниках VII века. Кроме того, строго говоря, мусульманство находилось за пределами
объекта «Магдебургских Центурий» - истории христианской церкви. Зарождение
мусульманства заслонено гораздо большим, с точки зрения центуриаторов, злом –
заявлением «примерно в 606 году» претензии римской церкви на главенство во всѐм
христианском мире. Антихрист проявил себя в двух ипостасях – внутри и вне
христианской церкви (внутри – «под именем Христа»): с одной стороны, папство, с
другой – ошибки или даже злодеяния императоров, понесших за них тяжѐлые
божественные наказания. Видно, что на всѐм протяжении работы центуриаторы
находились под глубоким впечатлением мысли о страшной смерти как основном способе
божественного возмездия по отношению к императорам-преследователям христиан481. и
книги Например, Фока стараниями Антихриста стал жертвой жестокого отцеубийства.
Мусульманство в VII веке выступает антагонистом не только христианства, но и
«римской империи»: империя ещѐ будет долго существовать на Востоке, однако
магометанство уже начало «стирать» еѐ с карты. Монофелитская ересь, к которой
склонялись многие императоры, была другим, по меньшей мере равновеликим,
симптомом острого кризиса христианства.
В VIII веке, считают центуриаторы, Антихрист переходит к активным
наступательным действиям. В художественных целях они говорят даже о двух
Антихристах, один из которых оперирует внутри церкви (имеется в виду папство), а
другой – вне еѐ (магометанство).
479
EH VII, col. 21 30.
См. EH VII, col. 21 30-35.
481
Центуриаторы, конечно, не знали текста De mortibus persecutorum, который современная наука
атрибуирует Лактанцию Фирмиану, однако эта мысль была очень широко распространена и в «Центуриях»
регулярно звучала при описании кончины того или иного императора. Более того, императоры, чья
церковная политика заслуживала одобрения центуриаторов, как правило, умирали спокойной смертью либо
обстоятельства их кончины не выдвигались на первый план. Этот вопрос требует дополнительного
исследования. Как бы то ни было, раздел «О наказании преследователей» (De poenis persecutorum)
присутствует в каждом томе в третьей главе.
480
253
Римские первосвященники, прислужники и викарии Антихриста, усевшегося в
храме Божием, устанавливают культ других богов: вечному Христу, нашему далекому
понтифику, они придали мертвых Святых как посредников, радеющих за род людской. Их
начали чтить и им поклоняться призыванием, созданием статуй и изображений,
строительством и посвящением им храмов и алтарей, перевозкой мощей, золотом,
серебром,
драгоценностями,
мессами,
свечами,
воскуриванием
благовоний
и
коленопреклонением. Они губили небесное учение; установленные Господом таинства,
такие, как крещение и причастие, они отравили человеческими традициями и и стали
использовать по-иному. Церковные обряды они ради создания институтов обратили в
суеверный культ Баала, пренебрегая обязанностью чисто и искренне распространять
небесное учение.
Под видом исключительного благочестия и религиозности они расхваливают
дьявольское учение о запрете брака, о различиях в еде (имеются в виду посты – ИА); и
мужские и женские монастыри заполняют весь мир, гнусно отравляя всѐ своим
развратом и навлекая на всю Землю гнев Господень.
Они отвлекают народы всего Запада от подчинения императорам и законным
правителям, что подобно мятежу, а также запрещают платить кесарю налоги, чинши
и подати. После победы франков над лангобардами они похитили себе Италию и царства
мира сего и славу их, то есть право переноса империя482.
В VIII веке первопричиной зла, как и в предшествующие два столетия, является
отсутствие достойных Учителей церкви; Иоанн Дамаскин является единственным
церковным
писателем,
не
вызывающим
у
центуриаторов
претензий.
Другими
безоговорочными праведниками были иконоборцы – «немногие люди в Азии и Фракии,
которые воспротивились этому и отвергли поклонение изображениям. Но они были
побеждены заблуждающимся большинством и тиранией покровителей Антихриста»483.
Праведники в других странах (прежде всего – в Англии и Германии) были побеждены
«папскими исказителями» (8.3.1). До некоторой поры византийские императоры (Лев
Исавр, Константин Копроним и Лев IV) продолжали защищать истинную веру и упорно
боролись
против иконопочитателей, культа святых, поклонения реликвиям и
распространением «нечистой чистоты» (impura castitas) монахов; однако и они, гнетомые
собственными грехами, были вынуждены уступить. Происки «Римского Антихриста»
482
483
EH VIII, col. 1 30-39.
EH VIII, col. 2 45-49.
254
лишили их Западной римской империи, а правление Ирины и еѐ сына Константина свело
на нет все достигнутые в борьбе с дьяволом успехи.
На Западе дело шло не лучшим образом. Лонгобардские короли утратили своѐ
королевство в борьбе с франками, и им завладели римские понтифики. После того, как
Пипину неправедным путѐм удалось снискать королевское достоинство и стать королѐм
франков, получив его из рук римского епископа, Карлу было уже легко получить от папы
императорскую корону. Наконец, во всей Европе не осталось государей, которые бы не
подчинили римской церкви свои владения. А «истинная церковь» в это время оставалась
без присмотра, однако ей, тем не менее, удалось сохранить себя в борьбе с Римом и
мусульманством.
Тенденции предшествующей эпохи вполне продолжаются и в XI столетии.
Количество авторов, на которых можно было бы опереться при написании 11 центурии,
было ещѐ меньше, чем в предыдущем столетии, и авторы не скрывают своего скепсиса в
отношении их достоинств. Вот яркий пример их отношения:
Славных мужей в Церкви, которые в каких-то своих сочинениях с невысокой
искусностью (mediocri dexteritate) воспитывали народ Божий (plebem Dei), было довольно
мало, а до наших дней сохранились книги совсем немногих из них: это Берно из Рейхенау,
Алгер, Брунон Вюрцбургский, Петр Дамиан, Лев IX, Ланфранк, Ансельм Кентерберийский,
Иво и Майнхард.484
Главным антигероем 11 центурии является папа Григорий VII. Событийную канву
11 тома составляют разнообразные перипетии его противостояния с императором
Генрихом IV, его внешняя политика и нововведения в церкви. Подробно перечисляются
случаи суда над мирянами, узурпации прерогатив светской власти (например, снятие или
назначение магистратов и т. п.). Григорий VII возглавлял церковь сравнительно недолго –
лишь 12 лет, однако события его понтификата названы в «Центуриях» типичным
примером (illustre paradigma485).
История катится под откос. Значительная часть объѐма насыщенного информацией
и крупного по объѐму 12 тома (почти 800 столбцов из общего объема около 2000) была
отведена 4 главе «О доктрине». Она описывает содержание большого количества
схоластических сочинений этого столетия. Развитие схоластики показано на фоне бурных
событий борьбы германских императоров против папства.
484
485
EH XI, col. 15 12-19.
EH XI, col. 15 42.
255
Папское царство прочно утвердило своѐ первенство и вступило в очевидную эпоху
повсеместного расцвета. Первым делом следует отметить, что в это столетие
трудами Петра Ломбарда зародилось и получило обоснование схоластическое учение.
Пытаясь покончить с запутанными и маловажными вопросами или даже вообще обойти
их, он, напротив, приумножил их количество, что найдѐт своѐ подтверждение в истории
последующих столетий486.
Конечно, преобладание схоластического метода в богословии XII века не было
объявлено «заслугой» Петра Ломбарда: центуриаторы проработали массу текстов его
современников. Экспозиция материала по богословию на страницах тома подчинена не
только формальным принципам «Центурий», но и целям эмоционального воздействия.
Сравнение с соответствующими главами первых томов наводит на мысль о том, насколько
запутанным стало богословие этого века, насколько частные вопросы стали доминировать
над общими проблемами. Помимо очевидно мелочных дискуссий, с удовольствием
описанных центуриаторами, в книге присутствуют и общие философские вопросы, на
взгляд авторов книги, неуместные в богословских текстах. Локальный метод оказался
здесь особенно уместным и даже художественно выразительным.
Значительно большую роль в событийной канве 12 тома по сравнению с
предыдущими играют деяния германских императоров, в том числе и не затрагивающие
церковные дела или папство. В несколько меньшей степени эта тенденция сохранится и в
следующем, 13 томе; вполне возможно предположить, что она могла бы распространиться
и на последующие тома, если бы они были написаны. Посвященные «политическим
переменам» 16-е главы 12 и 13 тома представляют собой политические биографии
императоров. Дело в том, что локальная схема, разработанная в начале работы и
представленная во введении к первому тому, не имела специальной ячейки для
политических биографий светских лиц, и информация о них часто попадала в третьи
главы, посвященные «преследованию или спокойствию Церкви». Во время работы над 12
и 13 томом центуриаторы изменили принцип описания деяний императоров, и к этому их
побуждала общая концепция работы. Очевидно, германским императорам в картине
противостояния всеобщему упадку церковных доблестей отводилась особая роль. Эта
роль не следует из композиции или отдельных сюжетов «Каталога свидетелей истины», и
мы можем предположить, что это важное концептуальное новшество родилось уже в
процессе работы над последними из вышедших томов. В свою очередь, это позволяет нам
486
EH XII, col. 9 27-35.
256
сделать важный вывод о принципиальной возможности изменений в экспозиционных
принципах и в концепции, по крайней мере, на поздних этапах, когда, в частности, от
центуриаторов отошѐл Флаций Иллирик.
Как известно, работа над центуриями прекратилась вскоре после выхода в свет 13
тома. Причина этого кроется, прежде всего, в отсутствии финансирования и более широко
– финансового интереса к проекту. Тома выпускались и продавались поодиночке;
собирать коллекцию из всех томов на протяжении 15 лет при тогдашнем состоянии
книготорговли было затруднительно, особенно для тех читателей, которые не имели
доступа к Лейпцигской или Франкфурской книжным ярмаркам. Последние два тома были
подготовлены к печати благодаря усилиям и энтузиазму Иоганна Виганда (1523-87). Он
был уже немолод, повседневные обязанности церковной службы постоянно отвлекали его.
Полное отсутствие средств (пожертвования прекратились окончательно, целевая
аудитория утратила интерес к проекту почти полностью) погубило авторский коллектив, и
теперь Виганд мог рассчитывать только на собственные силы и средства. Его роль в
проекте была велика на всѐм протяжении: Михаэль Буннерс даже считает его, а не
Флация, истинным «главным автором Центурий»487, но это бездоказательное утверждение
является, конечно, определѐнной натяжкой. Тем не менее, после окончательного отхода
Флация в конце 60-х годов и его смерти огонѐк проекта теплился лишь в далѐкой
провинциальной Померании, где приходской священник пытался в меру своих сил
продолжить работу. Как долго она ещѐ продолжалась, нам неизвестно, как неизвестна и
дата окончательного прекращения работы. Всѐ, что мы имеем на память об этих
печальных усилиях – это три объѐмистых папки с рукописными материалами,
выкупленные герцогом Юлием Брауншвейгским у наследников Виганда и хранящиеся
сегодня в Библиотеке герцога Августа в Вольфенбюттеле.
Странным образом, Х. Болбук при подготовке недавней интернет-публикации
материалов о «Центуриях» полностью проигнорировал эти материалы. Ими непросто
оперировать, они не представляют собой связного текста, но, тем не менее, определѐнную
пользу из них извлечь вполне возможно. Более того, архивные материалы, о которых мы
рассказываем в этом разделе работы, ещѐ не были описаны, насколько нам известно, ни в
одном историческом сочинении. Как показывает анализ, эти материалы не только
способны сообщить бесценные сведения для изучения метода работы над «Центуриями»,
но и приподнимают завесу тайны над исторической концепцией этого сочинения в
отношении XIV-XVI веков.
487
Bunners M. Johann Wigand (1523-1587), lutherischer Geistlicher und Gelehrter in Wismar von 1562 bis 1568 –
ein Homo Universalis – Hauptautor der Centurien. In: MC 1. S. 91-108.
257
Эти столетия были временем беспрецедентной интенсификации процесса поиска
пресловутой «истины» в противовес официальной практике католической Церкви.
Естественно было бы ожидать, что объѐм материалов существенно возрастѐт, как
возрастѐт и объѐм самих томов. Источников, вполне доступных центуриаторам, довольно
много; тщательная обработка всех их (как было заведено при подготовке всех
предыдущих томов) потребовала бы колоссального материального и человеческого
ресурса. Достаточно сказать, что кому-то из центуриаторов пришлось бы заняться
наследием всех предтеч Реформации (включая Яна Гуса), самого Лютера, Меланхтона и
даже самого Флация. Что же успели предпринять Виганд и его товарищи, прежде чем
окончательно отказались от мысли о завершении книги?
В архиве Вольфенбюттельской Библиотеки герцога Августа сохранились два
рукописных конспекта, готовившихся в рамках подготовки 14 центурии. Они составляют
конспект сочинений Гийома Дюрана из Сен-Пурсена (ок. 1270 – 1334)488 и Яна ван
Рѐйсбрука (1293 – 1381). Мы далеки от мысли, что эти два автора должны были стать
основными источниками по XIV столетию – ничто в конспектах не наводит на эту мысль.
Скорее, работа началась именно с этих авторов.
Первый из авторов был монахом-доминиканцем, крупным философом, деятелем
Авиньонской курии и в конце жизни – церковным иерархом. Его учение (за которое он
был в позднейшей традиции даже удостоен эпитета doctor modernus), заострѐнное в
основном на полемике против Фомы Аквинского, было далеко от повседневной жизни
Церкви и в качестве источника было не очень интересно центуриаторам. К истории
учения (содержащейся в 4 главах каждого тома) его сочинения могли иметь лишь
косвенное отношение: в рамках схоластики Дюран считался именно философом,
исследовавшим науку о рациональном, а не богословом, посвятившим себя духовному.
Мы не встречали в опубликованных томах «Центурий» каких-либо свидетельств об
интересе их авторов к философии; тем интереснее увидеть, что же могло привлечь в этих
текстах Виганда.
Автор конспекта знает только четыре текста Дюрана489; судя по перечислению, два
последних представляли собой сборники или подшивку небольших сочинений (Questiones
488
Этот средневековый философ стал в последние годы объектом глубокого изучения в рамках проекта
«Дюран» Кѐльнского университета. Обильная новейшая библиография, посвящѐнная ему, собрана в
Интернете по адресу URL: http://durandus.phil-fak.uni-koeln.de/12818.html?&L=7 (дата обращения 15.03.2015)
489
HAB 12.10 Aug fol. F. 202r. См. Kataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Bd. 5 Die
augusteischen Handschriften beschrieben von Otto von Heinemann. Frankfurt am Main, 1966. T. II, S. 109f.
Оригинальное издание: Heinemann O. von. Die Handschriften der herzoglischen Bibliothek zu Wolfenbüttel.
Wolfenbüttel, 1890. S. 343.
258
и Sermones – «Проблемы» и «Проповеди»). Из двух других одно известно под названием,
сегодня не идентифицируемым ни с одним известным текстом (De instructione
Christianorum); сочинение Summa notabilis («Достопамятная сумма») хорошо известно.
Прежде всего, автор конспекта выделил авторов, которых Дюран чаще других
цитировал. Представительный список включал в себя два десятка имен от св. Амвросия до
Беды Достопочтенного; среди цитируемых авторов – и 7 римских пап490. Участие автора в
общецерковной дискуссий, отслеживаемое через количество цитат и упоминаний, служит
важным аргументом в пользу включения его в список источников к тому.
Следует сказать, что наследие Дюрана, изданное в Париже в 1545 году491, было
подробно проанализировано Флацием в «Каталоге свидетелей истины»492. Рукописный
конспект не содержит ничего принципиально нового; если изложения Флация в
«Каталоге» следует в целом порядку, в котором те или иные тезисы Дюрана встречаются в
его сочинении, то «разъятый» на локусы текст конспекта производит хаотическое
впечатление.
Конспект представляет собой тетрадь из 210 подшитых листов. Они заранее были
разбиты на разделы соответственно локусам, выбранным из сочинений Дюрана. Локусы к
14 тому были классифицированы по 59 разделам, описанным в заранее составленном
перечне в конце тетради493 (Index locorum). Они в целом следуют обычным для
опубликованных центурий формулировкам и последовательности; первым выступает
раздел De doctrina. Он и следующие 52 отнеслись бы к 4 главе; из оставшихся 7 лишь 5
попали бы в другие главы494. Последние два раздела примечательны: они содержат
сведения «об особенностях Дюрана» и то, что может быть отнесено «к предыдушим
томам»495. Последнее свидетельствует о рассматривавшейся перспективе уточнѐнного
переиздания всех предшествующих томов, а возможно, и о существовании когда-то и
других материалов, предназначенных для редактирования уже опубликованных томов.
Коллеги из университета Регенсбурга насчитали 60 известных на сегодня сочинений Дюрана. См. URL:
http://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PKGG/Philosophie/Gesch_Phil/alcuin/philosopher.php?id=536
(дата обращения 15.03.2015)
490
HAB 12.10 Aug fol. 202r, 205r.
Durandus G. Tractatus de modo generalis concilii celebrandi. Parisiis, 1545. 562 c.
492
См. Catalogus … P. 678-698.
493
HAB 12.10 Aug fol. f. 429r.
494
«О государственном устройстве» (De politia), «О первенстве (имеется в виду Первенство Петра среди
других апостолов, De Primatu), «О монашестве», «Обычаи христиан», «О еретиках». Под первым из этих
пяти разделом заполнено 4 листа манускрипта (190, 191, 196, 197 согласно нумерации автора конспекта, или
листы 311, 312, 317 и 318 дела), на остальные приходятся единичные локусы, занимающие меньше одной
страницы.
495
Specialia Durandu, f. 202 (HAB 12.10 Aug fol. F. 202r f. 423); Ad libros superiores, f. 206 (ibidem, f. 427).
491
259
Отметим две констатации «недостатков» (naevi) Дюрана в манускрипте. Обе
относятся к разделу «Об оправдании верой»496 и касаются проблемы получения благодати
Божией: в частности, Дюран утверждал, что человек многократно обретает благодать
через Ангела в результате различных своих действий. Очевидно, что и этот локус мог
свидетельствовать только об искажении доктрины, а не о каких-то церковных практиках
XIV века.
Несмотря на определѐнное свободомыслие (отмеченное в пяти десятках цитат в
«Каталоге свидетелей истины»), Дюран во многом соглашался с официальной церковной
доктриной, что не могло не вызывать протеста центуриаторов. Так, он признавал
обязательность общего правителя (universalis rector) для всей Церкви; этот правитель мог
по своему усмотрению прощать отступления от принятой практики, даже от норм морали
(двоежѐнство и т. п.). Папа и назначенные им люди априори свободны от греха симонии
(политические реалии шли вразрез с церковными нормами). «Папа, либо тот, кого Папа
назначает, не может совершить симонию, ибо как законы не связывают императоров, так
и Каноны (не связывают) Папу, но, более того, законы имеют силу через императора, а
Каноны – из авторитета Папы»497. Автор конспекта игнорирует общее отвержение
Канонов апостольских в «Центуриях»; видимо, для таких выступлений требовался
авторитет составителя основного текста или руководителя всего проекта, даже если в
конце работы это было одно и то же лицо.
Второй дошедший до нас конспект составлен тем же автором, который
конспектировал труды Жерсона для следующего тома «Центурий»498. Видимо, конспекты
двух авторов составлялись примерно в одно время – это доказывает не только идентичная
бумага и чернила, но и почерк (до мельчайших деталей). Этот конспект посвящен трудам
Яна ван Рѐйсбрука (1293-1381; его устоявшийся эпитет – Doctor ecstaticus)499. Монахавгустинец, богослов-мистик привлѐк внимание
На титульном листе второго конспекта стоит дата «1390» (первого, посвящѐнного
Дюрану, - «1320»). Что это за цифры? Ни та, ни другая даты не имеют никакого
особенного смысла применительно к жизненному пути указанных персонажей. Мы
считаем, что это – подготовительная дата, позволяющая при описании их краткой
биографии в разделе «О жизнях учителей» указать примерную эпоху жизни стандартным
496
De iustificatione, f. 80 (HAB 12.10 Aug fol. F. 202r f. 301)
HAB 12.10 Aug fol.f 194v-195r
498
HAB 18.3 Aug. fol. См. Kataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Bd. 5 Die augusteischen
Handschriften beschrieben von Otto von Heinemann. Frankfurt am Main, 1966. T. II, S. 222.
497
499
Одно из его сочинений было даже издано на русском языке. См. Рейсбрук Ян ван. Одеяние духовного
брака. Москва, Орфей, 1910. 272 с.
260
floruit, обозначавшим приблизительное время расцвета творчества того или иного лица.
Вынесенная на титульный лист цифра облегчает расстановку конспектов (представим, что
их было подготовлено великое множество!) в хронологическом порядке, что, в свою
очередь, позволит расположить локусы так, чтобы тенденции данного века стали
очевидны. Эта тетрадочка была тоже сшита заранее и составляла 190 листов. В ней тоже
были заранее расположены знакомые нам по структуре предшествующих томов темы
(общим числом 71). По-прежнему большинство их (54) строго соотносится с разделами 4
глав напечатанных томов; почти все оставшиеся были бы отнесены в главу «О
церемониях». Здесь также последняя глава называется Ad superiora и предназначена для
эвентуальных цитат, служащих для обогащения материала предыдущих томов. Впрочем,
этот раздел почти не заполнен. Чувствуется, что автор конспекта испытывал значительные
трудности в поиске подходящего материала. Так, в качестве naevi он пометил обычный
для католической литературы перечень 7 церковных таинств, 5 из которых, как известно,
лютеране таковыми не считали500. Выписано совсем немного локусов, и значительная их
часть относится к биографии Рѐйсбрука и некоторых его коллег (им отведена специальная
страничка)501. Биографические локусы довольно скудны; большинство их впоследствии
перечѐркнуты пером. Заметно, что вычеркнутые локусы бедны информацией или вообще
банальны. В самом деле, локус о том, что Рѐйсбрук «резко критикует пороки епископов,
аббатов, каноников, придворных священников, клириков и других»502 вряд ли мог найти
своѐ место в публикации. Такая же судьба постигла сообщения современников о том, что
Рѐйсбрук «никому не уступал», а также о том, что Жерсон выступал против Рѐйсбрука, а
Тритемий его поддерживал. Очевидно, вычѐркиванием занимался руководитель автора
конспекта, скорее всего – сам Виганд.
Тем интереснее читать сведения из биографии Рѐйсбрука 503, рассказывающие том,
как в 12 лет он был отмечен за учѐность и благочестие авторитетными клириками; о
благочестии его матушки, сопровождавшейся знамениями еѐ кончине, о его собственной
благочестивой жизни. Все эти сведения взяты из написанной самим Рѐйсбруком
автобиографии; они могли бы значительно оживить повествование, сделать его более
связным и не таким сухим, как большая часть текста предыдущих томов. Почему они
были вычеркнуты? из-за их нерелевантности для основного сюжета книги? Или из-за того,
что это было взято из собственной биографии Рѐйсбрука, а значит, не могло считаться
объективным и выглядело агиографией? Других свидетельств несогласия центуриаторов с
500
HAB 18.3 Aug. fol. f. 96.
Doctores. Ibidem, f. 3.
502
Ibidem, f. 172 r et v.
503
Ibidem, f. 174 и далее.
501
261
Рѐйсбруком мы не нашли; тот факт, что Жерсон полемизировал с ним, ставился в упрѐк
Жерсону. При этом, к слову, Рѐйсбрука нет в «Каталоге свидетелей истины», в то время
как Жерсон (весьма известный церковный писатель) там присутствует. Между тем,
биографические сведения были весьма любопытными. Так, среди круга друзей Рѐйсбрука
мы встречаем сплошь «благонравных мужей», но многие из них не имеют к клиру
никакого отношения – имеется даже повар! Этот локус мыслился как свидетельство
обширных социальных связей церковного автора? А чего стоит рассказ о сочинении
проповеди: Рѐйсбрук сидел под большим деревом и работал, и настолько эта проповедь
была преисполнена «великой сладостью господней» (magno domine dulcedinis), что в
дерево вдруг ударила молния. Мы можем заподозрить наличие у автора конспекта
скепсиса и даже иронии, однако последующие строки это опровергают: в конспекте
рассказывается, что Рѐйсбрук не сразу увидел случившееся, но впоследствии рассказал
освоим единоверцам, и они порадовались. По мнению автора рукописи, этот эпизод
свидетельствовал о большой славе, которой Рѐйсбрук пользовался в своѐм окружении504.
Смерть Рѐйсбрука также была зафиксирована в конспекте
и была единственным
событием его биографии, имеющим точную датировку («2 декабря 1381 года, на 88 году
жизни и 64-м монашеского служения»505). Смерть также сопровождалась всякими
чудесами, которые, с одной стороны, были законспектированы, а с другой, тоже
зачѐркнуты пером Виганда. В конце манускрипта приведены разнообразные чудеса из
сочинений Рѐйсбрука506, а перед ними507 собраны все утверждения (общим числом 11),
которые автор конспекта счѐл ошибочными.
К XIV веку относится и ещѐ один обнаруженный нами (и совершенно
проигнорированный нашими предшественниками) манускрипт. Он представляет собой
большой перечень церковных деятелей, подготовленный, видимо, по материалам какогото частного (возможно, монастырского) архива. Тетрадь из 626 листов508 озаглавлена
«Имена и жизни учителей, епископов, монахов, аббатис и магистров Тевтонского Ордена,
живших в XIV веке». Она представляет собой заготовку черновика к главе «О епископах и
учителях церковных», занимающей в каждом томе 10 позицию. Тетрадь исписана лишь в
небольшой степени и содержит крайне скудную информацию: почти обо всех упомянутых
лицах сообщается лишь дата и место рождения, дата и место смерти, а также род занятий
– два-три слова в именительном падеже. Указания на источник сведений отсутствует.
504
HAB 18.3 Aug. fol. f. 178 r et v.
Ibidem, f. 180r.
506
Ibidem, f. 184r.
507
Ibidem, f. 182v.
508
HAB 11.6 Aug fol.
505
262
Этот манускрипт при тщательном исследовании способен рассказать о географическом
кругозоре авторов «Центурий». Около 30 страниц (на многих из которых содержится от
одного до нескольких локусов) посвящены византийским авторам (Graeciae doctores509);
затем автор переходит на гораздо лучше знакомые ему германские реалии и
подробнейшим образом перечисляет представителей клира в различных немецких
городах, а также «львовян в России»510, жителей польских, скандинавских, прибалтийских
городов. Никакой информации о деятельности этих людей, о высказанных ими идеях не
содержится. Очевидно, византийская церковная историография XIV века была историкамлютеранам вполне известна и не должна была быть проигнорирована в написании
соответствующего тома «Центурий» - ошибочное мнение могло сложиться на основании
чтения предыдущих двух манускриптов.
Манускрипты,
подготовленные
для
XV
тома
«Центурий»
различными
работниками, были сшиты в одно архивное дело, составляющее 363 листа511, что
существенно меньше суммы материалов по XIV веку. Оно состоит из четырѐх тетрадей
конспектов трудов Николя Горрана (Горрэна, 1232 – ок. 1295), Жана Жерсона (1363 1429), Иоанна Везеля (Весселия, Весселя Гансфорта, 1419 – 1489) и Томаса Неттера
(Томас Вальден или Вальденсис, ок. 1375 – 1430). Между ними подшиты (видимо,
случайно) несколько разрозненных рукописных листочков – фрагментов каких-то более
крупных текстов.
Трудно сказать, почему Горран оказался среди авторов XV века – возможно, по
ошибке: манускрипт не содержит ни одной даты, и тот, кто собрал их в одно архивное
дело, мог просто не проявить достаточно дотошности. Конспект из Горрана тоже написан
в тетради, но еѐ внешний вид позволяет нам выдвинуть интересное предположение
относительно процедуры работы над ней. Она меньше по размеру, чем тетради
конспектов по XIV веку; еѐ страницы не пронумерованы, а оглавление отсутствует. Тем
не менее, почти каждый листок единообразно озаглавлен; на каждом имеющем заголовок
листе имеется минимум один выписанный локус. Эти листы были впоследствии
расположены в порядке разделов глав «Центурий», переложены чистыми, а затем сшиты
вместе. По какой-то причине дальнейшая работа продолжена не была, но этот метод
509
HAB 11.6.Aug. fol. F. 3-34.
Leopolienses in Russia. Напомним, что наша страна называлась тогда обычно Moscovia, а населѐнная
«рутенами» «Рутения», «Россия» или «Руссия» - это православные земли Речи Посполитой. Эта
закономерность проявлялась и в сочинениях Римской Курии, в том числе – самого Чезаре Баронио. Ibid. F.
376 и далее.
511
HAB 11. 11. Aug. fol. Происхождение этой папки неизвестно, однако это не исключает возможности
приобретения еѐ у наследников Виганда вместе с другими черновыми материалами последних томов
«Центурий». См. Kataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Bd. 5 Die augusteischen Handschriften
beschrieben von Otto von Heinemann. Frankfurt am Main, 1966. T. II, S. 1.
510
263
показывает, что возможно было и начинать работу с бесформенной грудой отдельных
листов с последующим приведением их в строгий порядок.
Этот манускрипт едва не раскрывает нам тайну, которую почти все другие
дошедшие до нас черновики строго хранят. Имеется в виду авторство конспекта, имя
составителя. Видимо, оставлять данные о составителе считалось ненужным, поскольку
поступившие в распоряжение составителей книги локусы теряли всякую связь с теми, кто
отобрал их из источника. Выписки «из Николая Горрана» готовил некто, сокративший на
первой странице конспекта свою фамилию до “Sterem”. Увы, больше ничего нам узнать не
удалось. Среди членов авторского коллектива, известных Динеру и Болбуку, подходящей
персоны нет. Впрочем, этим двум историкам немногое известно о последних годах работы
над «Центуриями», и предложенные ими списки «помощников, покровителей и
сотрудников» ориентированы главным образом на времена Флация и разветвлѐнной сети
его единомышленников, раскинутой по Европе от Кентербери до Кронштадта512.
Мало известный сегодня, Николя Горран стал доступным публике автором после
ряда публикаций его комментариев на Евангелия и Послания св. Павла. Удалось
выяснить, что составитель конспекта пользовался кѐльнским изданием 1537 года 513.
Выписанные
из
Горрана
локусы
не
отличаются
оригинальностью
содержания.
Любопытным, пожалуй, является отмеченное в конспекте выступление этого богослова в
защиту иконопочитания. Согласно его доводам, иконы в церкви никому не мешают,
поскольку в них нет ничего божественного, а в боге нет ничего телесного, а они – лишь
значения514.
Почему же этот манускрипт из XIII века оказался подшитым к другим,
посвящѐнным XV-му? Дело в том, что Горрана обошли вниманием при написании «его»
тома, не включив даже в очень скудную на подробности главу X «О епископах и учителях
церковных». Может быть, этот конспект в какой-то момент затерялся среди
подготовительных материалов к другому тому, и о Горране попросту забыли, тем более
что в отношении XIII века недостатка в источниках не прослеживалось. Как бы то ни
было, местонахождение этого манускрипта заставляет нас рассматривать его в разделе,
посвящѐнном рукописным материалам.
Вернѐмся к XV веку. Самым крупным среди подготовительных материалов к 15
тому «Центурий» стал конспект сочинения французского богослова Жана Жерсона,
подготовленного (с гораздо больше эффективностью) тем же работником, который
512
Diener R. E. The Centuries … P. 68-70; Bollbuck H. Wahrheistszeugnis ... S. 687-691.
Commentaria Nicolai Gorrani in quatuor evangelia: omnibus qui a ministerijs sunt verbi dei, non minus utilia
quem necessaria… ac nunc primum typis excusa. Coloniae, Petrus Quentel, 1537. 586 c.
514
Ibidem, p. 518 (комментарий на Евангелие от Иоанна). 11.11 Aug. fol. F. 69.
513
264
конспектировал Рѐйсбрука. Известно515, что Жан Жерсон попал в число особо важных для
центуриаторов авторов с самого начала. Расписки в получении книг доказывают, в
частности, что работа над томами не была выстроена строго по хронологическому
принципу; то, что было легче раздобыть, подлежало немедленной обработке. Возможно
даже, что вычѐркивание информации личного характера из конспекта Рѐйсбрука было
делом рук не престарелого Виганда, а кого-то (может быть, и его самого) в более раннее
время. Впрочем, это представляется нам всѐ же маловероятным. Как мы видели, конспект
был составлен человеком малосведущим в замысле, плане и идеалах «Центурий»:
появление такого человека в составе авторского коллектива тогда, когда его
формированием занимались Флаций и Нидбрук, когда имелось достаточно средств и за
действиями «рабочих» осуществлялся строгий еженедельный контроль, было исключено.
Скорее всего, этот конспект всѐ же составил неопытный работник, впоследствии
«переброшенный» на Жерсона, где он проявил больше знаний, кругозора и упорства. Ещѐ
один косвенный аргумент в нашу пользу заключается в том, что поздние конспекты
делались исключительно на основе печатных текстов; сбор рукописных источников по
монастырям и частным коллекциям во второй половине 70-х годов был уже совершенно
немыслимым делом.
Конспект Жерсона составляет чуть больше ста листов, среди которых имеются
несколько вставок – небольших фрагментов, вписанные другими сборщиками (один из
которых, возможно, - Виганд516). Эти фрагменты структурно не выделены и ничем, кроме
почерка, от основного текста не отличаются; каждый из них составляет одну, редко –
несколько страниц, и соответствует отдельным разделам в будущей 4 главе. Различная
степень выцветания чернил говорит о том, что конспект некоторыми страницами долго
лежал на свету. Возможно, работа над ним прерывалась или откладывалась. Этот
конспект сделал тот же работник, который конспектировал Рѐйсбрука; он обращал
особенное внимание на тезисы, посредством которых
Жерсон полемизировал с
Рѐйсбруком, а также на другие обстоятельства этой полемики517.
Открывается
тетрадь
разделом
Specialia,
в
котором
приведена
краткая
биографическая информация. К ней подшиты четыре чистых листа, которые,очевидно,
предназначались для последующего вписывания в них информации о Жерсоне из других
515
Это подтверждает, например, расписка в получении книг, выданная Каспару Нидбруку 6 января 1552
года (ÖNB Wien, Cod. Vind. 9737i, Bl. 15r-17r), текст которой приводится в интернет-публикации Харальда
Болбука URL: http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=edoc/ed000086&distype=start&pvID=start.
516
Руке Виганда принадлежит стандартное оглавление локусов в конце манускрипта.
517
11.11 Aug. fol. F. 112, 113, 141, 167, 216 (листы манускрипта 18, 19, 47, 73, 122).
265
публикаций.
Две
страницы
заполнены
выдержками
«для
последующих
книг»,
содержащими мелкие даты событий VI-X вв.
Жерсон
предстаѐт
в
конспекте
автором
не
вполне
ортодоксальным,
высказывающим по ряду вопросов необычную для католического учения точку зрения
(это подтверждается и противоречивой характеристикой, данной ему Флацием в
«Каталоге свидетелей истины»518). Центуриаторы, фактически, отметили те высказывания
Жерсона, которые нам сегодня представляются первыми проявлениями будущего
французского ультрамонтанизма. Значительную часть конспекта составляют так
называемые opiniones – тезисы, которые в тексте «Центурий» обычно опровергались или
сопоставлялись с тезисами других авторов, вызывавших согласие центуриаторов. Среди
них – практически всѐ, что работник нашѐл о поклонении Деве Марии: ряд частных
высказываний был вписан в конспект, видимо, потому, что центуриаторы категорически
отвергали культ Богоматери в принципе519. Очевидно, посредством opiniones авторы
конспектов заранее формировали корпус тезисов, годящихся для критики. «Иронию» и
прочие механизмы применяли уже другие люди, которые связной латинской речью
владели гораздо лучше. В некоторых случаях эти спорные тезисы приводились «в чистом
виде», и тогда, с одной стороны, локусы-opiniones говорили сами за себя, а с другой,
авторы избегали опасности «сгладить» язык или придать ему хоть какой-нибудь
гуманистический лоск.
В некоторых других случаях мы отмечаем связные конспекты небольших трактатов
Жерсона (например, к подзаголовку De bonis operibus, соответствующему традиционному
разделу 4 глав «Центурий», приспособлен пересказ сочинения «Об образе жизни всех
верующих», излагающий некоторые довольно любопытные поведенческие нормы и
запреты (вроде пожелания девам не присаживаться среди молодых людей, не слушать их
льстивые речи и почаще молиться520). В других автор конспекта не смог самостоятельно
оценить мнение Жерсона. Например, выступает он в некоторых тезисах за Первенство
Папы или осуждает его. Был введѐн новый заголовок (De primatu et contra – «О
Первенстве и против него»), встречающийся только здесь и упоминающийся только
дважды521. В обоих этих случаях встречается указание на нежелание Жерсона судить о
природе папской власти. Очевидно, не вполне разобравшись в теме, автор конспекта
решил переадресовать эту проблему вышестоящим членам авторского коллектива.
518
Catalogus testium veritatis … P. 930-933.
Например, раздел «О молитве» состоит почти полностью из цитат, касающихся Девы Марии. См. HAB
11.11 Aug. fol. F. 127 (33).
520
Ibid. F. 118 (24).
521
Ibid. F. 181 (87r).
519
266
Этот манускрипт превосходит по богатству информации все остальные рукописи
«Центурий». В частности, мы получили иллюстрацию пагубности недостаточно чѐткого
определения обязанностей внутри авторского коллектива. Например, раздел «О
схизмах»522 написан новым работником; ещѐ один поучаствовал составлением раздела «О
Соборах»523. Оба работника решили выразить похвалу Жерсону (что вообще крайне
необычно для локусов этого конспекта, а тон нов даже для «Центурий» в целом) за то, что
он сообщил много точной информации «о короле франков, галликанской Церкви и
парижском университете». Выражения, которыми пользовались два работника (в
различных по названию и цели разделах конспекта) совпадают почти слово в слово!
Очевидно, оба они взяли за основу один и тот же материал, предварявший последнее
издание сочинений Жерсона и служивший панегириком богослову от лица составителя
(De compendiosa laude Iohannis Gersonis).
Третья тетрадь дела, собравшего конспекты 15 центурии, открывается тремя
страничками, составленными Вигандом (в черновой и чистовой копиях). Они
представляют собой список основных «действующих лиц» Реформации в некоторых
европейских странах, причѐм Мартину Лютеру отводится важное, но не первое место.
Очевидно, Виганд был далѐк от восприятия его в качестве нового «пророка» или
основателя конфессии – для него важнее было показать единство и массовость нового
религиозного и интеллектуального движения. Основная часть тетради – это конспект
тезисов Иоганна Везеля, составленный одним из самых известных членов авторского
коллектива, богословом из Ростока Каспаром Леункулом в 1560 году. Конспект был
написан в большой спешке и очень кратко, однако ему пришлось долго ждать своего
часа524. Он свидетельствует о том, что работа по всем столетиям велась с самого начала,
хотя, конечно, с разной интенсивностью (иначе невозможно объяснить перепады в
тщательности подготовки текста, а также значительные задержки с выходом новых
томов).
Лейтмотивом
этого
конспекта
является
тема
о
«скандализирующихся»
священниках. Очевидно, тексты Весселя располагают к такого рода крену. К сожалению,
манускрипт настолько краток, что не оставляет больших возможностей для анализа,
который мог бы добавить что-либо к сказанному выше. Вессель был крупной фигурой в
богословской полемике; с ним полемизировал сам Лютер525; возможно, анализ конспекта
522
Ibid. F. 199 (105) и далее.
Ibid. F. 209 (113) и далее.
524
11.11 Aug. fol. 234-323. Многие страницы пусты, на некоторых – лишь по одному локусу.
525
См. подробнее Akkerman F., Huisman G. C., Vanderjagt A. J. (eds.). Wessel Gansfort (1419-1489) and the
Northern Humanism. Leiden, New York, Cologne, 1993. 210 c.; De Kroon M. We believe in God and in Christ. Not
523
267
под теологическим углом зрения даст новую информацию к истории раннего
лютеранства.
Наконец, последняя тетрадь из посвященного XV столетию дела с рукописями
представляет нам английского богослова Томаса Неттера526. Из его работ выбраны
характеристики (чаще – простые упоминания) его самого527, учѐных церковников, с
которыми он полемизировал528, а также современных ему монархов – Генриха
Английского, Владислава Польского и Витовта «великого герцога Литвы и России»529.
Бросается в глаза, что этот конспект сделан не по стандартной схеме с заранее
размеченными разделами; автор его выписывал из источника всѐ подряд, особое внимание
уделяя характеристикам Генриха V. Всячески подчѐркивается важность фигуры Неттера в
богословском диспуте, поскольку он часто напрямую обращался к ряду европейских
государей. Несмотря на свою краткость, конспект оставляет стойкое ощущение в
недостаточной подготовленности и, возможно, уме его составителя.
Мы подошли к материалу последней («с Божьей помощью», комментировали
центуриаторы), 16 центурии530. Подавляющее большинство еѐ материалов принадлежит
руке самого Виганда и содержит сведения из биографий некоторыхпротестантских
деятелей второго ряда. Три сравнительно крупных единицы – это критика учений
анабаптистов, Осиандера531 и детальное описание виттенбергского и франкфуртского
(Одер) диспутов Лютера с Тетцелем 1517 г. В левом верхнем углу титульного листа стоит
дата 16. Cent. 22 febr 1596; возможно, она обозначает день приобретения манускрипта
герцогом Юлием или занесение его в каталоги. Первые две страницы – это готовое
введение к 16 тому (как и введения к другим томам, ни к чему не обязывающее). Его текст
расшифровал и подготовил к публикации в своей диссертации Шайбле532, но публикация
так и не была осуществлена.
Наше внимание привлекло название рубрики, в которую были помещены краткие
описания конфликта из-за индульгенций, а также первых выступлений Лютера533 - «О
месте и распространении Церкви». Это означало, что первое известие о Лютере в рамках
in the Church. The Influence of Wessel Gansfort on Martin Bucer. Louisville (Kentucky), Westminster John Knox
Press, 2009. 128 c.
526
HAB 11.11 Aug. fol. F. 314-366.
527
Ibid. F. 315-326.
528
Среди них – Уиклиф. Ibid. F. 332, 343.
529
Ibid. F. 338-341.
530
HAB 6.5 Aug. fol. Kataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Bd. 5 Die augusteischen Handschriften
beschrieben von Otto von Heinemann. Frankfurt am Main, 1966. T. I, S. 206f.
531
Внутри раздела об учении Осиандера – «зародыш» конспекта сочинения некоего Таддея Пикония с
традиционными для конспектов разделами, но практически без наполнения. HAB 6.5 Aug. fol. F. 247-276
532
Чистовик на HAB 6.5 Aug. fol. f. 279-287. См. Scheible H. Der Plan … Bd. 2. Textbeilage. S. 1-3.
533
HAB 6.5 Aug. fol. 8-11.
268
16 тома планировалось во второй (первой информативной) главе тома! Это наводит на
некоторые размышления.
Почему эта глава вообще была расположена в начале каждого тома? Конечно,
история распространения христианства в первые века наполнена сюжетом и интригой,
которая время от времени возвращается к ней и в дальнейшем. При этом основное
содержание «Центурий» - история учения – оказалось смещѐнным в 4-е главы. Нам это
представляется не случайным. В выступлениях Лютера и других первых «протестующих»
центуриаторы видели явную интенсификацию церковной жизни. Они считали, что эти
выступления свидетельствуют о «расширении церкви». Это, кстати, состоит в полном
соответствии с тезисом о Реформации как «христианизации», отстаиваемом, среди
прочих, крупным американским учѐным Скоттом Хендриксом.
Материалы этой папки демонстрируют явную установку на преемственность
между выступлениями Яна Гуса и его единомышленников, с одной стороны, и Лютера – с
другой. Как и в «Каталоге свидетелей истины», в 16 центурии преемственность была
намного важнее приоритета.Такой подход центуриаторов имел свой глубокий смысл:
показать, что «протест» развивался настолько естественно, что даже личные заслуги
Лютера развивались в рамках объективных закономерностей и потребностей Церкви.
Этото элемент протестантского мировоззрения будет иметь долгую жизнь; он скажется и
в немецкой классической философии, и в учении Гегеля о личности в истории.
Отдельные страницы объѐмистого дела (всего в папке 824 листа) представляют
собой фрагменты будущего чистовика «Центурий». В частности, это касается
подготовленного для 16 тома раздела «О церковных церемониях»534. Содержание его не
содержит ничего неожиданного, однако заметна существенная перемена в стиле. Теперь
мы видим не реконструкцию того, как было исторически или изменялось во времени, а
констатацию правильного порядка. На этих страницах написано, как должно быть.
Отсылок к евангельским временам нет, но, возможно, параллель между торжеством
истины в XVI веке и христианской историей первых веков должна была быть добавлена
на следующем этапе работы с текстом (или в другие разделы). Настоящее время глаголов
подчѐркивает торжественность и ликование праведников. Праведность подчѐркивается в
отношении самых разных сторон христианской жизни. Для центуриаторов вопросы типа
подробностей
изготовления
хлеба
для
причастия
были
достойным
объектом
исторического исследования! Возможно, их проект «всемирной истории» был излишне
ограничен религиозными материями, однако нет сомнения, что в определѐнном смысле их
можно назвать предтечами «истории длительной протяженности» в духе «Анналов».
534
HAB 6.5 Aug. fol. F. 369 – 398.
269
Какие дополнительные выводы мы можем сделать из анализа этих рукописей?
Очевидно, центуриаторы были убеждены, что локальный метод обеспечивал полную
непредвзятость их истории. Если собирать цитаты из источников и составлять их в
связный рассказ, добавив лишь немного своего для связки, то должна получиться
«подлинная» история. Тот факт, что сами источники могут быть предвзяты или что они
будут представлять историческую реальность лишь выборочно, им, видимо, просто не
приходил в голову.
Отметим ещѐ одну интересную особенность - манеру называть сочинения в
сносках определѐнным образом (имя автора в генитиве, затем объект в аблятиве с
предлогом, например, ”Wessalii de purgatorio”) крайне характерна для многих столетий
письменной культуры, и распространение этого обычая в теологических кругах
объясняется тем, что в заглавии сочинения содержится его главный посыл – тезис, тема.
Один и тот же человек не может написать два сочинения на идентичную тему, поскольку,
с точки зрения историка XVI века, вглядывающегося в прошлое, людям минувшего
нелогично иметь два мнения по одной проблеме. Этот взгляд придаѐт знанию некую
вневременную ценность, то есть обеспечивает в определѐнной степени его объективность.
Такой метод конспектирования практически исключал (по крайней мере, сильно
ограничивал) возможность перекрѐстного подбора информации (у одного автора про
другого), если они не были противниками или соратниками в полемике. Получается, что
«просто» культурный рассказ о повседневных мелочах, о нравах и быте «литературной
республики» в Центурии попасть просто не могли. Этот метод служит колоссальным
фильтром информации. Какая информация вообще не попадала в Центурии? Вся та,
которой не было в трудах конспектируемых авторов, а это – «свидетели истины» или
противостоящие им «авторитеты» от Курии: художественная, культурная, любая другая,
не касающаяся тем, заранее обозначенных в конспектах отдельных авторов. Это первый
фильтр. Второй фильтр представляет собой голова конспектатора, причѐм этих голов
может быть несколько, и тогда фильтр может немного «пропускать» - отбор сведений для
«Центурий» проводился не по строго единому критерию, хотя критерии эти были
подвергнуты «внешней» унификации с самого начала. Именно по этой причине Библия
являлась для центуриаторов особенным источником: она широко известна, в ней
содержится масса культурно-исторической информации, наличием которой 1 центурия
так отличается от других. По этой причине «фильтрация» в первой центурии затруднена, и
она по подбору информации сильно отличается от последующих. Чем дальше, чем
фильтры совершеннее; стиль становится более жѐстким, а содержание – однообразным.
270
Наконец, мы обнаружили, что конспекты были организованы не по книгам, а по
авторам; в каждом конспекте был предусмотрен раздел Ad libros superiores, информация
из которого отправлялась в более ранние хронологически тома. Очевидно, часть этой
информации попадала к сборщикам уже после выхода предыдущих томов в печати; тем не
менее, эта работа продолжалась.
271
§6. Изменения в догме, возвышение Рима, новый церемониал – основные
факторы исторического процесса
Важнейшую роль в истории церкви в «Магдебургских центуриях» играет
исследование церковной доктрины. Для этого выделена 4 глава каждого тома; чаще всего
именно эта глава является наиболее объѐмной в каждой центурии. Содержащаяся в 4
главах история христианской догмы (Dogmengeschichte) является главным достижением
центуриаторов, прорывом в методологии историко-церковного исследования; разумеется
ценность «Центурий» этим не ограничивается.
Локальный метод, упростив задачу центуриаторов, одновременно несколько
снизил эффективность их достижений. Разделив сквозным образом четвѐртые главы
каждого тома на десятки подглавок («О Боге», «О Христе», «О Троесущности» и т. п.),
они превратили тему в большое множество отдельных сюжетных линий; внутри каждой
из этих линий центуриаторы, как правило, избегали сравнений и анализа за пределами
одного столетия. Таким образом, возможная в подобном анализе динамика была сведена
на нет; отсутствуют не только сравнения положения дел в церковном учении на
протяжении нескольких веков, но – за единичными исключениями – даже сравнения
трактовки той или иной догмы от столетия к столетию. В самом деле, вряд ли можно
считать исключениями сопоставления мнений отдельных авторов-современников между
собой, а также звучащие рефреном констатации постоянного ухудшения положения дел
(ставшие непрерывным контрапунктом с 6 центурии). Эти констатации, при всех
попытках придать им художественную выразительность, выглядят монотонно и
предсказуемо и не могут заменить анализ, построенный на конкретике.
Среди тем, поднимавшихся в четвертых главах «Центурий», можно выделить
некоторые, обсуждавшие наиболее важные вопросы, составлявшие суть расхождения с
католической доктриной («О предопределении», «О свободе воли» и некоторые другие). В
них центуриаторы отходят от схоластического перечисления определений и их авторов, и
представленная ими информация обретает очевидный прикладной характер – может
служить для критики Римской церкви в диспутах и на проповедях. По материалу 4
центурии особенно заметно, что главная заслуга центуриаторов заключалась не столько в
воссоздании процесса изменения доктрины католической церкви, сколько в увязывании
этого (богословского по содержанию) процесса с «внешней» историей церкви –
императорами, гонениями на христиан и проч.
В отношении «истории догмы» можно сделать вывод, в той или иной мере
характерный для некоторых других аспектов: эпоха становится более эффективным
определяющим
маркером,
чем
личность
мыслителей
(которые
воспринимаются
272
исключительно как авторы того или иного текста) или чем детали формирования
мыслителя, представляемого им общества или социальной группы и т. п. Под словом
«эпоха» в данном случае мы понимаем принадлежность к определѐнному этапу в
общеисторической концепции. Например, те или иные тезисы не вызывают протестов,
если они могут быть соотнесены с более или менее «благополучным» с точки зрения
судеб христианства временем; напротив, в эпоху бурь и невзгод настрой центуриаторов
становится более критическим, и особенно ярко эту закономиерность видно при чтении
именно четвѐртых глав отдельных томов.
Начиная с IV центурии отклонения от истинного (с точки зрения центуриаторов)
учения собираются в особый раздел в четвертых главах – «Отклонение доктрины»
(Inclinatio doctrinae). В них собраны не только opiniones (мысли, развивающие тезисы
Священного Писания неудачным, с точки зрения центуриаторов, образом), но и мелкие
неточности при описании библейских событий. Первых значительно больше. Например, в
своде ошибок «Об ангелах» (De angelis bonis) приводятся утверждения Августина (из
Письма к Пробу) о том, что ангелы молятся Господу (5.498.15 и далее), Иоанна Златоуста
о том, что ангелы не видят Господа (5.498.48 и далее).
Среди
«отклонений» 5 центурии мы встречаем обсуждение мнений об
апокрифических евангелиях и о «Пастыре». Отношение к этим текстам центуриаторов
строгое, хотя те из древних, кто не проявил должного ригоризма, не оказались среди
еретиков, а были лишь уличены в «заблуждениях». Латинское слово naevi (изначально –
«родинки») использовалось для определения ошибок у авторов, которые тотальному
опровержению и уничтожающей критике не подлежали. Например, вина Августина была
обнаружена в допущении, что в апокрифах встречается некоторое количество истины, но
много и лживого, и вследствие этого им отказано в Каноническом авторитете535.
Рассуждая о «Пастыре», Целий Седулий допустил, что книга «весьма полезна», и, «как я
полагаю, боговдохновенна». Несмотря на такие слова, Седулий всѐ же в ересиархи не
попал! В VI веке церковное учение пострадало мало, а в VII главным поводом для
констатации углубляющегося искажения церковного учения становятся – довольно
неожиданно для нас – труды св. Исидора Севильского. Критика Исидора составила
большую часть раздела «Искажение доктрины» 7 тома536. Риминский Собор стал поводом
составить краткий список книг, рекомендованных и не рекомендованных для чтения
(«книги, которые надо читать», ст. 117-120, и «книги, которые читать не надо»,120-121).
Сред последних оказались не только все небольшие произведения Тертуллиана и
535
536
EH V, col. 527 53 и далее.
EH VII, col. 108-122.
273
Лактанция, но и Климент Александрийский, и Киприан, и большинство произведений
Оригена.
«Отклонения
от
доктрины»
в
VIII
веке
связаны
почти
полностью
с
иконопочинанием (imaginum cultura) в Восточной Римской империи. Этот вопрос важен
двумя своими аспектами. Во-первых, поражение иконоборчества на Востоке стало
краеугольным камнем доктрины о «переносе империи», всячески поддерживаемой
центуриаторами. Во-вторых, почитание икон распространится и на Западе, причѐм станет
одной из важнейших черт Римской церкви, поводом для еѐ обличения. На материале VIII
века, разумеется, конфликт между защитниками и противниками почитания икон
прослеживается на греческом материале, и в лагере идеологических противников
центуриаторов оказываются такие знаковые фигуры, как Иоанн Дамаскин и Тарасий
Константинопольский. Другим важным проявлением «отклонений» VIII века стало
посвеместное распространение культа святых537. Характерно, что почитание икон
считается в «Центуриях» одной из ересей538, однако суть этой ереси не раскрывается и в
главе о ересях иконопочитателям уделено минимальное внимание. Культ святых в VIII
веке также не особенно акцентируется.
IX век не дал повода для масштабного обсуждения доктринальных отклонений.
Собраны все (сравнительно немногие) свидетельства неточных с богословской точки
зрения суждений Рабана Мавра, Хинкмара Рейнского, Ремигия, Хаймо Гальберштадтского
и некоторых других авторов. Видно, что центуриаторы страдают в отсутствие опасных
тенденций, информации о злодеяниях, однако топос об «отклонении доктрины» чем-то
заполнить было необходимо. Собранные ими в соответствующем разделе 539 утверждения
демонстрируют, помимо отсутствия в материалах IX века подтверждающих основную
концепцию тезисов, также знаменитую бескомпромиссность авторов. Лютеране XVI века
не способны признать за отдельными мыслителями права на самостоятельность мысли,
если она расходится с библейскими истинами, если она проявляет тенденцию к
обновлению веры или к новаторству в философии. Идентичная картина наблюдается и в
10 томе (10 271-279) и 11 (11 225-238). Меняются только имена церковных авторов. К
слову сказать, в этом разделе на протяжении всего средневековья собраны тезисы только
из латинских авторов – для демонстрации падения римской церкви греческие Отцы и их
заблуждения считались, видимо, менее релевантными. Это обстоятельство – практическое
отсутствие греческих Отцов в разделах, посвящѐнных «отклонению доктрины» - также
537
EH VIII, col. 305-309.
EH VIII, col. 330.
539
EH IX, col. 205-218.
538
274
оттеняет концептуальную ангажированность Центурий и даже отождествление на
некоторых исторических этапах понятия «христианская церковь» с понятием «римская».
В 12-13 центуриях количество проработанных центуриаторами церковных авторов вновь
существенно увеличивается, и картина становится более полной и репрезентативной, а
тезисы богословов, с которыми центуриаторы выражали своѐ несогласие – более
многочисленными. В соответствующие главы возвращается сюжет.
Ещѐ ни один из исследователей не изучал суть конкретных претензий
центуриаторов к отдельным богословам. Между тем, в «Центуриях» сосредоточено
огромное количество отдельных конкретных претензий раннего лютеранства к локусам
католической доктрины, а также тезисам отдельных христианских авторов, по-разному
оценивавшихся в Риме. Это могло бы стать практически неисчерпаемым источником для
историко-богословских исследований, однако этого до сих пор, к сожалению, не
произошло.
Седьмые главы каждого из томов посвящены «политике и управлению» Церкви и,
по сути, описывают формирование папского государства. Таким образом, эти главы
посвящены одному из наиболе вопиющих злодеяний, с точки зрения лютеранских
церковных историков. Всѐ внимание их обращено на превращение богословской и
церковно-административной
реалии
в
политическую;
сама
по
себе
последняя
центуриаторам неинтересна. Читатель не получил в «Центуриях» политической истории
Папской области, хотя некоторый интересный материал для этого в ней содержится.
При написании первого тома центуриаторы столкнулись с проблемой – Писание не
даѐт достаточно материала, чтобы говорить о проблеме «управления церковью» в том
смысле, в котором планировалось – с точки зрения сосуществования и взаимоотношений
верховной светской и церковной властей. По этой причине в первой части первого тома
описывается «церковь евреев», и общий тон этого описания однозначно негативный
(«глубокий упадок», «исключительно плачевное состояние» - обычные эпитеты540). Если в
целом материал обеих частей первой центурии выступает как образец для сравнения,
точка отсчѐта для всей последующей церковной истории, по положение «церкви евреев»
также является неким «идеальным» состоянием, но только с противоположным знаком.
Она описывается для того, чтобы в последующих центуриях при констатации того или
иного прискорбного нововведения в Церкви можно было обнаружить сближение еѐ с
положением «церкви евреев».
В нескольких последующих томах изображается картина, представляющаяся
центуриаторам идеальной. Они не жалеют похвальных эпитетов для описания
540
См., напр., EH I, p. 1, col. 257 51.
275
«управления церковью», особенно часто отмечая «простоту ранней Церкви». Их радует
отсутствие церковной иерархии, привилегий одних служителей Церкви перед другими. В
эпоху античности картина является сравнительно неподвижной. После Обращения
Константина в церковной истории центуриаторов появляется новый сюжет – «Об
обязанностях государственных деятелей по поддержке и охране церковного управления и
дисциплины»541. Первой заботой государственных мужей (в первую очередь, конечно,
императоров) был подбор «подходящих и благотворных»542 мужей на должности
епископов. Эта функция представителей государственной власти поставлена прежде
борьбы с еретиками и вероотступниками и даже прежде созыва Соборов. До поры до
времени императоры в целом справляются с новой задачей. В 5 центурии очень аккуратно
сообщается о некоторых «злоупотреблениях» императоров, узурпировавших некоторые
прерогативы церковной власти. Так, они иногда отдаляли от себя «истинно мыслящих»
церковных деятелей и приближали еретических, в одиночку принимали решение о
назначении епископов и даже приказывали освободить нераскаявшихся от отлучения. В 5
центурии речь идѐт, в любом случае, о единичных локусах, с трудом выисканных
центуриаторами в «Трѐхчастной истории» и касающихся почти исключительно восточных
императоров543.
Начиная с VII века, проблематика взаимоотношений верховной светской и
церковной власти проникает и на Запад. В 7 центурии рассказывается (236-243), как
императоры распоряжались судьбой епископов, как они приказывали допустить того или
иного человека (или самих себя) к причастию или отправляли в изгнание праведных
учителей веры. С одной стороны, эти эпизоды показывают самостоятельность светских
государей и их идеальную независимость от духовной власти в их мирских делах. Короли
даже совершают убийства (241.9 и далее). Несмотря на то, что эти сведения даются без
комментариев, оправданий этому тоже не приводится, и мы можем заключить: деяния
светских государей могут быть подвергнуты молчаливой критике! Конечно, помимо
прочего, такие повторяющиеся пассажи имеют целью также укрепить взаимопонимание с
современной центуриаторам светской властью, однако они выполняют и важную
функцию для раскрытия исторической концепции. Отмечаются (пока единичные, но
авторы уже сообщили, что это следствие недостаточной плодотворности церковных
писателей) все случаи «излишней щедрости», или «излишней милости» государей по
отношению к разным церковным иерархам (242-243). Негативные моменты помещены в
541
EH V, c. 769 28-32 “De officiis politici magistratus, in iuvanda et conservanda gubernatione et disciplina
Ecclesiastica”.
542
“Idonei et salutares”. EH V, col. 769 37.
543
EH V, col. 773-774.
276
конец раздела, примерно на три четверти наполненного положительно характеризующей
светских государей информацией. Излишняя «либеральность» светских властителей к
церковникам помещена в конец раздела и тоже воспринимается как грех. После неѐ стоит
лишь подстрекательство народов к восстаниям – страшное, судя по всему, злодеяние.
В описании VIII века основные претензии центуриаторов пришлись на долю
церковных иерархов, хотя критика ещѐ сохраняет умеренность. «Из тех, кто в этом
столетии стоял у руля церквей, не все были одинаково хороши в учѐности, набожности,
рвении, твѐрдости, честности и трудолюбии»544. Тем не менее, в главе появляется новый
раздел – «Грехи руководителей Церкви»545. Очевидно, эта глава не могла появиться ранее,
чем в Церкви оформится устойчивая иерархия, а также ранее, чем эти «грехи» не
достигнут критической массы. Этот раздел прекрасно приживѐтся и будет существовать и
в последующих центуриях, постепенно превратившись в важный элемент концепции.
Пока содержание этого раздела разнородно, в него попали как локусы, описывающие
отступления церковных лидеров от принятых норм служения (например, практика
расторжения браков), так и отход от принятых норм поведения. Последние – например,
проявления жадности или страстей, вроде увлечения охотой – не воспринимаются как
частные случаи, а встраиваются в общую картину постепенного падения нравов.
Однако важнейшим концептуальным элементом главы об «Управлении Церковью»
является раздел, посвящѐнный «Первенству Петра» - возвышению римского епископа над
Западной Церковью и возникновению папства.
В первых центуриях всячески подчѐркивается отсутствие различий между
церквями столичных и провинциальных городов. Во второй части первой центурии
собраны тезисы из Писания, из которых можно сделать заключение об отсутствии в
ранней Церкви идеи о превосходстве одних кафедр над другими. Для рассказа о состоянии
Церкви Христа привлекаются даже Каноны апостольские546, ценность которых в
локальной системе центуриаторов в целом невысока. Впрочем, в качестве источников
приводятся только те локусы из Канонов, которые могут быть подтверждены прямыми
цитатами из Связенного Писания, что и делается раз за разом. Во 2 центурии этот сюжет
становится
интереснее,
так
как
обогащается
опровержением
аргументов
противоположной стороны. Приводится множество локусов (сочинений церковных
авторов II века), из которых следует, например, что в переписке римские епископы не
пользовались никакой особенной титулатурой. Доказывается, что современная событиям
544
EH VIII, col. 428 55 и далее.
EH VIII, col. 442-448.
546
EH I, p. 2, col. 530-544.
545
277
святоотеческая литература не упоминает никаких свидетельств привилегированного
положения римской церкви. Здесь особенно полезным оказался акцент именно на
современные событиям источники. Если в отношении ряда других положений концепции
мы отмечаем недостаточность и даже ущербность избранного членения истории по
столетиям и установки на описание исторической реальности только по источникам того
же века, в данном случае логика центуриаторов позволяет им сделать свою аргументацию
неприступной.
Та
же
логика
позволяет
им
выступить
с
замечательной
источниковедческой критикой ряда распространѐнных источников (Канонов апостольских
или Декреталий).
С IV века начинается важнейший для исторической концепции «Магдебургских
центурий» процесс – открытая борьба римских епископов за лидерство в Церкви (Primatus
Petri). Он прямо отождествляется с библейской «тайной беззакония»547 и теперь более не
покидает исторической авансцены. Через все первые тома контрапунктом проходит идея о
том, что в христианском мире было множество «метрополий» - независимых друг от друга
в церковно-иерархическом плане городов548. Эти города обычно перечисляются в порядке,
основанном на структуре главы 2, посвящѐнной распространению церкви в мире.
Метрополии сгруппированы по континентам (Азия, Африка, Европа и «острова»); эта
группировка идеально соответствует распространѐнной в XVI веке упрощѐнной,
«трѐхлепестковой» карте мира. В ней круг земель представлен в виде симметричного
трилистника, разделѐнного Средиземным и Красным морями, а также Северным Океаном.
В центре этой карты помещѐн Иерусалим – «пуп земли», место действия библейских
событий. Дополнительным аргументом в пользу нашей точки зрения служит строгое
соблюдение центуриаторами «симметрии» в описании картины по континентам –
количество церквей (епархий, церковных авторов, часто ересей) должно быть
соразмерным. На «острова» (крупные и средние острова Средиземного моря, а также
Англию) это правило не распространяется.
Зачем нужна постоянно повторяющаяся схема? Дело в том, что, в соответствии с
получившими распространение в Европе эпохи Возрождения представлениями, гармония
мироздания возможна только в системе нестрогой симметрии. Словесная «Картина мира»,
в которой Рим занимает скромное место среди европейских соседей, а противолежат ему
не менее славные африканские и азиатские религиозные центры, выглядит соразмерной и
«идеальной». Всем своим обликом она сообщает, что помещение «центра мироздания» в
Рим не только нарушает гармонию, но может оказаться гибельным для всего
547
548
2 Фес 2:7; см. в «Центуриях» EH IV, col. 549 42.
См., напр., EH V, col. 749-750.
278
мироустройства. Создание этой почти графической картины преследует необычную для
нашего традиционного восприятия межконфессиональной дискуссии цель – воздействие
на иррациональное начало в читателе, убеждение его при помощи ярких образов, а не
строгих логических аргументов. Подобная аргументация не имеет ничего общего с
«искусством» в традиционном понимании этого слова, поскольку не ориентирована на
идеал прекрасного. Скорее, перед нами своеобразный пример «нейролингвистического
программирования» из XVI века. Во-первых, Рим не занимает в этой схеме центрального
положения, и «листок клевера» служит этому дополнительным подтверждением. Вовторых, устойчивая установка на симметрию между лепестками трилистника – это ещѐ
один аргумент в пользу «глобального» восприятия христианского мира, доказывающий
отсутствие европоцентризма в представлениях лютеранских историков поколения Флация
Иллирика.
Начиная с V столетия, каждый римский епископ оценивается сквозь призму
процесса борьбы Рима за главенство в Церкви, как если бы эта борьба была бы
объективной реальностью, существующей вне реализующих еѐ людей. В 5 центурии в
разделе о «епископах и учителях церкви» центральное место отведено предстоятелям
римской церкви549. Независимо от комплексной оценки деятельности того или иного
епископа, деятельность каждого из них, направленная на «первенство Петра», служит
лейтмотивом. Так, «положительная часть» раздела, посвящѐнного папе Иннокентию
(1228-29), содержит скудную биографическую информацию и отдельные его тезисы, не
расходящиеся с богословскими воззрениями центуриаторов. Раздел, посвящѐнный
«недостаткам» (1229-1236), содержит далеко не только расходящиеся с определѐнной в
первых центуриях доктриной положения, но и политические действия (особенно
внимательно собраны проявления власти римского первосвященника, реализованные за
пределами Города, и это понятно). Разделы, посвящѐнные Целестину I и Сиксту III и
последующим папам, не содержат отдельной рубрики с «недостатками», хотя и содержат
примеры деятельности, направленной на узурпацию власти над остальным христианским
миром. Упоминания об этом связаны друг с другом, причѐм выдержаны по нарастающей
линии: папа Целестин «боролся за первенство римской церкви более бесстыдно, нежели
его предки» (1246.24-26), Лев «также не прекратил, по примеру своих предшественников,
бороться за первенство римской церкви» (1262.13-15); Феликс III «решительно продолжил
борьбу за первенство римской церкви, по обычаю своих предшественников» (1270.33-35).
За каждым из этих утверждений следуют примеры, и ритмичность повторов вызывает
ощущение ещѐ очень далѐкой, но неотвратимо надвигающейся катастрофы. Римская
549
Глава X, EH V, col. 1226-1312.
279
церковь структурно ещѐ никак не выделена в разделе на фоне остальных – она не
помещена ни в начало, ни в конец раздела, что должно было подчеркнуть еѐ рядовое по
отношению к другим церквям и метрополиям положение.
В VI веке складывается, наконец, «власть и могущество римского понтифика».
Поворотным называется указ Юстиниана о первенстве римского папы надо всеми
священниками550; вторым после него был назван архиепископ Константинопольский.
Король остготов Аталарих также издал подобный указ. Упоминание об этих актах не
особенно объѐмно и структурно также не выделено: локальный метод не позволял авторам
выделять структурно или эмоционально те или иные факты на фоне остальных – все были
представлены примерно одинаково. По этой причине поворотные события в «Центуриях»
- это не те, которые упоминаются постоянно в разной связи, а те, которые помещаются
авторами в начала разделов.
Все новшества в области религиозных ритуалов, не основанные на евангельской
традиции, обычно в большей или меньшей степени подвергаются на страницах
«Магдебургских Центурий» осуждению. Строже всего, разумеется, центуриаторы
относятся к новшествам из Рима551; если отрешиться от оценочных моментов, то можно
увидеть в соответствующих главах попытку первого в историографии этнографического
исследования о римских нравах, о локальных обычаях в историческом разрезе. Конечно,
для полноценного исследования у центуриаторов был слишком узок источник, однако (в
силу антиримской предвзятости прежде всего) мы можем быть уверены – он был
обработан максимально качественно. Таким образом, «Центурии» не стали первым в
собственном смысле слова этнографическим сочинением, однако указали оригинальный
методологический путь – на фоне более широкого повествования от самых истоков, с
постоянным проведением красной нитью линии общепринятых в христианском мире
ритуалов, показать новшества, постепенно складывающиеся в стройную картину.
Раздел
VII
главы,
посвящѐнный
росту
могущества
римских
епископов,
формировался однородно вплоть до 7 тома включительно. Например, Григорий сам
именовал епископа Константинопольского Иоанна «вселенским»552. а патриархи
константинопольские демонстрировали полную самостоятельность в действиях и
независимость от римских553.
550
Поворот происходит в VIII веке, и ему центуриаторы
“De Ecclesiasticis titulis et privilegiis”
В VI веке – о новшествах в традициях христианских захоронений, причастии, деталях церемониала и т. д.
– EH VI, col. 373 и далее.
552
EH VI, col. 441 55.
553
EH VII, col. 235-236 и др.
551
280
уделяют особое внимание554. Резко возрастает уровень полемичности, острее становятся
определения, тяжелее – обвинения. Речь идѐт уже не об отвлеченной «тайне беззакония»,
не о «лидерстве Петра», а о «господстве и тирании», о «трудах Антихриста в
начальствовании Церковью». Раздел под таким названием появляется регулярно, начиная
с 8 центурии. В 10 центурии в вину римским епископам ставились господство над
другими церквями, суеверия («ложные культы»), стремления управлять «царствами мира
сего», нарушения договорных обязательств, кражи, разврат, даже жестокость555. Эту главу
сменяет другая – «Об обязанности светских должностных лиц» (politici magistratus); в ней
идѐт речь о благих поступках императоров. Открывают эти замечательные примеры
выполнения императорами своих «обязанностей» случаи назначения ими римских
первосвященников. Соответствующий раздел в 11 центурии выделен красивым
витиеватым заголовком и отличается весьма сатирическим тоном. Внутри него имеются
подразделы «О господстве над церквами всего мира» и «О культе мессы». Главным
героем
первого
является
папа
Григорий
VII,
а
основными
источниками
компрометирующей его информации стали «Бамбергская хроника», а также работы
Бьондо, Авентина и Хедио556. Второй содержал примеры чрезвычайных богослужений,
которые интерпретировались как «культ мессы», то есть неоправданное усложнение
церковных практик.
Полностью сатирический тон выдержан в соответствующей главе 11 центурии557.
Раздел «Царица мира сего и слава еѐ» состоит из двух частей с красноречивыми
заголовками – «Императороподобный папа» (Papa caesaraeatus) и «Вавилонская
блудница». В первом ярко и эмоционально описывается, как папы вознеслись выше
императоров и присвоили себе право назначать и снимать светских правителей. Во втором
– о нравах при папском дворе, о способах, которыми добивались папского престола.
Особый раздел посвящѐн тем, кто вольно или невольно способствовал папским
узурпациям не принадлежащих им прав558. Эти люди разбиты на две группы –
церковников и светских лиц. Среди последних – и князья, которые, как выясняется, могли
быть небезгрешными и способствовать возвышению пап. Борцы с папскими узурпациями
также классифицированы в зависимости от занимаемого положения (в обратном порядке)
– «императоры», «князья и короли», «церковники»559. Вопреки ожиданиям, в обоих
554
EH VIII, col. 477-508.
EH X, col. 403-410.
556
EH XI, col. 370 и далее.
557
EH XI, col. 377-383.
558
EH XI, col. 383-387.
559
EH XI, col. 387-391.
555
281
разделах речь идѐт не об исторических персонажах, а о способах их действия. Имена,
конечно, тоже приводятся, однако не играют центральной роли.
Важным элементом политического возвышения Рима было имущественное
обогащение римской церкви. Этот процесс также анализируется в «Центуриях»
диахронически. IV век стал поворотным и в вопросе накопления церковью мирских
имуществ560. Всѐ началось с императора Максимина, «сражѐнного тяжкой болезнью» и
сделавшего завещание в пользу церкви. Далее прослеживалось, как церковное имущество
«прирастало щедростью императоров и цариц»561. Первоначальное использование этого
имущества не вызывало возмущения центуриаторов: оно шло на пропитание служителям
церкви (включая и епископов); конспективно сообщается и опомощи «вдовам, сиротам,
девам» (5.747.40). Начиная с VII века, начинают проявляться негативные моменты.
«Имущественное расслоение» среди церквей было вызвано – пожертвованиями
«императоров, цариц и государей»562. Центуриаторы приводят известия о дарении
золотых и серебряных чаш, драгоценных одеяний, доходов, скота, даже кораблей;
рассказывают об использовании их для выкупа пленников, устройства беженцев, спасения
от голодной смерти, помощи пострадавшим от стихийных бедствий. С течением времени
неправедное обогащение римской Церкви набирает ход и чѐтко оттеняет рост
политических претензий.
Ритуалы и церемонии Церкви также начали меняться к худшему в IV веке. В 4
центурии картина ещѐ вполне позитивна, хотя начинают проявляться некоторые
симптомы будущего упадка. Новые формы приобретает в IV веке культ святых:
начинается перемещение их мощей и поклонение им.
«Только в этот век, отчасти вследствие излишних проповедей о святых, отчасти
из-за плевела о посредничестве святых, отчасти – из языческого суеверия это началось,
а впоследствии поразительным образом всѐ больше и больше росло, получая
подтверждения с помощью лживых чудес и знамений»563.
Свидетельства этому были обнаружены в «Трехчастной истории», а также в
сочинениях Амвросия. То же можно сказать и о зарождении в эту эпоху
традиций
паломничества к святым местам (458-58), и о зарождении монашества (464-470). Однако в
целом нравы христиан ещѐ достойны похвал; центуриаторы с удовольствием отмечают те
560
EH IV, col. 503 22-24.
EH V, col. 746 8-10.
562
EH VII, col. 207-210.
563
EH IV, col. 456.
561
282
отрицательные явления, которые ещѐ не получили среди верующих массового
распространения (например, чрезмерное почитание светских магистратов, или, напротив,
недостаточное почтение служащим церкви, или недостаточная стыдливость, или занятие
ростовщичеством и так далее). Центуриаторы готовят противнику «логическую западню»,
создавая глубоко позитивный образ церкви и верующих для того, чтобы последующие
тома прозвучали резким контрастом.
Контрастность усиливается, когда речь заходит о ритуалах и нравах «Римской
церкви», то есть той части христианского мира, которая находилась в орбите власти
римского епископа. Симптомы будущего падения ещѐ едва просматриваются, однако
видно, что негативное влияние на положение вещей оказала дружба римских церковных
властей с императором564.
В V веке, как и в предыдущие столетия, отлучения были нечастыми, но, с точки
зрения центуриаторов, оправданными и поэтому не подлежащими критике. Прежде чем
отлучить грешника, церковь прибегает к «частым и серьѐзным предупреждениям»565;
применение этой строжайшей меры наказания указывает пока только на строгость
дисциплины, неотвратимость возмездия. Приводится даже случай
«посмертного
отлучения» епископа Арсакия (наследовавшего должность за Иоанном Златоустом), имя
которого было вычеркнуто из списка предстоятелей566. Этот эпизод трактуется
исключительно серьѐзно, описанное воспринимается в порядке вещей. Приводится и
другой эпизод567, в котором некий монах, не получивший от императора Феодосия II чегото, о чѐм он его просил, в отместку отлучил венценосца от святого причастия. И Феодосий
воспринял это очень серьѐзно и даже посылал за священником. Священник отнѐсся к
происшедшему
со
всей
строгостью,
да
только
отлучение
было
признано
недействительным, поскольку данный монах никакого права на него не имел. Этот локус
был необходим для последующих сравнений, и с этой целью он размещѐн в книге как
можно заметнее, описан сравнительно многословно, изящными оборотами и даже с
некоторым, вполне уместным и сдержанным, юмором. Отметим, что у данного эпизода
нет ссылки на источник. Ничего особенного мы в этом не усматриваем; видимо, этот
случай ходил из книги в книгу, и выпавшая сноска просто не бросилась редакторам в
глаза. Мелкие разделы 6 глав, посвящѐнных церемониалу (например, об изгнании бесов, о
мессе, о церковных назначениях и прочие) часто завершаются каким-нибудь «Казусом»,
всегда одним любопытным случаем, который иллюстрирует общую «тональность»
564
EH IV, col. 477-483.
Например, EH V, col. 664.
566
EH V, col. 666 30-45.
567
EH V, col. 666-667.
565
283
данного раздела. Он выделен структурно, бросается в глаза, подчѐркивает идею главы.
Его функция выходит за пределы обычной «локусной» фактуры книги: он украшает
повествование, делает его менее монотонным. «Казус» всегда более пространен по
сравнению с локусом (чаще всего от 15 до 30 строк) и написан связной речью, на хорошей
латыни. Авторы употребляют элегантные обороты, используют сложные элементы
синтаксиса. Впрочем, как только упрощѐнный синтаксис локуса уступает место свободно
льющейся речи, появляются и языковые огрехи, часто относящиеся к правилам перевода
из прямой речи в косвенную. В большинстве случаев перевод из прямой в косвенную речь
был единственной операцией, которую автор локуса должен был проделать с исходным
отрывком перед помещением его в текст «Центурий». Время от времени неточности (речь,
конечно, не идѐт о грубых языковых ошибках) указывают на недостаточно уверенное
владение латынью кем-то из рядовых членов авторского коллектива. Эти «казусы» (и в 5
томе, и в последующих) часто представляют собой забавные случаи или парадоксы,
разрешившиеся занятным образом.
Важны «ритуалы относительно Поста»; рассматриваются и сюжеты о ритуалах,
связанных со свадьбами и похоронами. В V веке «усиливается» традиция молиться за
умерших и раздавать по случаю милостыню. Об этом упоминает Иоанн Златоуст 568.
Многие перемены в этих ритуалах связываются непосредственно с влиянием язычества569;
похвал удостоены те из церковных авторов, кто с нововведениями боролся. Начиная с 5
тома, важность приобретает раздел «О монахах». Он прибавил в объѐме; отдельно
рассматриваются ритуалы, одеяния монахов и организационная структура монашества.
Заметна тенденция не только к увеличению количества информации, но и к установлению
внутренней структуры, к рационализации полученных сведений. С большим удивлением
отдельно написано о столпниках (5.718) Раздел «О пороках» (5.723-724) специально
создан для того, чтобы отслеживать негативные изменения. Конечно, в них приведены не
все явления, против которых выступали в V веке уважаемые церковные авторы: отмечены
только совсем не многие из них, способные оттенить «упадок нравов» - выражение
corruptio morum и производные от него встречаются повсеместно. Среди различных
пороков выделяются характерные для Римской церкви. В 5 центурии они касаются в
основном вопросов богослужения, его места и атрибутов, отлучения, назначений на
церковные должности, причащения, поста, соборование и прочие, в которых, на взгляд
центуриаторов,
возможно
общехристианской.
568
569
EH V, col. 696 16-19.
Например, EH V, col. 695 20-22.
проследить
выделение
«римской»
традиции
из
284
В 6 томе сведений о ритуалах немного, поскольку источники по VI-VIII веку
довольно скудны. Однако именно VI веком центуриаторы датируют возникновение
самого настоящего культа святых: «Весьма прискорбна глупость слепого рода
человеческого, абсолютно губительно безрассудство и дерзость изобретения себе культа
теми, кто не боялся, на манер язычников, воздавать почести, предназначенные одному
Богу живому, от мѐртвых тварей»570. В VII веке «нравы христиан» изображаются в целом
очень положительно. По материалам церковных Соборов делается вывод, что верующие
испытывали милосердие, чтили магистратов, ценили дружбу, согласие и почѐт общества,
отличались трудолюбием, «были исключительно гуманны и приветливы с нуждающимися
и странниками». Положительная картина нужна, чтобы подчеркнуть наметившееся уже в
предыдущем томе отклонение римской практики от общехристианской571. VIII веком
датируется зарождение прискорбной тенденции - папа Стефан отпустил Пипину
клятвопреступление572. Опять VIII век обретает символьное значение. В VI падение
началось, в VII произошли важные перемены, а с VIII началось всѐ более быстрое
соскальзывание в пучину греха.
По мере усиления антиримской риторики меняется и взгляд на структуру этого
раздела. В 11 томе имеется раздел, состоящий из одного-единственного локуса – эпизода о
том, как Генрих II вместе с аристократами, клиром и всем народом вышел в Бамберге
навстречу папе Бенедикту. Этот раздел получил красноречивое название «Ритуал
поклонения Римскому Антихристу» (Ritus adorandi Antichristum Romanum)573.
570
EH VI, col. 347 40-46.
EH VII, col. 181-183.
572
EH VIII, col. 357 3.
573
EH XI, col. 347 9-14.
571
285
§7. Некоторые оценки на страницах «Магдебургских центурий»
Интересной особенностью концепции
наличие
своеобразной
градации
«Магдебургских центурий» является
прегрешений.
Отход
от
истинного,
в
глазах
центуриаторов, учения материализуется в отдельных тезисах, выступлениях, действиях
конкретных людей, а иногда – даже в форме общественных явлений. Эти отдельные
факты оформляются в виде локусов и как локусы подвергаются оценке. Оценка, даже
будучи отрицательной, может иметь различные градации «тяжести». В зависимости от
оценки отдельных локусов выносится суждение и о целых сочинениях, и об авторах.
Тяжесть накопленных отрицательных оценок определяет отношение центуриаторов к
автору и вероятность попадания его в худший из разрядов – к «еретикам».
Рассматривая судьбу различных авторов в «Центуриях» внимательно, мы
обнаруживаем, что «чѐрно-белая» логика этого сочинения на деле обнаруживает большое
разнообразие «оттенков серого». Так, некоторые вполне уважаемые церковные авторы и
даже светские правители оказываются в одной категории с Арием и Афанасием, однако
это означает не отождествление их с силами Зла, а превалирование негативных оценок
отдельных локусов, построенных на их высказываниях или поступках.
Еретиком
par
excellence
в
«Магдебургских
центуриях»
является
Арий.
Центуриаторы опирались на «Трѐхчастную историю», сформировавшую традицию
беспрекословного осуждения арианства; традиция эта не была поставлена под сомнение
ни одной из противоборствующих сторон даже в бурную эпоху, последовавшую за
Констанцским Собором. 4 центурия была фактически построена вокруг двух центров
логического притяжения – императора Константина и Ария; учение последнего и
опровержение тезис за тезисом стало обязательным элементом тома (315-354). Тезисы
Ария и его сторонников дошли до центуриаторов (и до нас) только через сочинения их
противников, что упрощало как диспозицию их, так и критику. В длинном списке
противников Ария (326-327) содержатся не только авторы, которые критиковали его
учение спустя много лет и даже десятилетий. От «клевет арианских» Египет очистила
Божья благодать, а Италию – император Грациан (355). Заслуга последнего заключалась в
том, что он разгромил армию из огромного количества арианцев, казнив особенно
ревностно отстаивавших ложную веру тридцать алеманов. Эта казнь воспринималась
центуриаторами как однозначное благо для Церкви.
Наименее непростительные из прегрешений уважаемый в целом авторов
выделяются в особую категорию – stipulae, букв. «соломинки». Подобных огрехов много у
авторов IV века; очень характерен пример Лактанция.
286
Известный и авторитетный церковный автор Лактанций Фирмиан подвергся на
страницах IV тома многочисленной, но неглубокой критике. Возможно, причина частых
укоров заключается в том, что центуриаторам было на кого опереться: критика Лактанция
содержалась ещѐ в трудах Иеронима. Иероним писал в основном об ошибках Оригена, и
эти упрѐки способствовали формированию в целом отрицательного мнения о последнем.
Среди «соломинок» мы встречаем, например, тот факт, что, определяя природу
Божию, Лактанций воспользовался фразой Сенеки о том, что Бог породил себя сам. То же
сделал М. Викторин в первой книге против ариан. Этому эпизоду противостит множество
других, гораздо более «формальных». Логически претензии центуриаторов вполне
объяснимы, однако в доказательстве подчинѐнности святоотеческого наследия Писанию
сквозь
призму
локального
метода
превалирует
один
приѐм
–
демонстрация
невозможности буквального доверия тезиам Отцов. «Соломинками» оказались некоторые
смелые эпитеты, которые могли быть истолкованы как излишняя вольность, а если их
понимать прямо, то даже как ересь. Выступая против буквального понимания Отцов,
центуриаторы в то же время требуют буквального понимания Писания. Например,
осуждая зарождение культа мучеников, они приводят слова Амвросия Медиоланского:
«Тот, кто почитает мучеников, почитает и Христа, а кто отвергает святых, отвергает и
Господа. Пусть же задумается благочестивый читатель, на сколько сие ужасно, ибо лишь
Христос искупил грехи»574.
Более тяжѐлые или более многочисленные прегрешения против церковного учения
получают называния «ересей». Откуда они берутся? В 5 главе 4 тома собраны цитаты о
том, что главной причиной является недоумие ересиархов: о происках диавола речи не
вели ни Отцы IV века, ни центуриаторы от собственного лица. Все ереси располагаются в
хронологическом порядке по императорам. Сначала выделяются «Ереси при Константине
и его сыновьях», первой среди которых оказывается, разумеется, арианство. Близость
некоторых утверждений Оригена к положениям арианства позволило центуриаторам
вынести этому автору в целом негативную оценку, что выглядело резким разрывом с
предшествующей историко-церковной традицией (317 30-45). Главными источниками по
арианству были сочинения Никифора и особенно Афанасия, а также Илария и Августина.
Все
положения
арианства
(которые
сегодня
сводятся
в
целом
к
отрицанию
божественности натуры Иисуса, а следовательно, учения о Троице) тщательно
классифицированы и приводятся на основании цитат из книг, критиковавших в своѐ время
Ария и его учение. Они классифицированы на группы «О Боге» (2 положения), «Об
574
EH IV, col. 302 35-56.
287
ипостасях Троицы», «Об Отце» (4), О Христе, «Против божественной природы Христа»
(14), «Против человеческой природы Христа», «О св. духе» (6), «О крещении»575.
Центуриаторы избегают опровергать Ария от своего имени, предпочитая опираться
на цитаты из авторов, одобренных последующей христианской традицией (“auctores
probati”). Сначала приводились тезисы Ария (EH IV 319-323), а затем, вслед за ними (но
не строго по порядку)
- опровержения (EH IV 326-354). Чаще всего (но не всегда)
опровержение приводится из того же источника, из которого брался и еретический тезис.
Так сделано относительно всех тезисов Ария. Это означает, что сначала были отмечены
все доступные центуриаторам фрагменты св. Отцов, в которых критикуется то или иное
положение арианства, а каждый из таких фрагментов был поделѐн на две части: первая, с
констатацией тезиса Ария, попала в перечень положений ереси, а вторая вошла в «корпус
опровержений».
Учения Мелетия и Евсевия Никомедийского, последователей Ария, представлены
как отдельные ереси, однако детального опровержения не приводится. Это и понятно:
ничего принципиально нового по сравнению с учением Ария эти ересиархи не выдвигали.
В частности, они поддерживали Ария в период его критики, но после разгрома главной
ереси (а борьба с арианством воспринимается центуриаторами именно в виде разгрома)
они продолжали проповедовать свои идеи, что вынуждает историков выделять их в
отдельные ереси. Тем самым центуриаторы избегали рассуждений о живучести арианства
и об эффективности борьбы с ним авторитетных писателей. Все, кто что-то добавлял к
учению Ария или как-то его модифицировал, удостаивались в «Центуриях» отдельной
главки. Например, софист Астерий (EH IV 359-362) был подвергнут критике в
святоотеческой литературе совместно с Арием, а в «Центуриях» - отдельно от него. Это
придаѐт книге универсальности и энциклопедичности, хотя, с другой стороны, заставляет
еѐ авторов препарировать историческую действительность в зависимости от концепции.
Отдельной ересью, например, представлены «дулиане»576: отпочковавшись от основной
линии арианства, они основывали своѐ учение на силлогизме о том, что всѐ созданное
служит своему создателю, а сын есть созданное отцом. Следовательно, Сын божий есть
раб (δοῦλος) своего Отца. Парадоксально, принадлежность к еретической церкви не
обязательно влечѐт за собой негативную оценку. Например, арианство остготов VI века
было лишь свидетельством чрезвычайной распространѐнности этой ереси в этот период. В
X веке, как и в XI, отмечалось лишь небольшое количество ересей. Центуриаторы
обратили на это внимание и объясняли
575
576
EH IV, col. 316-355.
EH IV, col. 364 1-15.
288
…несомненно,
как
нерадением
некоторых
богословов,
так
и
тем
обстоятельством, что сей могучий и вооружѐнный господин (fortis ille armatus577) владел
своим домом в тот век с предельной уверенностью.
И далее:
Тирания римских первосвященников настолько подавила вселенскую христову
церковь, что распространившиеся по всему миру церкви были вынуждены больше
опираться на сложные и длительные церемонии, чем на положения и учреждения
веры578.
Таким образом, для доказательства всеобщего упадка Церкви ереси перестают быть
концептуально необходимыми. Греческая Церковь с XI века вообще, по мнению
центуриаторов, впадает и идоломанию под прямым влиянием Антихриста, и вычленение
отдельных течений или ересей центуриаторы считают явно излишним. Конечно, свою
роль сыграло и ослабление авторского коллектива, и особо неблагоприятные условия
работы над 10-11 томами, однако это вторично.
Для общей исторической концепции «Центурий» важно, чтобы ереси были
рассортированы по правлению императоров. В VII-VIII веках, когда череда императоров
была представлена только византийскими правителями, ереси и Отцы западной Церкви
классифицированы по басилевсам Востока. Для называния ереси первым идѐт указание на
то, при каком императоре (или каких императорах) сия ересь существовала, а затем еѐ
«собственное» наименование, которое, по сложившейся традиции, в большинстве случаев
выводится
из
имени
основателя
(например,
донатисты,
представленные
как
принципиально новая по отношению к арианам ересь)579. Ереси Аполлинария,
Мессалиана, Евномия и других также тщательно перечислены (а для этого прежде
расклассифицированы по императорам), описаны, приведены опровержения. Феодорит,
Епифаний и некоторые другие авторы стали неиссякаемым источником различных
учений, к каждому из которых центуриаторы относятся с необходимой серьѐзностью.
577
Налицо характерная уже для новых языков субстантивация, в которой ille играет роль отсутствующего в
нормативном латинском языке артикля. Подобная любопытная картина периодически встречается в тексте
«Центурий», как, например, Otto ille Magnus и т. п.
578
EH X, col. 279 45-58.
579
EH IV, col. 46-50: Sub Constantino, Iuliano, et aliis. De Donatistarum, Circumcellionum et Parmenianorum
haeresi.
289
К чему такая парцеллизация? Вряд ли центуриаторы считали все ереси в равной
степени опасными для судеб христианского учения. Видимо, они боялись упустить одну
из них, что дало бы повод противоположному лагерю, известному своей скрупулѐзностью,
это заметить и раздуть искру в пожар. Вполне в духе эпохи было бы утверждение о том,
что раз та или иная ересь не представлена среди других, это значит, что именно она
устраивает тлетворных центуриаторов и именно она является тайной основой их
диавольского учения.
После анализа посвящѐнных ересям страниц мы вынуждены отметить, что
локальный метод центуриаторов, согласно которому локусы о ересях собираются воедино
и приводятся отдельно от информации о ересиархах, имеет свой глубокий смысл: колонны
с 316 по 406 представляют исчерпывающую панораму, позволяющую увидеть сразу всю
картину, ужаснуться опасности, которая нависала над «истинным» учением, а также
порадоваться тому, что последнее в конце концов одержало победу. Подробный рассказ о
личностях, их пути к еретическим утверждениям и проч. мог только отвлечь читателя,
запутать его. Рассказ о собственно ересях настолько полон и информативен, что его
композиция не допускает излишних рамификаций. В то же время, благодаря «Методу» и
делению на главы информация о биографиях церковных иеррахов и богословов (гл. X) и
ересиархов (гл. XI) вполне доступна и не нуждается в том, чтобы еѐ выставляли напоказ.
Разработанный Флацием и Нидбруком метод оказался исключительно эффективен.
Помещение, к примеру, биографий ересиархов среди рассказа об их учениях запутало бы
композицию данной главы, лишив еѐ строгой выразительности. Опровергая, нужно было
действовать именно так: защищая, можно действовать и иначе – это мы увидим,
например, в трудах Барония.
Весьма скомпрометировавший себя в глазах центуриаторов Лактанций помещѐн
среди «епископов и докторов», со вполне почтительной статьѐй (1075-1084). Допущенные
им неточности (naevi) также перечисляются (1079.55 и далее) аккуратно, строго, но без
резких суждений и риторических отступлений: «впал в заблуждение», «небезопасно
рассуждал», «согрешил» и тому подобное. Ещѐ более строго отнеслись центуриаторы к
Тертуллиану: большинство локусов из его сочинений оказались в 4 главе, посвящѐнной
искажению церковного учения. Несмотря на то, что биография Тертуллиана помещена
среди «епископов и докторов» (гл. X580), «родимые пятна» его утверждений
перечисляются скрупулѐзно. Этот и другие примеры позволяют сделать любопытное
наблюдение.
580
EH III, col. 236 и далее.
290
О «плохом» у «хороших» людей (церковных авторов, оцениваемых в целом
положительно) центуриаторы пишут охотно, а наоборот – нет: никаких положительных
аспектов в учениях еретиков нет и быть не может. Для того чтобы оказаться среди
еретиков, достаточно допустить только одно отклонение от основ христианского учения.
Непримиримость центуриаторов не упрощает общей картины. Скорее наоборот: она
предъявляет к их критике особенно высокие требования, которые должны быть строго
выдержаны. В самом деле, отсутствие у того или иного деятеля строго единообразного
подхода, даже банальный «просмотр» богословского заблуждения делал всѐ наследие того
или иного деятеля (автора, проповедника, предстоятеля церкви или, напротив,
противостоящего ей светского человека) уязвимым. Эта уязвимость облегчала противнику
– католической партии – подготовку опровержения, снабжала его аргументами.
Накопленные замечания при превышении некоей «критической массы» становились
питательной средой, в которой быстро росло недоверие к «Центуриям» и к их концепции
в целом. В свою очередь, это недоверие становилось базой для борьбы с лютеранским
видением истории, с критикой папства. По этой причине центуриаторы были вынуждены
подвергать тексты каждого автора скрупулѐзному анализу; отсутствие диалектических
элементов оценки деятельности того или иного персонажа, градаций, «оттенков серого»
лишало их возможности манѐвра, а значит, и права на ошибку.
Среди Отцов Церкви есть, разумеется, и сугубо положительные персонажи,
критика которых сведена к минимуму. Возможно, ярчайшим из таких является Аврелий
Августин.581 Центуриаторы перечисляют книги, которые дошли от Августина, разбив их
на три категории – написанные «оглашѐнным» (1120-22), «пресвитером» (1122-1124) и
«епископом» (1124-29), перечисляя неизвестные им тексты наряду с известными. Для
центуриаторов очень важно, в каком качестве, на какой ступени церковной иерархии
писал один из наиболее чтимых ими античных авторов свои произведения, и при этом
совершенно не важно, дошли ли сами эти тексты до нас. Почему? Видимо, перечисляя
труды Августина, они более задавались вопросом о правомерности постановки тех или
иных вопросов, нежели доступностью текстов в чистом виде, как источника. Августин как
совокупность богословского наследия их интересовал лишь отчасти, и это естественно,
принимая во внимание эпоху и общую концепцию сочинения. Главный текст истории –
это Библия, а остальные дошли до нас в том количестве и в той форме, которые были
угодны Богу. Своей задачей центуриаторы видели перечисление трудов и определение
неточностей (naevi), которые, в свою очередь, важны для характеристики как автора, так и
эпохи. Неточности Августина собраны отдельно (1133-36), чтобы проиллюстрировать
581
EH V, col. 1113-1135.
291
процесс разрушения древнего учения в сопоставлении с соответствующими разделами из
других томов. Для подчѐркивания связности процесса и преемственности произошедшего
в V веке по отношению к предшествующим столетиям центуриаторы сперва отмечают
«неточности», подхваченные Августином у предшествующих церковных писателей, а
затем – его собственные огрехи. Конечно, naevi в 7 главе соответствуют материалу из
раздела 4 главы «об отклонении церковного учения», и в разделе персоналии недочѐты
изложены также подробно и систематично.
В перечислении различных «неточностей» центуриаторы обнаруживают не только
отличную богословскую подготовку и широкую гуманистическую эрудицию, но и
прекрасное знакомство с проблематикой схоластических сочинений. Периодически
встречаются «огрехи», определѐнные в ходе схоластических споров или находимые
посредством появившихся в позднем Средневековье логических методов. Примеров
может быть приведено множество. Например, при разборе наследия африканского
епископа Юнилия (основанного, очевидно, на «Каталоге» Тритемия) ошибкой объявлено
утверждение о том, что до грехопадения на Земле не было ничего вредного для человека,
например, ни одной ядовитой травы или бесплодного дерева. Утверждение о том, что в ту
эпоху «все животные в согласии питались зеленеющей травой и плодами деревьев»,
характерное для языческих философских систем античного мира, в схоластике получило
новое звучание, и различные его аспекты широко обсуждались, особенно в XII-XIII веках.
Конечно, в более поздних центуриях схоластика будет подвергнута развѐрнутому анализу
и осуждению, однако отношение к еѐ тезисам могло быть вполне серьѐзным, как мы
видим из этого и многих других примеров. Кроме прочего, Юнилию вменялось в вину и
нежелание спорить, отстаивать «верное учение» против «искажений» своего времени (см.
5 1145-48). Характерно, что при анализе тезисов восточных Отцов центуриаторы имели
тенденцию обнаруживать больше «неточностей». Так, раздел об Иоанне Златоусте (5
1170-1185) больше чем наполовину состоит из naevi (1177-1185), при том, что он
оставался глубоко положительным персонажем церковной истории, не замеченным ни в
чѐм даже отдалѐнно еретическом. В этот раздел попали даже многие утверждения, не
могущие рассматриваться как недочѐты, однако сомнительные с точки зрения ригористовгнесиолютеран, такие, как щедрость по отношению к нуждающимся и бедным (1183.3439) или раздоры среди епископов в отношении оценки его деятельности, последовавшие
после его кончины (1184.52 - 1185.8). Трудно сказать, является ли отмеченное нами
доказательством предвзятости центуриаторов относительно авторитетов Восточной
церкви или следом того, что посвящѐнный «недочѐтам» раздел был тщательно выверен и
сокращѐн в отношении западных авторов и оставлен без редактуры в отношении
292
восточных. Заметно (и не только по материалам 7 главы), что западные церковные авторы
в богословском отношении ближе центуриаторам, нежели восточные, но мы не возьмѐмся
углублять эту тему далее.
Среди ересиархов VI века оказался Ориген582, а среди наиболее выдающихся
церковных деятелей – римский папа Григорий Великий583. Положительной оценки
удостоен епископ Григорий Турский584. Жизнь Бенедикта Нурсийского описана
подробно585, однако центуриаторы избегали как сугубо положительной, так и
отрицательной оценки: монашество не пользовалось их симпатией.
Весьма любопытные закономерности удалось обнаружить относительно оценки на
страницах «Центурий» некоторых христианских чудес. В исторической литературе
господствует мнение, суть которого заключается в двояком подходе центуриаторов к
достоверности чудес: если чудеса библейские не подлежат никакому сомнению, то более
поздние события в целом вызывают скепсис. Несмотря на единогласие историков, эта
оценка нуждается в существенном уточнении.
Скепсис бывает большим и меньшим. В центуриях II-IV, где чудеса почерпнуты из
вызывающих в целом положительное отношение христианских историков (главным
образом Евсевия и его продолжателей), они обычно сухо пересказываются, эмоции
отсутствуют, оценки умалчиваются. Это распространяется на чудеса до эпохи
Константина. В последующих томах скепсиса становится больше, появляются негативные
оценки, и вообще, тяготение того или иного церковного автора в описанию чудес
становится поводом к появлению, а позднее – и к преобладанию негативных нот в общей
оценке этого автора. Это наблюдения является дополнительным подтверждением нашей
точки зрения на переломный характер IV века (технически – рубежа IV-V веков) для
общей исторической концепции «Магдебургских центурий».
Перейдѐм к конкретным примерам.
Чудеса эпохи Диоклетиана являются опорой всей христианской исторической
концепции, необходимым «прологом» Обращения Константина. Тем не менее, понятно,
что если исходить из провозглашѐнной ещѐ Лютером точки зрения, эти чудеса ставить на
один уровень с библейскими невозможно. Между тем, о них писали такие уважаемые
авторы, как Евсевий, Винценций Леринский и Зонара. Рассказы об этих чудесах
сдержанно повторяются, и даже сказ о том, как к больному Констанцию Хлору прилетал
ангел, передан без эмоций и без осуждения. Известнейший рассказ о явлении
582
EH VI, col. 539-540.
EH VI, col. 677-688.
584
EH VI, col. 727-730.
585
EH VI, col. 764-766.
583
293
Константину Креста пересказан из Созомена (то есть из «Трѐхчастной истории»), Павла
Диакона и Евсевия586. Любопытно, что даже слова «сим победиши» приводятся полатински и по-гречески. Другие чудеса этой эпохи – землетрясения, разливы Нила,
рожденные «монстры», наводнения, падение языческих статуй и прочие – также не
сопровождались опровержениями центуриаторов. Подобные события допускались
центуриаторами и в последующие века, поэтому утверждения историков об осуждении в
«Центуриях» всех чудес, кроме библейских, выглядят категоричными и несколько
поверхностными.
Одним из лейтмотивов 4 тома (проявлявшимся, конечно, и далее) было приведение
рассказов о чудесах из церковной литературы, пользовавшейся уважением в церковной
традиции. Благодаря этому «Центурии» обогатились неожиданными и любопытными
сюжетами, описанными с глубокой иронией. Вот типичный пример.
При консулах Константине и Лицинии (в 4 раз587; что будет от р. Х. годом 318-м,
а Константина 9-м) иудеи собрались в Риме ради диспута с христианами. Поводом было
то, что мать Константина Елена упрекала Императора в том, что он принял религию
не иудеев, а назореев. Стремясь выяснить, какая из религий опирается на более крепкие
основы, он созвал в Рим 130 иудейских жрецов, пригласив и 24 христианских епископа,
которыми руководил Сильвестр. После выступления обеих сторон на диспуте иудеи, в
конце концов, были повержены; и после того, как они признали рассуждавшего о своей
религии Сильвестра превосходящим их в мастерстве, они попросили произвести чудо.
Сильвестр подошел к быку, выведенному на середину (обычное дело при проведении
чуда!), и умертвил его, нашептав что-то в ухо, а затем возвратил мертвого к жизни. От
этого чуда иудеи все обратились. Подобный смешной и старушечий вздор приводит в
книге о Соборах Мариан Скот, а Никифор в 7 книге, главе 36. И Зонара Монах не
устыдился привести его же в третьем томе»588.
В некоторых случаях по локусу, посвящѐнному чуду, можно увидеть технику
работы центуриаторов. Например: «При епископе Ильдефонсе Толедском однажды
явилась Мария (если уместно этому верить), несущая одежды, которыми пользуются при
служении мессы. Вне сомнения, это был некий какодемон, подтверждающий профанации
причастия»589. Первая фраза составлена нейтрально, списана младшим сотрудником
586
EH IV, col. 1433-34.
Четвертое консульство Константина и Лициния приходится на 315 год.
588
EH IV, col. 694 30-58.
589
EH VII, col. 189 13-18.
587
294
авторского коллектива из источника без особых размышлений. Следующий член
коллектива, отвечающий за переработку информации, добавил к ней безапелляционный,
не оставляющий никаких сомнений комментарий. В этом виде локус и попал в
окончательный текст книги.
В 7 томе и далее все чудеса без исключений подвергаются или высмеиванию, или
агрессивному опровержению. Чудо накладывает свой отпечаток на оценку личности, с
которой связан. Например, некий церковник Бонифаций был известен как добрыми
делами, так и злодеяниями: в описании его был даже выделен раздел «о дурных деяниях
его»590. Как оценить его личность? «Чудо», происшедшее на его могиле, становится
«последней каплей», и оценка стала отрицательной. Среди опровергаемых чудес многие
основаны на фактах, которые истолковывались в Средневековье как проявление
действенности культа святых (то есть как их способность реально вмешиваться в земные
дела). Эти страницы наполнены не только острой иронией центуриаторов (считавших
уместным, к примеру, сравнение некоторых сюжетов с «Метаморфозами» Овидия591), но и
замечательным юмором.
Лишь немногие из чудес, встречающиеся в поздних томах, развернуто не
отвергаются центуриаторами. Они собраны в разделах, посвященных наказанию
гонителей истинной веры592; часто эти разделы, несмотря на небольшой размер, даже
основаны на «чудесных» событиях, которые могут быть рассмотрены как «чудеса». Вот
типичный пример (из 10 центурии):
О божественных наказаниях и карах.
Когда венгры разграбили бременскую церковь, унизили разного рода поношениями
служителей храма, осквернили всю священную утварь, внезапно поднялась буря. В
верхней части храма загорелись кирпичи, бревна и другие сорвавшиеся предметы с такой
силой обрушились на врагов, что частью огромное количество врагов оказалось засыпано
разными предметами, частью они были низвергнуты в реку, частью же попались в руки
горожан. […]
Король датский Горм в крайней старости утратил свет очей и оставался слеп в
равной степени душой и глазами до самой смерти. [...]
После того как даны под командованием Сифрида разорили Саксонию, по
чудесному Промыслу Божию случилось, что после разграбления города Рансола Сифрид,
590
EH VIII, col. 790-802.
EH X, col. 686-693.
592
De poenibus persecutorum в конце 3 главы каждого тома.
591
295
охваченный какодемоном, долго кружился и извивался, пока не отдал ранее отнятое и не
добавил из своего имущества кое-что сверх этого […593].
Таким образом, расхожее мнение о том, что центуриаторы не воспринимают чудес
вне Священного Писания, нуждается в существенном уточнении. Чудеса в «Центуриях»
былают двух видов. С помощью одних человек утверждает своѐ привилегированное
положение,
демонстрируя
недоступные
другим
возможности
–
этим
чудесам
центуриаторы не верят и не допускают их в контексте, отличном от библейского. Вторые
чудеса имеют непосредственно божественное (природное) происхождение, они не
связаны с триумфом возможностей того или иного индивидуума. «Господь имеет
обыкновение время от времени предвещать великие изменения, как в Церкви, так и в
царствах мира сего, чтобы они не казались наступившими случайно и неожиданно, и
чтобы души верующих обратились к трудам божиим со вниманием, пламенной молитвой
и усердием в управлении своим поведением»594. Эти «знаки, явления и знамения» (signa,
prodigia, portenta) тоже типологически относятся к «чудесам» (miracula), однако вызывают
совсем другое отношение историков. Таким образом, в «чудесах» лишь одно было
достойно опровержения и высмеивания – узурпация кем-либо божественной функции,
попытка сравняться мощью с Богом, что, разумеется, является богохульством. Мы можем
сделать определенный вывод: «Чудеса» как понятие сами по себе не вызывают у
центуриаторов отторжения.
В отличие от предшественников, рассмотренных нами ранее, центуриаторы
скептически относились к природным знамениям: кометы, сверкающие и взрывающиеся
звѐзды, холодные зимы, смерчи (turbines) не воспринимались как достойные серьѐзного
богословского изучения чудеса или знамения595. Тем не менее, некоторые такие факты
оказались на страницах «Центурий». Появление в 935 году в Генуе источника, из которого
обильно текла кровь, было знамением большого кровопролития; вскоре по всей Италии
прокатилась волна турецкого нашествия, и многие города, в частности, Генуя, были взяты
штурмом, а множество мирных жителей были перебиты. Об этом писали Лиутпранд,
Зигеберт и Науклер; рассказ об этом переписали в себе и центуриаторы, не добавив от
себя ни слова596. Ничто в тексте не указывает на то, что к этим сведениям они относились
скептически или отрицательно. Ещѐ один яркий пример – рассказ о том, как руанский
епископ Маврикий, после кончины внесѐнный в церковь, вдруг обратился к
593
EH X, col. 31 1-23. Выпущены только сокращенные ссылки на источники.
EH IX, col. 600 9-16.
595
Например, EH 1 1, col. 678 и далее.
596
EH X, col. 679 - 680.
594
296
присутствующим со связной речью (подробно пересказанной центуриаторами вслед за
источником); в ней он описал свои первые впечатления от рая и ада, после чего опять
испустил дух. Никакого сарказма, никаких сомнений центуриаторы в этом рассказе не
обнаружили; источник (Винценций, то есть Петер Витц, 1519-1581, во многих вопросах –
единомышленник и соратник Флация) во всѐм томе под сомнение не ставился и не
высмеивался. Лишь в конце рассказа имеется примечание: «Всѐ это было сделано против
учения Христа: угадай, кто был вдохновитель?». Рассказанное было принято за чистую
монету и приписано дьявольскому промыслу!
Чем были эти и другие подобные события для центуриаторов? Воспринимались ли
они как «чудеса» и были ли они в этом случае достойны критики и опровержений наряду
со «старушечьим вздором» из старинных рукописей? С одной стороны, природные
знамения (в том числе и явно невероятные), болезни, другие проявления известных нам в
XXI веке законов природы были для центуриаторов важной частью картины мира,
реализацией божьего замысла наряду с событиями «историческими» - гибелью
государств, битвами, смертью великих деятелей. С другой, они свидетельствовали о Воле
Божией, об «ответе» в диалоге с нею христианского человечества. Чем ближе к
современным центуриаторам временам, тем больше источники донесли до них
свидетельств о затмениях, мягких зимах или летних заморозках, о нашествии саранчи,
заявлениях лунатиков, землетрясениях, загадочных болезнях и прочих катаклизмах. В
Библии таких сообщений сравнительно немного, по сравнению с многочисленными
хрониками, прочитанными в процессе подготовки «Центурий». В Новом Завете погоде
уделено еще меньше внимания, а основные события развиваются на фоне в целом
благоприятного ближневосточного климата. Первые два тома «Центурий» и в этом
аспекте строго следуют за источником – в них всегда хорошая погода! Сравнивая события
более поздних веков с библейскими временами, центуриаторы не могли не заметить –
знамения стали гораздо более частыми, превратившись практически в непрерывный фон.
Таким образом, погода и природа стали важными элементами системы доказательств
исторической концепции «Центурий», неопровержимым свидетельством приближения
конца света. Косвенным доказательством нашей правоты может служить следующее
наблюдение: в 9-13 томах очень мало локусов о природных катаклизмах, имевших место
на территориях Восточных Церквей597.
597
EH XI, col. 667 – «Саранча опустошила Россию в 1085 году», ссылка на современного «Центуриям»
автора Конрада Вольфхарта (Ликосфена).
297
§8. Специфика локального метода «Магдебургских центурий»
Прежде
всего,
следует
охарактеризовать
использование
центуриаторами
Священного Писания в качестве источника. Как мы видели при анализе сочинений М.
Кано, для католиков эпохи Тридентского Собора Библия в иерархии локусов стояла
настолько выше остальных источников, что использование еѐ «наравне» с другими
текстами было просто невозможным. Как к этому вопросу подошли авторы
«Магдебургских центурий»?
Использование
центуриаторами
приѐмов
классической
филологии
для
текстуального анализа Библии можно проиллюстрировать на отрывках из IV главы второй
части первой центурии, посвящѐнных проблемам божественного предопределения и
оправдания человека. Эти проблемы носят сугубо теологический характер и лишь
косвенно проявляются в дальнейших межконфессиональных спорах. Главная причина их
появления в «Магдебургских Центуриях» - необходимость подробно обосновать
важнейшие доктринальные расхождения, «сплавив» их в единое целое с христианской
историей. Поскольку «история догмы» призвана играть важнейшую роль среди других
церковно-исторических факторов, анализ Священного Писания должен стать отправной
точкой. Прежде всего, необходимо было доказать, что понятие предопределения входит в
число основных христианских учений, а такое утверждение могло опираться только на
библейские цитаты. Очевидно, этого понятия не было и не могло быть в евангельских
рассказах о жизни и страданиях Христа; по этой причине глубокий анализ (по
богословским причинам возможный только на основании Деяний св. апостолов и других
текстов Нового Завета) был помещѐн во вторую книгу первого тома книги. В текстах
Нового Завета были обнаружены греческие слова, которые можно интерпретировать как
понятие предопределения. Ближе всего к этому понятию находилось слово πξννξίδσ (как
его определяют сами центуриаторы, decernere et praefinire – буквально «решить и
предписать»), встречающееся в некоторых местахПисания (Деян. 5, Рим. 8). В 1 Кор 2 это
слово было использовано в форме πξνώξηζε (аорист 3 л. ед. ч.) и означало, по мнению
центуриаторов, некое «знание, сокрытое в тайне», которое Господь и «постановил
открыть»598. Центуриаторы интерпретируют как близкие по значению слова ὁξίδεηλ (Деян.
2 и 17), ἐθιέγεζζαη (медиальный залог от ἐθιέγσ, равный ему в данном случае во всех
значениях, в Еф. 1), а также πξνγλῶλαη (1 Пет 1; этот аорист от πξνγηγλώζθσ переводился
на латинский как praeordinare). Синонимичными объявлены лексические единицы
πξόγλσζηο (1 Пет 1, Деян 2), а также более отдалѐнные в семантическом смысле
598
Decrevit revelare. EH 1, p. 2, col. 214 51-60.
298
словосочетания со словом βνπιή, εὐδνθία и другими. Например, ὡξίζκελε βνπιή (Деян. 2),
ρείξ θαὶ βνπιή ηνῦ ϑενῦ (указана сноска на Деян. 5), εὐδνθία ηνῦ ϑενῦ ζειήκαηνο (Еф. 1),
πξόζεζηο (Еф. 1), βνπιὴ ηνῦ ζειήκαηνο ϑενῦ (Еф. 1).
Отметим, что непосредственно с греческим текстом Нового Завета они не
работали. Во-первых, это представляло дополнительную трудность даже для лучших
специалистов в области греческой филологии (Флаций Иллирик, которому эта работа
могла бы быть по плечу, от черновой работы отстранился изначально). Во-вторых, работа
непосредственно с греческим текстом оказалась бы малопонятна читательской массе
«Центурий». Вообще в XVI веке ещѐ не существовало такого научного критерия, как
обязательная ориентация на работу с источником на оригинальном языке (хотя
необходимо сделать оговорку, что древнееврейские штудии в европейских университетах
расцвели именно в XVI веке и именно из-за того, что у богословов возникла
необходимость в максимально чѐткой интерпретации библейских текстов). То, что делают
центуриаторы, уже является важнейшим шагом вперѐд: привлечение филологического
материала позволило внести определѐнную ясность в понятийный аппарат теологии в
целом. Тем не менее, в их планы совершенно не входило сделать книгу ещѐ более
фундированной, заплатив за это утратой диалога с массовым читателем. С другой
стороны, латинским языком владели все читатели «Центурий», и восприятие ими
понятийного аппарата Библии ничем существенным от чтения собственно «Центурий» с
их исторической концепцией не отличалось.
Греческие слова, которые могли иметь значение, близкое к «предначертать», были
подобраны несистематично. Бросается в глаза, что примеры выбраны из Деяний св.
апостолов (без них никак нельзя – эта книга является основным источником для тома,
значительно превосходящим остальные по информативности), а также из первой главы
Послания к Ефесянам. Авторы решили, что этих примеров достаточно для того, чтобы
продемонстрировать массовое появление этого понятия на страницах Писания и базовый
характер рассматриваемого явления для христианского мировоззрения. Конечно, никто не
ставил перед авторами «Центурий» задачу компактно привести на страницах книги все
случаи упоминания о предопределении, однако и об отсутствии такой задачи тоже нигде
не говорится. Дальнейшие страницы текста, следующие за филологическим анализом
греческой терминологии, довольно свободно трактуют это понятие – под него подводятся
многие случаи упоминания в Новом Завете воли божией и еѐ реализации. Очевидно,
между волей и предопределением в теологии «Центурий» поставлен знак равенства.
Слово πξννξίδσ в других греческих текстах, помимо новозаветных, встречается
нечасто. Оно образовано от глагола νξίδσ, означающего «определять» (более конкретно
299
«давать оценку», «давать определение», «устанавливать параметры»); однокоренными
являются слова с простым значением «граница», «межевание» и т. п. Слово πξννξίδσ
образовано с помощью приставки, причѐм его значение («определять заранее») понятно из
его морфологии – именно эта форма может никогда и не встретиться, а еѐ значение легко
устанавливается с помощью обычных для древнегреческого языка механизмов. Таким же
образом можно повести себя и в латинской морфологии: если «определять» будет definire
(а «граница» - finis), то praefinire – идеальный перевод, демонстрирующий совпадение
значения и этимологии. Сопоставляя греческое и латинское слова, можно было бы
заподозрить морфологическое калькирование. Строго говоря, если калькирование и
возможно, то только в обратном направлении: слово praefinire, в отличие от своего
греческого аналога, нередко встречается у дохристианских авторов, хотя, конечно, его
особенно любят ранние церковные писатели.
Мы долго искали пример употребления слова πξννξίδσ в 5 главе Деяний св.
апостолов, но нас ждало разочарование: этого слова там нет. Очевидно, в текст
«Центурий» вкралась неточность (о прямом подлоге, конечно, речи быть не может): это
слово в довольно значимом контексте встречается в соседней, 4 главе. Встречается оно в
составе той самой фразы, другой фрагмент которой приведѐт центуриаторами в соседней
цитате. Обратимся к Св. Писанию. Греческий фрагмент из Деян. 4:28 гласит: πνηῆζαη ὅζα ἡ
ρείξ ζνπ θαὶ ἡ βνπιή ζνπ πξνώξηζελ γελέζζαη, что в Вульгате передано как facere quae manus
tua et consilium decreverunt fieri (в новом латинском переводе facere, quaecumque manus tua
et consilium praedestinavit fieri, «чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и
совет Твой»). Дело не только в том, что в «Центуриях» цитата подверглась изменениям;
выражение про «руку и решение» процитировано в «Центуриях» при том, что слово πξνώξηζελ (производное от πξννξίδσ) употреблено тут же. Очевидно, приведение «руки и
решения» со строго филологической точки зрения некорректно – перед нами пример
употребления основной греческой вокабулы, интерпретируемой центуриаторами как
praefinire в ключе их теории о предопределении. Как следует нам воспринимать этот
эпизод: как тенденциозное расширение списка синонимов, призванное способствовать
наукообразности или убедительности с теологической точки зрения, или как простой
недосмотр? На наш взгляд, в данном конкретном случае возможны обе интерпретации, но
некоторую небрежность в «бумажной» работе с греческими текстами стоит отметить.
Центуриаторы не делают ошибок, когда речь идѐт о толковании собственно слова или
смысле нейтрального текста, и их знания в области греческой словесности не вызывают не
малейшего подозрения. Не так обстоит дело с элементарным «узнаванием» слов или
словосочетаний среди им подобных. Работа с греческими терминами была поручена
300
квалифицированным специалистам, а толкование их в богословском плане и написание
связного текста «Центурий» были вообще сферой ответственности руководителей проекта
(«кормчих», или gubernatores). В то же время «шерстить» Библию на предмет определений
или других деталей могли и люди, умеющие лишь читать по-гречески. Данная ошибка
могла быть сделана потому, что историк (по терминологии центуриаторов, «рабочий» operarius) отталкивался от текста Вульгаты, в котором нет слова praedestino (оно
появилось только в «Новой вульгате» Павла VI в 1979 году), но есть несколько менее
выраженное decerno. «Рабочий» не обратил внимания на это слово и не заподозрил, что
оно переводит греческое πξνώξηζελ, на которое как раз и идѐт охота. Подтверждением
такого нашего представления о методе работы с греческими текстами может служить и
уже цитировавшийся выше фрагмент Деян 2:23. Там встречается не только единственный
в этой книге дериват от νξίδσ, но и – в той же фразе – слово πξόγλσζηο, которое
упоминается центуриаторами особо599.
Вообще же слово πξννξίδσ встречается в различных местах Писания, не только в
тех, что приводят авторы «Центурий». Упомянутый же ими фрагмент из 1 Кор 2:7
переводится на латинский именно как loquimur Dei sapientiam in mysterio quae abscondita
est quam praedestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram (а на русский – «проповедуем
премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к
славе нашей»). Русский текст обходится без понятия «предопределения», но это не
должно вводить нас в искушение увидеть семантическое несоответствие. Напротив, в
данном фрагменте соответствие между тремя версиями отличается особенной полнотой.
Теперь о приведѐнных центуриаторами отсылках к тексту Послания к Ефесянам.
Все они относятся к первой главе Послания, что указывает на крайнюю фрагментарность
обработки источника. Очевидно, прорабатывался не весь текст Посланий апостольских, а
только тот текст, который казался наиболее многообещающим в плане раскрытия учения
о предопределении. Как только у авторов сложилось впечатление, что примеров
достаточно, поиск в источнике был прекращѐн. Центуриаторы не отмечали в Еф 1:5
встречающееся там слово πξννξίδσ. Ссылка на него была уже не нужна – его очевидное
соответствие хорошо известному всем читателям латинскому praedestino было ими уже
достаточно проиллюстрировано. В Еф 1:11 дериват от этого слова также присутствует,
причѐм в соседстве с другим приведѐнным центуриаторами выражением (подобную
599
Деян. 2:23 ηνῦηνλ ηῇ ὡξηζκέλῃ βνπιῇ θαὶ πξνγλώζεη ηνῦ ζενῦ ἔθδνηνλ δηα ρεηξὸο ἀλόκσλ πξνζπήμαληεο
ἀλείιαηε. Латинский вариант: hunc definito consilio et praescientia Dei traditum per manum iniquorum affigentes
interemistis. Русский вариант: «Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли
и, пригвоздив руками беззаконных, убили». Выделенные нами места – выбранные центуриаторами
библейские определения и их переводы на латинский (от которого отталкивались авторы «Центурий») и
русский языки.
301
картину мы наблюдали выше). Текст послания гласит «в Нем мы и сделались
наследниками, бывши предназначены к тому по определению Совершающего все по
изволению воли Своей» (ἐλ ᾧ θαὶ ἐθιεξώζεκελ πξννξηζζέληεο θαηα πξνζεζηλ ηνῦ ηὰ πάληα
ἐλεξγνῦληνο θαηα ηὴλ βνπιὴλ ηνῦ ζειήκαηνο αὐηνῦ). Именно последнее выражение
«изволение воли» (парафразированное центуриаторами как βνπιὴ ηνῦ ζειήκαηνο ϑενῦ)
дублирует в списке центуриаторов, дублируя πξννξηζζέληεο (дериват от πξννξίδσ,
переведѐнный на русский язык как «предназначенные»). Слово ἐθιέγεζζαη («выбирать»,
лат. eligo), употреблѐнное в Послании (Еф 1:4) в форме ἐμειέμαην (аорист 3 л. ед. ч.), тоже
мало соответствует семантике, выражаемой глаголом πξννξίδσ. Это видно даже по
русскому тексту Еф 1:4 «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви»; отметим, что следующий стих Послания
начинается прямо со слова πξννξίζαο – деривата от πξννξίδσ. Заканчивается он, в свою
очередь, другим выражением из списка центуриаторов - εὐδνθία ηνῦ ζειήκαηνο αὐηνῦ,
«благоволение воли Своей».
Филологический подход к анализу Писания проявляется, прежде всего, в особом
внимании авторов к толкованиям слов, морфологии отдельных греческих терминов
Писания, взаимосвязи между собой, проблеме переводимости (в частности, кластерной
переводимости) на латинский язык. Прекрасное владение фактическим материалом,
научная «ловкость» позволяет центуриаторам доказать исконность лютеранских тезисов,
отводя, таким образом, обвинение в «новаторстве», выдвинутое католической стороной
ещѐ самому Лютеру. Делается это стандартным способом. Встречающиеся в Библии слова
переводятся на латынь, причѐм предложенный св. Иеронимом вариант используется в
большинстве случаев, но не всегда. При консервативности латинской лексики и в общем
небольшом объѐме новозаветной оказывается, что лютеранское богословие XVI века
пользуется теми же словами, которые фигурируют в оригинальном (греческом) тексте
Писания. Это служит доказательством «исконности» богословской системы Лютера, еѐ
укоренѐнности в самом раннем христианстве, возникшем непосредственно в результате
деятельности Христа и апостолов. Конечно, с позиций современной науки такой подход
кажется совершенно ненаучным, но для центуриаторов это более чем простительно. Вопервых, даже если отбросить возможные потери при переводе с одного языка на другой,
лексические ограничения и просто несоответствие лексических резервов тезаурусов двух
языков, проблема терминов не обязательно соответствует проблеме их толкований (даже с
формально-логической точки зрения). Во-вторых, никто не принимал в расчѐт
противоречие между наличием уже сложившегося корпуса библейских текстов и живой
традицией их толкования, которая, наоборот, обогащалась (неравномерно во времени и в
302
богословском «пространстве») целыми волнами новых терминов и толкований. В-третьих,
современное центуриаторам понимание многих реалий уже очень далеко отошло от того,
что наблюдалось во времена написания библейских текстов, а также в эпохи подготовки
их переводов на латынь. Слова, особенно абстрактного значения, живут сложной жизнью,
и их смысловое наполнение меняется с течением времени; не следует обвинять
центуриаторов в незнании того, что станет одним из величайших открытий гуманитарной
науки в первой половине XIX века.
Наиболее наглядно сопоставление методологических достижений «Центурий» и
локального
метода
Второй
Схоластики
можно
провести,
опираясь
на
способ
представления в историческом сочинении какого-то заметного события или деятельности
исторического персонажа, достаточно крупного для возникновения методологических
коллизий. Имеется в виду, что персонаж или событие, заслужившие лишь беглого
упоминания, не способны проявить методологического подхода: единичность (или, в
любом случае, сравнительная немногочисленность) упоминаний может свидетельствовать
как аргумент в споре (то есть быть отдельным локусом), но никак не представлять нечто,
внутри чего локусы могут взаимодействовать или конфликтовать между собой.
В качестве примера можно использовать библейский эпизод с Ананием и
Сапфирой (Деян 5:1-11). Образ человека, пытавшегося обмануть апостолов и
поплатившегося за это жизнью, а также его жены позволял взглянуть на него под
различными углами зрения. Сделанные центуриаторами выборы и предпочтения
представляются весьма характерными.
Некоторый же муж, именем Анания, с женою своею Сапфирою, продав имение,
2
утаил из цены, с ведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам
Апостолов.
3
Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце
свое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?
4
Чем ты владел, не твое ли
было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил
это в сердце своем? Ты солгал не человекам, а Богу.
5
Услышав сии слова, Анания пал
бездыханен; и великий страх объял всех, слышавших это. 6 И, встав, юноши приготовили
его к погребению и, вынеся, похоронили.
7
Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. 8 Петр же
спросил ее: скажи мне, за столько ли продали вы землю?
Она сказала: да, за столько.
9
Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? вот, входят в
двери погребавшие мужа твоего; и тебя вынесут.
10
Вдруг она упала у ног его и испустила
303
дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвою и, вынеся, похоронили подле мужа ее.
11
И
великий страх объял всю церковь и всех слушавших это.
Латинский текст Вульгаты (перевода Библии св. Иеронима)600:
vir autem quidam nomine Ananias cum Saffira uxore sua
vendidit agrum 2 et fraudavit de pretio agri conscia uxore sua
ed adferens partem quandam ad pedes apostolorum posuit
3
dixit autem Petrus
Anania cur temptavit Satanas cor tuum mentiri te Spiritui Sancto
et fraudare de pretio agri
4
nonne manens tibi manebat
et venundatum in tua erat potestate quare posuisti in corde tuo hanc rem non es mentitus
hominibus sed Deo
5
audiens autem Ananias haec verba cecidit et exspiravit
et factus est timor magnus in omnes qui audierant
6
surgentes autem iuvenes amoverunt eum
et efferentes sepelierunt
7
factum est autem quasi horarum trium spatium
et uxor ipsius nesciens quod factum fuerat introiit
8
respondit autem ei Petrus
dic mihi si tanti agrum vendidistis
at illa dixit etiam tanti
9
Petrus autem ad eam
quid utique convenit vobis temptare Spiritum Domini
ecce pedes eorum qui sepelierunt virum tuum ad ostium et efferent te
10
confestim cecidit ante pedes eius et exspiravit
intrantes autem iuvenes invenerunt illam mortuam
et extulerunt et sepelierunt ad virum suum
11
et factus est timor magnus in universa ecclesia
et in omnes qui audierunt haec
600
Следует помнить, что текст Вульгаты по внешнему виду отличается от современных изданий Библии и
определяется слабо выраженной в латинском языке эпохи Иеронима пунктуацией, а следователь,
графической разбивкой текста на предложения.
304
В завершающем второй том первой Центурии Указателе локусы о двух Ананиях из
Деяний апостолов – первосвященнике и муже Сапфиры – представлены вперемешку, и
лишь в некоторых случаях первый уточняется как Anania pontifex. На приведѐнный выше
короткий рассказ из Библии в Указателе имеется 14 ссылок. Это означает, что 11
новозаветных
стихов
были
распределены
на
14
локусов
и
впоследствии
систематизированы исходя из критериев «Метода». Вот в каком виде приведены в
Указателе локусы на интересующего нас Ананию601.
Ananias et Sapphira 511.59 a diabolo dementati 135.38 a Petro excommunicati 498.24
quomodo excusserint fidem 174.5 desperationis exempla 278.56 et excommunicationis 358.54 et
404.7.52 item hypocriticae poenitentiae 342.49 et quod fides possit amitti 276.33
Ananiae et Sapphirae historia 63.45 et 555.30 exemplum 378.18 lapsus 356.39 peccatum
in III praeceptum 296.54
Рассмотрим эти локусы по порядку.
511.59 В главе 7 «Об управлении Церковью» описывается раннехристианская
традиция накладывать покаяния – «грехи и грешников порицали и бранили, на них
провозглашался гнев Господень до тех пор, пока они не раскаются». «Петр так выговорил
Анании и Сапфире, что они тотчас же умерли».
135.38 Этот локус, как и многие другие, помещѐн в центральной главе тома (IIII.
«Об учении Церкви», De doctrina), охватывающей столбцы с 33 по 478 из общего числа
682. В этом месте обсуждается деятельность Врага рода человеческого (после раздела De
angelis следует De angelis malis, seu diabolis). В длинном перечислении разных приѐмов,
при помощи которых он манипулирует людьми, присутствует и наш в такой форме:
Satanas Ananiae et Sapphirae cor implevit, ut mentirentur Spiritui Sancto, et fraudarent de precio
agri. «Сатана преисполнил сердце Анании и Сапфиры, чтобы они солгали Духу Святому и
утаили из цены земли». Отметим глагол impleo, часто встречающийся на страницах
«Центурий», и характерное для «Центурий» альтернативное написание слова pretium (в
форме precium). Эта форма характерна для позднесредневековой латыни и не может
считаться аномалией или особенностью только данных авторов или текста. В остальном
лексика библейского источника полностью сохранена.
498.24 Раздел главы VI «О церемониях или ритуалах Церкви», посвящѐнная
ритуалу церковного отлучения, начинается со слов «Апостолы использовали церемонию
отлучения, которую передали впоследствии служителям их Церкви; ибо Петр в пятой
главе Деяний наложил отлучение на Ананию и Сапфиру». Далее следуют другие
многочисленные примеры из Посланий к Тимофею, Титу и т. д.
601
EH 1 , p. 2, Index f. 6 v.
305
174.5 В главе De doctrina, раздел «О смертных грехах». Главный тезис: «Смертные
грехи разрушают веру, изгоняют Святой дух и уничтожают совесть». Этот тезис
иллюстрируется
множеством
цитат
из
Посланий
апостольских,
среди
которых
упоминание нашего эпизода почти потерялось. «Анания и Сапфира, сговорившись об
обмане относительно цены за проданную землю, которую уже раньше даровали общине,
лишаются Духа Святого».
278.56 В той же главе очень пространный раздел «Об оправдании грешника перед
лицом Господа». Эта проблема была важнейшей в лютеранской теологии, и особенное
внимание к ней центуриаторов более чем оправдано. Они, конечно, отстаивают принцип
«оправдания верой единой», и по этой причине перечисляют множество новозаветных
фактов по порядку их отношения к принципу и понятию веры. Противными вере
качествами объявляются неверие, колебания, отвращение других от веры и так далее;
Анания и Сапфира, причѐм только они, иллюстрируют понятие «отчаяние».
358.54, 404.7 и .52. В той же главе велась речь и о церковных отлучениях. Анания и
Сапфира стали примерами верующих, умерших после отлучения. Второй случай – из той
же главы, раздел «Об отправлении таинств». «В образах Анании и Сапфиры представлены
примеры отлучения». Перед нами пример самостоятельной трактовки библейского
эпизода. Очевидно, центуриаторы нарушают принцип историзма и экстраполируют на
библейские времена явление, сложившееся значительно позже. Распространѐнный в
историографии Возрождения грех. «Оригинальная» ошибка их в том, что они не обратили
внимание на отсутствие в Библии самого слова excommunicatio, а это означает и
отсутствие понятия в известной центуриаторам форме. Третий эпизод (404.52) находится
в ряду обстоятельств, сопровождавших отправление отлучений. «Не была свободна от
негодования и та сентенция, с которой Петр выступил против Анании и Сапфиры».
342.49 В той же главе, разделе «О покаянии», Анания и Сапфира только упомянуты
как пример «лицемерных и смертоносных покаяний», которые, как провозглашается
несколькими строками ранее, отличаются от «истинных и спасительных».
276.33 Центуриаторы рассуждают о том, что в истинной вере необходимо
постоянство, и верующий не может расслабляться и забывать о неустанной вере. «Павел
уже в 1 Кор 10 учит на примерах из Ветхого Завета, что те, кто хорошо начал, могут
лишиться веры и пропасть, даже если намерения их были благими. Соответственно, тот,
кому кажется, что он хорошо стоит на ногах, должен (постоянно) заботиться, чтобы не
упасть. Сюда относятся и примеры Анании и Сапфиры, Деян 5, Симона Волхва, Деян 8,
Лжеапостолов, учивших, что без обрезания по обычаю Моисееву вы не можете спастись,
Деян 15».
306
63.45, 555.30. В первом эпизоде смерть Анании и Сапфиры служит примером
одного из чудес Нового Завета, которыми он превосходит Ветхий. Чудо было в том, что
они умерли «услышав голос Петра, говоривший, что они солгали Святому Духу». Второй
помещѐн в главу Х De vitis doctorum, где первым в роли учителя выступает Симон Петр.
Он является, на наш взгляд, ключевым.
Эпизод с Ананией и Сапфирой является довольно деликатным для толкования со
стороны лютеран. Стяжательство римской Курии было одним из основных обвинений,
выдвинутых Лютером и поддержанных его последователями. Казалось бы, данный эпизод
давал возможность сформулировать претензию, однако в этом случае центуриаторы
вступили бы в противоречие с тезисом о безусловном почитании Писания. Те, кто вѐл
себя подобно Ананию и Сапфире перед лицом не апостолов, а представителей более
поздней церкви, удостаивались, напротив, всяческого сочувствия центуриаторов.
Очевидно, поскольку истинность Писания не обсуждалась, не подлежали критике и
моральные оценки, выносимые в нѐм.
Таким образом, гнев Петра и вообще весь пафос данного отрывка должен был быть
истолкован в другом ключе, и в наиболее полной форме этот ключ представлен во
фрагменте 555.30 и далее. Текст Библии адаптирован для читателя XVI века таким
образом, что читатель воспринимает его как удивительно современный, а заодно
«проникается духом Центурий», усваивая нужную авторам интерпретацию фрагмента.
Эта интерпретация уводит читателя в сторону от обсуждения стяжательства Церкви (этот
мотив станет само собой разумеющимся во множестве мест более поздних Центурий),
обращая его внимание на другие аспекты.
Вот латинский текст фрагмента; курсивом выделены слова, добавленные
центуриаторами и не встречающиеся в тексте библейского эпизода.
Ananias vendiderat agrum, ac fraudaverat de precio, sua uxore conscia, afferens partem
quandam ad Apostolorum pedes, quasi totum id quod accepisset offerrent. Petrus autem
mendacium hoc peculiari Spiritus sancti revelatione intellegens, Ananiam his verbis alloquitur:
Anania, cur tentavit Satanas cor tuum, mentiri te spiritui sancto, et fraudare de precio agri?
Nonne poteras retinere agrum, vel etiam precium quod ex venditione accepisti, libere in tua
potestate habere? Quare maluisti mentiri? Non es mentitus hominibus, sed Deo. Ananias hac
voce tanquam excommunicationis fulmine audita, mox corruit, et expiravit.
Post tres horas Sapphira, quid de marito factum esset ignara, advenit, cui Petrus: Dic
mihi, inquit, mulier, tanti ne agrum vendidistis? At illa affirmat. ibi Petrus eam quoque suis seriis
verbis affatur: Cur inter vos conspiravistis, inquit, tentare spiritum Domini? Ecce pedes eorum
307
qui sepelierunt virum tuum, ad ostium sunt, et efferent te. Mulier haec audiens, confestim et ipsa
viribus destituta collabitur, et animam exhalat. Voluit autem Christus hac severitate in istis suis
initiis Ecclesiae declarare, se mendacium serio execrari, et in aliis quoque puniturum esse.
В русском переводе это может выглядеть следующим образом:
Анания продал землю и утаил из цены с ведома своей жены, принеся некоторую
часть к ногам Апостолов, и сделал вид, что они пожертвовали всѐ, что он получил. Но
Петр, который по Откровению раскрыл этот имущественный обман, обратился к
Анании с такими словами: Анания! Для чего ты допустил Сатане вложить в сердце свое
мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Не мог ли ты не продавать землю
или же спокойно удержать в твоей власти деньги, полученные от продажи? Почему же
ты предпочѐл солгать? Ты солгал не человекам, а Богу. Услышав этот громоподобный
приговор к отлучению, Анания вскоре рухнул и умер.
Через три часа подошла Сапфира, не знавшая, что произошло с мужем. Петр сказал
ей: Скажи-ка, женщина, за столько ли продали вы землю? Она подтвердила. И тогда
Петр обратился к ней со следующими тяжкими словами: Зачем вы сговорились между
собой искусить Духа Господня? вот, входят в двери погребавшие мужа твоего; и тебя
вынесут. Услыхав это, женщина вдруг и сама лишилась чувств, повалилась и испустила
дух. Тем самым Христос счел нужным такой суровостью при самом зарождении своей
Церкви заявить о решительном осуждении обмана и о том, что и другие впредь будут за
него наказаны.
Мы видим, что выпущен момент о юношах, вставших и унесших тело Анании.
Забыли в начале упомянуть, что Сапфира – жена Анании, но это, видимо, обыкновенная
небрежность: читателям XVI века действующие лица этой истории были хорошо
известны. Из отрывка исчезли оба упоминания о «великом страхе»; они, очевидно, очень
важны для понимания текста Деяний апостолов, но совершенно не нужны историкамлютеранам, сфокусировавшим своѐ внимание на логической, а не эмоциональной,
аргументации.
Главное же различие заключается в следующем: яркие синонимы, приблизившие
не очень четкий текст Иеронима к позднесредневековой латыни, сфокусировали внимание
на моменте обмана, сговора и его раскрытия. Чудесна в новом тексте не только кара,
постигшая злополучных супругов, но и способ раскрытия апостолом Петром попытки
утаить средства («по Откровению»). Более чѐтко обозначена имевшаяся в распоряжении
308
Анании возможность вообще ничего не продавать и, соответственно, не жертвовать
общине.
Библейский вариант не говорит ни слова об отлучении супругов от Церкви: кара
смертью незамедлительна, одномоментна и не допускает двоякого толкования. Вариант
центуриаторов сложнее: налицо отлучение (как мы знаем, об отлучении в связи с Ананией
и Сапфирой речь велась и в других локусах, расположенных в других частях книги),
воспринятое супругами с такими эмоциями, которые привели их к эффектной с точки
зрения мизансцены кончине.
Резюме,
которое
центуриаторы
вывели
из
этого
эпизода,
тоже
весьма
красноречиво. Во-первых, чудо смерти Анании и Сапфиры было совершено не Петром и
не Богом (Богом-Отцом), а непосредственно Иисусом Христом (уже казнѐнным и
вознѐсшимся), действовавшим по особому плану. Обман – это грех, наказанием за
который может быть смерть; это открывает широкий простор для самого сурового
осуждения любого деяния, которое может подпасть под категорию обмана. При описании
первого века христианства, в который Церковь торжествовала, время осуждения деяний
отдельных людей ещѐ не настало. В первой центурии авторы «разбрасывают камни»,
сообщая о замысле Божием, о программе, в соответствии с которой будут карать других
людей, а сами центуриаторы будут судить деятелей более поздних эпох.
Однако продолжим рассмотрение локусов.
378.18 Этот эпизод самый неинтересный. Констатируется, что злые люди живут
среди добрых, подобно Анании и Симону Волхву.
356.39 И крещѐные люди могут согрешить, поскольку корень зла внутри них не
удалѐн и может породить дурные плоды. Снова Анания и Сапфира оказываются в
компании Симона Волхва – все они совершили свои злодеяния, будучи уже крещѐными.
296.54 В длинном списке «прегрешений против третьей заповеди» (имеются в
виду, конечно, заповеди Христовы, а не десять ветхозаветных заповедей на Скрижалях)
последними следуют Анания и Сапфира, виновные в грехе «Утаивать что-либо из
имущества, собранного для общего пользования общиной». Вы видим, наконец, в чѐм
заключалось, на взгляд центуриаторов, их преступление – не в попытке обмана Бога, а в
попытке использовать в личных целях имущество общины.
Итак, мы видим, что приведѐнные выше краткие формулировки «Указателя» в
большинстве случаев не только показывают контекст, в который помещѐн данный локус,
но и (в случае краткости данного локуса) практически исчерпывают его содержание.
Можно отметить, что при составлении некоторых локусов центуриаторы не особенно
утруждали себя вопросами стилистики. Они полностью передавали библейскую реалию
309
словами Вульгаты, лишь кое-где добавляя от себя единичные слова, более яркие и
призванные подчеркнуть что-то концептуально для них важное – например, происки
дьявола (не «искушал» (temptarit), а «преисполнил» (implevit)). В других случаях
(например, из столбца 555) текст Вульгаты подвергался основательной перелицовке.
Никакого
особенного
пиетета
перед
вербальным
оформлением
Слова
Божьего
центуриаторы, как мы видели, не испытывали, и это проявилось не только в повседневной
практике последователей Лютера, но и даже при создании учѐных латинских сочинений.
Пренебрегая формой, центуриаторы стремились сберечь суть; в частности, во всех
процитированных локусах текста ссылка на Деяния апостолов (только книгу, т. е. Act. 5)
имеется.
Однако, этот эпизод важен нам не сам по себе. Конечно, библейский отрывок не
мог интерпретироваться авторами «Центурий» под каким-либо другим, отличным от
канонического углом зрения. При этом вопрос о происхождении церковного имущества,
последующего обогащения Церкви имел для исторической концепции «Центурий»
особую важность. Дело в том, что фундаментальный тезис о необоснованности претензий
Рима на главенство в христианском мире опирался именно на идею узурпации власти, а в
этом процессе одним из основных был материальный ресурс. В поздних томах
«Центурий» собраны и в самом красноречивом виде представлены все разнообразные
способы незаконного обогащения, и этот поворот сюжета, конечно, был очевиден авторам
с самого начала работы. Как мы знаем, по версии центуриаторов, отход Церкви от
идеального состояния начался во II веке. Теория распределения исторических событий по
столетиям – «Центуриям» - давно обсуждается и осуждается в специальной литературе.
Уточним, с нашей стороны, что ощущение некоторой искусственности вызывает не
столько распределение дат и интерпретация событий, сколько помещение тех или иных
тенденций внутрь определенных столетий, причѐм эти тенденции могут быть мелкими и
вне данного столетия малозаметными, а могут и значительно выходить за пределы одного
тома и проявляться на материале ряда веков. В полной мере это замечание касается
проблемы материального существования христианской Церкви в первые века. Как и на
что жили те, кто донѐс искру учения Христа сквозь гонения до самых времѐн
Константина? В какой момент и по какой конкретной причине наметился отход от
«идеального состояния»? Как этот процесс видели центуриаторы и как оценивали его?
Рассмотрим связанные с церковными имуществами вопросы подробнее.
Первая часть первого тома «Центурий» посвящена эпохе Иисуса Христа;
библейские тексты не позволяют исследователям «выжать» из них никакой информации
на тему «имущества Церкви», помимо широко известной. Исходя из представлений о
310
самодостаточности Библии как источника, Центуриаторы вынуждены отделаться самыми
общими замечаниями и не искать, как это вообще является «правилом 1 центурии»,
других исторических свидетельств. Поскольку время Иисуса являет собой «идеальный
порядок», получается, что за этим недостатком информации и молчанием историков
скрывается историческая реальность, которая центуриаторов полностью устраивает. Вот
как характеризуется обстановка с церковными имуществами (гл. VII «Об управлении
Христом Церковью») первом томе первой центурии:
О церковных имуществах.
Выполняя свою миссию, Христос не имел никаких доходов, никаких владений,
никаких сокровищ; при этом он бережливо распоряжался милостыней, полученной от
других людей. Из истории следует, что хранение и распоряжение ею было поручено Иуде:
Иоан 13. Лука в главе 8 рассказывает, что Магдалина, жена Хузы, домоправителя
Иродова, и Сусанна, и многие другие служили ему имением своим. Он также наказывал
ученикам, чтобы они не предавались алчности и накопительству. Матф. 10. Тем не
менее, он учит их кормиться платой и вознаграждением602.
В данной цитате приковывает внимание последняя сентенция, не подтверждаемая в
тексте «Центурий» никакими цитатами. Слова stipendiis et mercede допускают, в общем,
различные толкования, на все они ограничиваются понятием платы за услуги, причѐм
почти всегда – в денежной форме. Предположение «висит в воздухе», не опираясь на
цитату из заслуживающего полного доверия центуриаторов источника, и по этой причине
не находит развѐрнутой аргументации. В то же время, основной обличительный пафос
первой части первой центурии посвящѐн «крайне расстроенным и плачевным» делам в
«церкви иудеев». Что ж, обратимся к построенной вокруг «Деяний апостольских» второй
части первого тома. Имел ли эпизод с Ананией и Сапфирой хотя бы косвенное отношение
к сформулированной в «Магдебургских Центуриях» концепции формирования земного
богатства Церкви?
Во второй части первого тома произведения, названного «Церковная история»,
логично было бы начать разговор собственно о Церкви, коль скоро она воспринимается
602
EH I, p. 1, col. 270 25-35. Отметим, что если первая отсылка (на Евангелие от Иоанна) – это свободная
интерпретация Писания, то вторая (на Евангелие от Луки) – свидетельство почти точной цитаты. Ср. “Narrat
Lucas capite 8. quod Magdalena et Iohanna uxor Chuzae procuratoris Herodis, et Susanna, et aliae multae Christo
ministraverint de facultatibus suis” (EH I, p. 1, col. 270 30-34) и “Maria quae vocatur Magdalene de qua daemonia
septem exierant et Iohanna uxor Chuza procuratoris herodis et Susanna et aliae multae quae ministrabant eis de
facultatibus suis” (Lc 8:2-3). Отметим, по обыкновению, точность цитаты (изменение глагольного времени и
выпуск несущественной с точки зрения контекста информации вполне объяснимы).
311
как результат деятельности Иисуса Христа, которому был посвящѐн том предыдущий.
Конечно, ни о какой «римской» Церкви речи быть ещѐ не может; под названием
«иерусалимская церковь» (hierosolymitana ecclesia, причѐм чаще всего с маленькой буквы)
фигурирует совокупность апостолов, действовавших независимо и далеко друг от друга.
Поначалу иерусалимская церковь, как по причине взаимной и крепкой любви друг к
другу и единства, так и из-за насилия гонителей, имела общую кассу, в которую они по
доброй воле делали взносы для общего пользования. Сперва этой кассой ведали апостолы,
как обычные распорядители. Однако по мере роста числа последователей им не
удавалось одновременно распоряжаться столом и участвовать в собраниях и молитвах,
и тогда с согласия Церкви для управления казной были избраны Диаконы – семь
известных своей честностью мужей, исполненных Духа святого и мудрости. Долго ли
длилась эта общность имущества в Иерусалиме, отнюдь не ясно603.
Анализ информации о более поздних временах, собранной в Деяниях св. апостолов
и их Посланиях (а также отчасти у Евсевия), в целом не проливает много света на
материальную сторону жизни раннехристианских общин, хотя в нѐм встречаются, на наш
взгляд, свидетельства исключительной скрупулѐзности работы авторского коллектива.
После убийства Стефана, когда преследования стали более частыми, сообщают,
что все рассеялись, кроме Апостолов: Деян. 8. Сообщается также, что один из семи,
Филипп, был в Кесарии, Деян. 21, когда Павл в последний раз отправился в Иерусалим.
Остались ли прочие диаконы в Иерусалиме или на их место были избраны другие люди,
или же общность имущества в этот момент расстроилась, точно не известно. Из того
же, что антиохийские верующие при Клавдии послали с Варнавой и Савлом своим
братьям в Иудею собранные средства, Деян. 11, а также из того, что Павел принѐс в
Иерусалим собранное для святых, Рим. 15 и Деян. 24, можно сделать вывод, что вплоть
до тех самых времѐн они пользовались общим имуществом. Однако, о том, для бедных ли
предназначалось собранное, упомянутое в Гал. 2, мы оставляем каждому возможность
судить самостоятельно.
Stephano Interfecto, cum increbresceret persequutio, omnes quidem dispersi, praeter
Apostolos, dicuntur: Act. 8. Et Philippus, unus ex septem, Caesareae fuisse dicitur, Act. 21, cum
Paulus postremo iret Hierosolymam. Sed an reliqui diaconi manserint Hierosolymis, aut alii sint
603
EH 1, p. 2, col. 514.
312
substituti, an vero communio rerum eo tempore cessarit, incertum est. Ex eo autem, quod
discipuli Antiocheni sub Claudio fratribus in Iudaea habitantibus subsidium miserunt per manum
Barnabae et Sauli, Act. 11. et quod Paulus Hierosolymam ad sanctos collectam attulit, Rom. 15.
et Act. 24 colligi posse videtur, eos adhuc rerum communione et etiam tempore usos esse. Sed
cum in pauperes ea collata dicantur Gal. 2, suum cuique hac in re relinquimus iudicium604.
Некоторые моменты из этой цитаты требуют пояснения. Поставим при этом себя
на место центуриаторов, принципиально не пользовавшихся для толкования библейских
текстов другими источниками, кроме Библии – так им предписывали и соображения
иерархии аргументов (локусов), и общий принцип лютеровского учения Sola scriptura.
Что касается Филиппа, то для центуриаторов важно то, что, хотя они сами и
ограничиваются библейски-иносказательным «один из семи», в тексте Деяний св.
апостолов он именуется «диаконом». Это слово в греческом языке когда-то означало
«служащий», «служитель», и, как мы уже знаем, применялось для обозначения
хранителей общей казны. Достаточно обратиться к главе 21 Деяний, чтобы понять, что
перемещения учеников между Кесарией и Иерусалимом описываются в этом тексте
довольно общим образом. Центуриаторы не ставят перед собой задачи разобраться, где
были остальные, поскольку единственный известный им бесспорный источник больше
никак этот вопрос не освещает. Они не стесняются сообщить об этом и своему читателю;
отсутствие информации тоже очень важно и отнюдь не тождественно незнанию.
Констатированное отсутствие информации позволяет аргументированно возразить тому,
кто попробует представить картину с семью «распорядителями казны», досочинив ее
выгодным для себя образом. Информации в Библии нет, и это не может быть, по мнению
центуриаторов, случайно. Еѐ отсутствие должно интерпретировать как свидетельство о
том, что она – по крайней мере, применительно к веку апостольскому – не так уж и важна.
Антиохийские христиане (к слову, как сообщают Деяния св. апостолов, первые, кто
себя назвал этим словом) называются в этом фрагменте Вульгаты (Act. 11) discipuli (в
русском синодальном переводе «ученики», см. Деян. 11:26, 29), поскольку цитируемому
фрагменту непосредственно предшествовал рассказ о благовествовании в этом городе
Варнавы и Савла. Центуриаторы подхватывают это же слово, не реконструируя контекст
целиком. Что они передавали с Варнавой и Савлом? В Вульгате сказано, что отдельные
«ученики» решили послать собранное сообразно возможностям каждого в качестве
помощи (prout quis habebat… in ministerium mittere, Act. 11:29), как они и поступили.
Понятно, слово ministerium в XVI веке в данном контексте употреблять было уже нельзя,
604
EH 1, p. 2, col. 514-515.
313
и пришлось очень осторожно заменить его гораздо более понятным, но совершенно не
библейским subsidium. Подобный шаг в отношении слова sanctus (ad sanctos, «для
святых», Рим. 15:31) сделан не был, поскольку это слово широко употребляется в
Послании к римлянам как синоним понятия «уверовавший, верующий», в нашем
сегодняшнем узусе – «христианин»
Наконец, шедевр профессионализма центуриаторов – толкование фрагмента из
Послания к Галатам. Во второй главе Послания довольно сложно обнаружить те слова,
которые центуриаторы могли иметь в виду. Здесь вновь, как и в Рим.15 и в Деян. 24, речь
идет о последнем путешествии апостола Павла в Иерусалим. Центуриаторы исходили из
предположения (видимо, отчасти интуитивного), что именно это путешествие является
наилучшей иллюстрацией принятых между апостолами взаимоотношений, и если уж
искать следы информации об их денежных делах, то следует исчерпать именно этот
сюжет. Это путешествие апостола описывается (или только упоминается) в целом ряде
новозаветных текстов, и цитировать все центуриаторам не было никакой необходимости,
особенно с учѐтом того, что другие фрагменты либо ничего не могут добавить к
обсуждаемому имущественному вопросу, либо их информация по сравнению с
вышеприведѐнной несущественна. Вторая книга Послания рассказывает главным образом
об отношениях Кифы и Иоанна к апостольству Павла среди язычников, а также о
противостоянии Павла и Петра. Что же они разглядели в этой главе Послания авторы
«Магдебургских Центурий»?
Обнаружить зацепку в тексте этой небольшой главы Послания удалось далеко не
сразу, при том, что она расположена в первых же строках. Мы предположили, что секрет
заключается в интерпретации следующих строк.
Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с
собою и Тита.
2
Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим,
благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или
подвизался. [...] 6 И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня
нет ничего особенного, Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на
меня ничего более.
7
Напротив того, [...]
9
и узнавши о благодати, данной мне, Иаков и
Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам
идти к язычникам, а им – к обрезанным,
старался я исполнять в точности.
Гал. 2:1-10
10
только чтобы мы помнили нищих, что и
314
В версии Вульгаты:
deinde post annos quattuordecim iterum ascendi Hierosolyma cum Barnaba adsumpto et
Tito
2
ascendi autem secundum revelationem
et contuli cum illis evangelium quod praedico in gentibus
seorsum autem his qui videbantur
ne forte in vacuum currerem aut cucurrissem
[...]
6
ab his qui videbantur esse aliquid
quales aliquando fuerint nihil mea interest
Deus personam hominis non accipit
mihi enim qui videbantur nihil contulerunt
7
sed e contra [...]
9
et cum cognovissent gratiam quae data est mihi
Iacobus et Cephas et Iohannes qui videbantur columnae esse
dextras dederunt mihi et Barnabae societatis
ut nos in gentes ipsi autem in circumcisionem
10
tantum utpauperum memores essemus
quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere
Всѐ кажется довольно понятным: Павел, Варнава и Тит пришли в Иерусалим, где
показали руководителям местной общины последователей Христа, каким образом они
проповедуют язычникам. Получив их одобрение, апостолы получили благословение на
дальнейшую проповедь и отправились. Однако «почитаемые столпами» Иаков, Кифа (т. е.
Пѐтр) и Иоанн упоминаются не в начале отрывка, где идѐт речь о целевой аудитории
показательной проповеди, а к концу, где речь идѐт об одобрении. Случайно ли это?
Наше внимание приковало выражение qui videbantur – «которые были видны», то
есть мужи «видные», «заметные», встречающееся во 2 и 6 стихе (слова qui videbantur в 9
стихе являются частью оборота qui videbantur columnae esse «почитаемые столпами» и
лишь случайно совпадают с семантически наполненным и законченным словосочетанием
из 2 и 6 стиха). Соответствует ли оно по степени высказываемого уважения и даже
пиетета тому, которое используется в качестве эпитета трѐх выдающихся лидеров?
Конечно, нет. Ход мысли авторов «Центурий», принципиально не пользовавшихся
другими текстами для разъяснения Писания, был следующий: Павел выступал перед
людьми, «видными» в ином отношении. Создатели современной версии латинской
315
Библии, принятой на II Ватиканском соборе, считают необходимым уточнить среди
сравнительно немногих корректировок именно это выражение – qui osservabantur, т. е.
«люди, которые были на виду». Может помочь слово seorsum, которое следует принимать
как наречие «отдельно». Необходимо затребовать помощь оригинального текста –
греческого. Гал. 2:2 выглядит следующим образом:
ἀλ βελ δὲ θαηὰ ἀπνθάιπςηλ · θαὶ ἀλεζ κελ αὐηνηο η εὐαγγ ιηνλ
εζλεζηλ, θαη' ἰδίαλ δὲ ηνηο δνθνπζηλ, κή πσο εἰο θελ λ ηξ ρσ
θεξ ζζσ ἐλ ηνηο
εδξακνλ.
Здесь встречается выражение θαη᾽ ἰδίαλ, которое допускает толкование «в
частности» с оттенком «особо», «отдельно». В латинском языке, видимо, самым близким
словом будет seorsum, и потеря оттенка при переводе очевидна. Мы докопались до сути:
Павел сотоварищи проповедовали во время своего последнего визита в Иерусалим разным
людям, причѐм отдельно – людям, занимающим в обществе привилегированное
положение,
пользующимся
древнегреческий
язык.
особенным
Слово
δνθνπζηλ
авторитетом.
является
И
формой
здесь
нам
дательного
поможет
падежа
множественного числа причастия настоящего времени активного залога δνθνῦλ,
восходящего, в свою очередь, к глаголу δνθέσ – «казаться». Субстантивированное
причастие νἱ δνθνῦληεο в значении «могущественные, влиятельные люди» встречается и у
Еврипида, и у Платона. Таким образом, оно даже «древнее» Евангелия и принадлежит к
стилистическому страту древнегреческого языка, отлично знакомого центуриаторам
(вспомним, что Флаций толковал Аристотеля ещѐ в бытность свою преподавателем в
Виттенберге, задолго до начала работы над «Центуриями»)605.
Итак, очевидно, что Павел, Варнава и Тит шли в Иерусалим не специально для
того, чтобы выступить перед другими апостолами, а с другой целью. Выступая перед
иерусалимскими верующими, они не забыли и, говоря сегодняшним языком, «випперсон». Но что в контексте вышесказанного означает встречающееся в Гал 2:10
напоминание о нищих606?
Вероятно, пришедшие в Иерусалим ещѐ не раздали местным нищим того, что
принесли с собой из Антиохии. Это значило, что они обязаны были не просто оказать
помощь нуждающимся, а выступить «перераспределителями» общей собственности,
605
Отметим, что перевод св. Иеронима qui videbantur оказывается самым точным этимологически, но, увы,
затрудняет интерпретацию текста, особенно сегодняшнему читателю.
606
Отметим также, что русский текст, как это бывает и в других отрывках, точнее соответствует греческому,
чем латинскому Вульгаты. Встречающееся в тексте Послания к Галатам πησρόο правильно переводить
словом «нищий», в то время как латинское pauper соответствует самому нейтральному и распространѐнному
из греческих синонимов – слову πέλεο.
316
накопленной в Антиохии. В этом случае собранное (в Центуриях collecta или даже collata)
отождествляется с имуществом Церкви в целом, о котором и ведѐтся речь в данном
фрагменте. Могло оно и означать обычное напоминание о том, что в дальнейшей
деятельности следует помнить о беднейших слоях, не ограничивая аудитории своей
проповеди людьми «видными». Таким образом, дальнейшие умозаключения читателя
могут пойти как по пути интерпретации собственности для помощи бедным как одной из
приоритетных линий повседневной деятельности апостолов (а вслед за ними – и Церкви в
целом), так и в сторону менее обязывающего толкования слов и понятий Писания. Во
втором случае стих с «нищими» (Гал. 2:10) может не связываться логически со стихами о
«знаменитейших» (Гал 2:2 и 2:6). Это значит, что читатель отталкивается от текста второй
главы Послания как от перечисления событий одно за другим, а не как от глубоко
структурированного послания, в котором нет места случайным совпадениям. Как бы то ни
было, центуриаторы проявили в обработке данного эпизода сразу несколько своих лучших
профессиональных качеств.
Во-первых, их безусловной заслугой является то, что они заметили данный эпизод
на фоне других локусов Писания, из которых можно было бы почерпнуть информацию о
церковных имуществах. Фактически одно слово означало для них целый сюжетный
поворот. Во-вторых, они хорошо разбирались в смысле этих слов, понимая, что данный
фрагмент, как и текст Писания в целом, не подлежит «простой» интерпретации с
соблюдением единства эпистемиологического подхода. В-третьих, они не стали
навязывать своего мнения и делать глубокомысленные выводы, если текст Писания не
даѐт им такой возможности. Они сознательно воздерживаются от догадок и
«додумывания» текста, избегая даже невысказанных конъектур. Одновременно они
пользуются своим излюбленным в I томе приѐмом – «закрывают» тему, по которой нет
возможности
вынести
очевидный
вердикт.
Оставляя
возможность
каждому
интерпретировать Писание по-своему, они не только действуют в соответствии с
лютеровской доктриной, приглашая читателя самостоятельно толковать Библию, но и
предотвращают возможные махинации с этим локусом, лишая силы возможную попытку
их опровержения сторонниками поиска «единственно верной точки зрения».
Подробный анализ приведѐнной выше цитаты позволяет нам по-новому увидеть и
методологические глубины и пределы «Центурий», Из этой цитаты мы видим не только
эпистемиологические пределы реконструкции истории I века по библейским источникам,
но и то, как берегли центуриаторы мельчайшие фрагменты источника, могущие дать хоть
какую-то информацию. Нахождение «позитивной» информации в Послании к Галатам
производит сильное впечатление. Очевидно, такой уровень «вытягивания» информации из
317
источника, такая тщательная его проработка были недоступны исследователямодиночкам, особенно в те далѐкие времена.
Как мы видим, в «Центуриях» соблюдается основополагающий принцип
лютеранства – Библия толкуется только через саму Библию (принцип Scripturā solā), но
при этом собственные умозаключения ученых мужей могут быть использованы для
разъяснения мест, оставшихся не понятыми. Как только привлекается другой источник
сведений, не входящий в состав Священного Писания, критицизм авторов приобретает
право на существование, и «мужи из Магдебурга» себя не ограничивают.
А что дальше? А дальше выясняется, что по поводу других городов и земель
никакой «позитивной» информации найти не удалось. «Насчѐт того, была ли подобная
общность имуществ в других церквях, ни истории не рассказывают, ни представляется
возможным выяснить другим способом». В тексте и Деяний св. апостолов, и Посланий
найдены свидетельства о том, что у римских, коринфских, фессалоникийских и многих
других христиан имелось своѐ имущество, которое никак не соотносилось с имуществом
христиан в Иерусалиме и даже других крупных городах. У ведущих лидеров новой
религии, оказывается, также отмечалось также наличие собственности. В частности,
центуриаторы указывают на Иоанна, а также на «авторов Послания к Евреям и Послания
Иакова». Евсевий, правда, пытался утверждать, что крещѐнные Марком жители
Александрии
пользовались
всем
имуществом
сообща,
но
был
раскритикован
центуриаторами: и Филон, на которого ссылался Евсевий, писал о ессеях, а не о
христианах, и умозаключения самого Евсевия суть ни что иное, как конъектуры. К слову,
этот момент – единственный в разделе «О церковных имуществах», отталкивающийся не
от библейского источника. Сам же Библия настойчиво подтверждает тезис о том, что
ранние христиане «каждый в отдельности вносили в общую кассу, сообразно своему
достатку, во время массовых сборищ» (in publicis congressibus)607. И Павел, и Пѐтр
упоминают о «церковном имуществе» - это понятие им хорошо известно. Подробно
разбирается вопрос о том, могли ли распоряжаться общим имуществом только «диаконы»,
и об ответственности одних «материально ответственных лиц» перед другими (в
частности, Тимофея перед Павлом). Подробно перечисляются все фрагменты из Писания,
по которым можно заключить, что из общего фонда выплачивались суммы не только
нуждающимся нищим, вдовицам и старикам, но и «служащим Церкви». Правда,
отмечается в тексте «Центурий», конкретные суммы выплат церковникам восстановить
уже не удастся. Наконец, отдельно подчеркивается и доказывается, что содержание
деятелей Церкви было вполне достаточным, чтобы обеспечить их пищей и одеждой (victus
607
EH 1, p. 2, col. 515 30-31.
318
et amictus), однако и сами они не злоупотребляли поддержкой из общего имущества, и
другим воспрещали. И Пѐтр, и Павел указывали, что стремление к роскоши и богатству
является признаком жадности псевдоапостолов.
Все фрагменты Нового Завета, позволяющие делать хоть какие-то умозаключения
по
поводу
церковных
имуществ,
подобраны
центуриаторами
с
максимальной
скрупулѐзностью. Некоторые из них цитируются неоднократно. В частности, небольшой
локус из Первого послания к Тимофею (1 Тим. 5608) цитируется и в качестве констатации
знакомства Павла с понятием «церковное имущество», и по поводу финансовых
взаимоотношений Тимофея и Павла, и для доказательства, что Церковь, помимо
непосредственно трудящихся на еѐ благо людей, содержала и нуждающихся.
Самое интересное в разделе De bonis Ecclesiae – это не то, что в ней есть, а то, чего
в ней нет: ни одной ссылки на главу 5 Деяний св. апостолов, в которой приводится рассказ
об Анании и Сапфире! Новый Завет изучен доскональным образом, все имеющие
отношение локусы тщательно подобраны и прокомментированы, иногда – при помощи
сложных и неочевидных умозаключений. Некоторые локусы «свидетельствуют» не
единожды, и с помощью этого приѐма картина становится полной, производит
впечатление исчерпывающей. С другой стороны, история об Анании и Сапфире хорошо
известна, потому что приводится, как мы видели, также неоднократно. В то же время она
могла бы превосходно проиллюстрировать тезис об общности имуществ верующих, о
традиции сбора пожертвований прилюдно, о руководящей роли предстоятелей, наконец, о
личном участии апостола Петра! И такой материал не был использован! Отметим также
умозаключение, сделанное центуриаторами по поводу Анании и Сапфиры в 174.5:
обманщики утаили из цены поля, которое уже было пожертвовано общине. Для главы о
церковных имуществах это сообщение могло бы иметь особенную ценность, поскольку
(если бы оно было бесспорно истинным) свидетельствовало бы, например, о том, что
общине дарились не только средства, но и земельные фонды, продать которые было
обязанностью жертвователей, и т. п. Центуриаторы сознательно пренебрегают этой
информацией, несмотря на то, что она значительно разнообразила бы и обогатила
соответствующую главу. Пренебрегают они и «великим страхом», который мог бы
свидетельствовать о большом скоплении народа на этих собраниях (in publicis
congressibus), и некоторыми другими важными деталями. Почему яркий эпизод об Анании
и Сапфире, тщательно проанализированный в ряде локусов и представленный в самых
различных главах «Центурий», обойден молчанием там, где ему самое место – в разделе
608
Здесь (ст. 16) апостол Павел указывает, например, что следует поддерживать материально только тех
вдов, у которых нет родственников среди верующих.
319
«О церковных имуществах»? Может быть, всѐ дело в жестокости наказания? Ведь
«отлучение», о котором в библейском отрывке нет ни слова и о котором говорят
центуриаторы, может выглядеть натяжкой! Нам представляется, что закончившаяся
закономерной смертью Анании и Сапфиры кара вполне соответствует по «тональности»
лютеровской критике Рима вообще и должна была особенно привлекать именно
гнесиолютеран – течения «непримиримых», лидером которых являлся руководитель
проекта «Центурий» Матиас Флаций Иллирик.
Тезис о случайном пропуске эпизода при составлении раздела De bonis ecclesiae мы
отвергнем как категорически неприемлемый: напротив, мы видели ряд примеров, когда
один локус использовался несколько раз. Это, в свою очередь, могло свидетельствовать о
том, что в коллективе авторов одной работой по распределению локусов по темам
занимались несколько человек, каждый из которых «пристраивал» данный локус на то или
иное место. Такое совпадение, при котором все они дружно пропустят широко известный
рассказ об Анании и Сапфире, будет просто невероятным. Причины пренебрежения этим
ярким эпизодом никак не освещены, и мы выдвинем следующую версию.
В библейском эпизоде присутствуют не только наставления, но и последовательное
описание событий, конфликт, в котором противопоставляются отрицательные персонажи
(обманщики Анания и Сапфира) и положительные, персонифицированные в апостоле
Петре (ибо сложно считать «юношей» персонажами конкретными, а не обобщением или
даже не иносказательным метафорическим приѐмом). Таким образом, в противостоянии
Анании и Петра мы видим персонифицированное столкновение Зла и Добра. Если же
попытаться вычленить из этого библейского рассказа «позитивную» информацию для
исторической книги, получится, что действие, которое должно проиллюстрировать
интересное для историков явление, совершено людьми неправедными, к тому же
незамедлительно наказанными. Таким образом, это действие может быть поставлено (как
центуриаторами, так и будущими критиками «Центурий» от лица римской Курии) под
сомнение с точки зрения морали. Когда действие совершается апостолами, пресвитерами
или простыми праведниками, оно вполне «годится», так как в эпоху «золотого века»
деяния праведников служат основной моделью реализации этого идеального порядка
вещей.
Сюжет Деяний апостольских и Посланий сконцентрирован вокруг распространения
новой веры и гонений на неѐ. Таким образом, персонажи представляют либо христиан,
либо их врагов. Анания и Сапфира – злодеи среди ранних христиан, и таких неправедников на страницах Деяний и Посланий апостольских немного (один из них –
Симон Волхв, несколько раз упомянутый на страницах второго тома первой центурии
320
вместе с Ананией). Конечно, строгость Петра при наказании этих двух обманщиков тоже
потребует своего объяснения: может ли их разоблачение заканчиваться смертью?
Закономерно ли это? Подавляющее большинство локусов, на которые центуриаторы
ссылаются, описывают взаимоотношения людей внутри христианской общины. Во
времена описанного в «Магдебургских Центуриях» своеобразного «Золотого века»
христианской истории внутри этих общин собираются в основном люди положительные;
их образы ярко контрастируют с современным центуриаторам развратом, и на контрасте с
ними особенно сподручно будет в последующих томах бичевать различные «искажения»,
допущенные римской Курией. Таким образом, центуриаторы предпочли замолчать
информацию,
безусловно
выигрышную
для
их
реконструкции,
дабы
не
быть
обвиненными в очернении библейского прошлого, в поиске негативной информации о
христианах эпохи «идеальной Церкви».
«Магдебургские Центурии» стали большим шагом вперѐд в деле интерпретации
Библии как исторического источника. Мельчор Кано не знал, что не все локусы Писания
равны между собой. Центуриаторы, первыми столкнувшись с необходимостью
сопоставить между собой абсолютно все локусы Священного Писания, были вынуждены
допустить их неравенство и, вследствие этого, дифференцировать своѐ к ним отношение.
Конечно, даже «отвергнутые» или обойдѐнные вниманием локусы уступают место только
другим фрагментам Писания, и ни что другое не способно их опровергнуть. Тем не менее,
уже первые лютеранские историки делают важнейший шаг по пути рационализации
использования Библии как исторического источника, превыше всего (пусть и исходя из
глубокого
конфессионального
интереса)
ставя
профессионализм
исторического
исследования.
Рассмотрим
теперь
принципы
функционирования
локального
метода
в
«Магдебургских Центуриях» применительно к историческим личностям. В качестве
примера мы возьмѐм Константина Великого, одного из основных персонажей 4 тома.
Информация о нѐм не даѐтся единым комплексом (как делали все церковные историки
ранее, начиная с Евсевия). Раздробленная на отдельные локусы, она рассеяна по
страницам всей книги, в соответствии с принятым в сочинении методом. Метод
«Центурий»
заключается
в
попытке
систематизации
исторического
материала,
облегчающего пользование им и ориентирование в огромных хранилищах отдельных
фактов. Он представляет собой своего рода универсальную каталожную систему
(Theatrum609), в которую каждый отдельный исторический факт может быть помещен
609
Широко распространѐнная в европейских интеллектуальных кругах Раннего Нового Времени традиция
визуального представления информации (и гуманитарного знания как части общего информационного поля)
321
только на одно место. Информации по Константину много; она рассеивается по
отдельным главам, и цельное восприятие образа становится невозможным. Метод
облегчает манипулирование отдельными фактами и затрудняет операции с их суммами.
Информация о Константине разбросана по всему тому: мы обнаружили
посвящѐнные ему 89 отдельных локусов. 16 из них посвящены фактам его биографии, не
относящимся к вопросам истории религии.
Первое упоминание Константина является, пожалуй, самым любопытным. 4-я
Центурия
посвящается
английской
королеве
Елизавете;
стремление
заручиться
поддержкой одной из могущественнейших европейских держав зиждилось на довольно
шатком историческом обосновании. В посвящении говорится610 (а в тексте Центурии
подтверждается611), что величайший из римских императоров Константин родился в
Англии (in Britannia ex Britannica stirpe). Это известие якобы основывается на
утверждении Евтропия. Однако интересно не только то, что у Евтропия ничего подобного
нет; любопытно, что в тексте самой Центурии (почти в самом конце612) имеется прямо
противоположное утверждение! Конечно, это просмотр – характерная издержка при
коллективном характере работы. Возможно, он даже сыграл свою негативную роль:
королева не поддержала проект «Центурий» материально.
Понятно, что «Посвящении» историческая реальность максимально упрощается; в
тексте Центурии есть место и повод к неоднозначной трактовке образа. При общем
положительном восприятии Константина (его частым эпитетом является princeps bonus),
отмечались и некоторые его недостатки. Довольно развернутый портрет императора
дается в начале III главы 4 тома. Перед читателем встаѐт образ доблестного гражданина,
воспитанного в духе классического римского стоицизма. Никакого христианского
фанатизма, даже никакой личной вовлечѐнности в вопросы веры мы не отметили.
Интересен пересказ его высказываний о самом себе (apophthegmata) 613, почерпнутых в
сочинениях Помпония Лэта, Аврелия Виктора, Элия Лампридия и других. Последний,
например, приводил слова Константина о том, что императором он стал случайно, и
прекрасно реконструирована в сочинениях Ф. Йейтс. См. Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб.,
Университетская книга, 1997; Она же. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., Новое литературное
обозрение, 2000. 524 с.
610
EH, IV, Epistola dedicatoria, p. 10.
611
EH, IV, col. 61. “Fuit autem Constantinus Constantii Imperatoris filius, bonus a bono, pius a pio, in Britanniis
obscuriori matrimonio (ut Eutropius ait) natus, ex matre Helena, quam stabulariam Ambrosius in oratione funebri de
obitu Theodosii appellat”. В сочинении Евтропия говорится только (Brev. X 2.2): «Вскоре после смерти
Констанция, сын его Константин, рождѐнный от незнатной матери, провозгласил себя в Британии
императором» (306 г.). См. Римские историки IV века. Москва, РОССПЭН, 1997. С. 67. Непосредственно на
эти слова в тексте «Центурий» тоже имеется ссылка (EH IV, col. 57).
612
EH IV, col. 1560. Mortuo Constantio Chloro, Constantinus ex concubina Helena procreatus, et apud Tharsum (ut
Iulius Firmicus Siculus refert libro secundo Matheseon, capite quarto) genitus, succedit.
613
EH IV, col. 62.
322
после этого стремился оказаться достойным империи. Почему этот локус оказался в главе
III, посвященной, как мы помним, «гонениям и спокойствию Церкви»? Тут же
оказываются
и
противоречащие
друг
другу
сообщения
Евтропия
и
Лэта
о
продолжительности правления Константина. Характерно, что Центуриаторы, не имеющие
возможности вынести суждение об истинности или ложности этой хронологии, и не
пытаются это сделать.
Далее приводятся тексты документов, прямо соответствующих проблематике
главы. Среди них – письма в провинции (literae) и императорские указы (constitutiones). В
первой же из этих constitutiones мы узнаем текст «миланского эдикта» 313 года (это
наименование историкам до «Церковных анналов» Барония было неведомо). Конечно, эти
документы (их текст приводится полностью) находятся абсолютно на своѐм месте; всѐ,
что было перед ними (рассказ о происхождении императора с подтасованным местом
рождения, характеристика личности, высказывания, срок правления) – это локусы,
которые было решено сгрудить здесь и предпослать в качестве характеристики автора
цитируемых документов. Очевидно, не все локусы поддаются систематизации, и их
местонахождение подчас случайно.
Однако обращает на себя внимание следующее обстоятельство. Документы
Константина, помещѐнные в текст 4 центурии большим массивом, не находят
систематического отражения в Указателе. Это свидетельствует о том, что они
воспринимаются как отдельная категория единиц информации, альтернативная типичным
мелким локусам. Локусы встречаются друг с другом и объединяются в конгломерат
локусов, части которого слабо соответствуют друг другу. Это делало невозможным поиск
локусов по оглавлению; видимо, именно по этой причине в конце каждой Центурии
приводится подробнейший Указатель – без него пользование Центуриями крайне
затруднено, для нужд практической полемики с Римом этот том становится бесполезным.
Указатель – это не дополнение к распределению материала на 16 глав, а своего рода
альтернативный принцип классификации материала, предлагающий заодно пользователю
единственно эффективный способ поиска мелких единиц информации. Так, Миланский
эдикт (Exemplum constitutionis imperialis Constantini et Licinii, pro libere colenda Christiana
religione614) находится – с точки зрения деления на главы – на своѐм законном месте, но
указания на него в Указателе нет; зато в нѐм имеются две сноски на cum Licinio edictum
pro Christianis (54.60 и 55.4). На самом деле это одно сообщение, на которое дается две
сноски – два локуса слились в один. Константин разбил Максенция и дальнейшей своей
деятельностью при поддержке Лициния принял в интересах христиан замечательные
614
EH IV, col. 62 и далее.
323
законы (legem pro Christianis perfectissimam promulgarunt); Максимин (Christianorum odio
ardens) до поры до времени издавал на Востоке созвучные константиновским указы. Далее
приводится текст одного из писем Максимина, а локусы, посвященные Константину и
Миланскому эдикту, были израсходованы на то, чтобы представить нам ситуацию с
Максимином.
Небольшие размеры локуса крайне затрудняют работу над текстом в целом.
Характерен, например, эпизод конфликта Константина с персидским царѐм Шапуром II.
Конфликт был вызван полученным в Риме известием о гонениях на христиан в
Сасанидской
Персии
и
в
общем
должен
считаться
важным
для
концепции
«Магдебургских Центурий» сюжетом. Разумеется, его место – в главе III, посвященной
преследованиям церкви. Там615 мы читаем, что Константин выступил в защиту христиан
Персии; по тексту сочинения Евсевия «Жизнь императора Константина» приводится даже
полный текст письма императора к шаху. При этом в Указателе имеется две ссылки на
«письма в защиту христиан к персидскому царю Шапуру», но они приводят нас в другие
места! В этих местах (из главы II, посвященной распространению христианства) письма
лишь упоминаются (опять-таки со ссылкой на Созомена, Феодорита Кирского и Евсевия)
в качестве документов, доказывающих христианизацию Персии. Текста письма там нет,
как нет и указания на то, что этот текст приводится где-то в другом месте тома.
Постоянная, систематическая повторяемость вышеописанной ситуации убеждает нас: речь
идет не о недосмотре и не об издержках коллективного метода работы над книгой. Она
скорее наводит нас на мысль о двух категориях «единиц информации» - крупных
массивах, расставленных в соответствии с принятым (и описанным в первом томе
«Центурий»)
«методом»,
и
более
мелких
локусах.
В
Указателе
содержится
систематизированное знание об этих последних, рискующих быть потерянными без
качественного справочного аппарата; более крупные блоки информации не потеряются,
поскольку составляют костяк работы и расположены в соответствии с методическими
указаниями, предпосланными 1 Центурии.
Большая часть локусов о личности императора Константина содержится в главах
III и VII. В III, посвящѐнной преследованиям и защите церкви, приведены большей частью
факты, характеризующие личность императора положительно: при этом важно отметить,
что подчеркивается не только его роль как защитника веры, но и вообще мирный характер
его правления, проявившийся после победы над всеми претендентами на престол.
Правление его предшественника Диоклетиана характеризуется в целом отрицательно,
причем в вину ему ставятся не столько преследования христиан (он не первый, да и не
615
EH IV, col. 87-88.
324
последний), сколько активная реформаторская деятельность, воспринимаемая со страниц
4 центурии как объективное зло.
VII глава 4 тома посвящена главным образом проблематике «Константинова Дара».
Это совершенно естественно; тщательно подобранная информация о личных качествах и
событиях жизни Константина играет свою роль в системе аргументации. Например,
свидетельство Евтропия о властолюбии Константина становится одним из важных
аргументов против добровольной уступки им своих властных прерогатив римскому
первосвященнику Сильвестру616. Легенду о чудесном излечении императора от проказы
посредством Крещения центуриаторы приводят, чтобы охарактеризовать целый пласт
средневековой папской литературы617.
Парцеллизация информации, которую мы привыкли воспринимать как цельную,
касается, конечно, не только личности императора Константина. Приведем еще один
пример.
Основной
сюжет
главы
V
–
это,
конечно,
арианская
ересь.
Арий
Александрийский выступил со своей ересью в столбце 316; несколько столбцов (часть
главы V De haeresibus) были посвящены его действиям. Продолжение его судьбы мы
встречаем в ст. 691 (он выслан в Александрию), последующие события освящены в ст.
501. Отцы Василий, Иероним и Дамасий опровергают учение Ария в ст. 954, 1251 и 1291.
Отлучение Ария обсуждается вместе с другими отлучениями – в ст. 424. Никейский
Собор (осудивший Ария и его учение) упоминается в ст. 135 и 537. Отдельно
опровергается мнение некоторых авторов о том, что на самом деле во времена Никейскоо
Собора Ария уже не было в живых (ст. 632). Конечно, имя Ария (а также некоторых его
последователей) встречается на различных других страницах тома – посвящѐнных
Соборам, отлучениям, епископам, учителям церкви и т. д. Подробно перечисляются те,
кто выступал на стороне Ария (ст. 323-326) и его опровержения (326-332). Далее следует
долгое, состоящее из пространных цитат опровержение положений арианской ереси пункт
за пунктом.
Наконец, следует сказать несколько слов относительно использования в
«Магдебургских центуриях» дат. Причина сравнительно небольшого количества точных
хронологических указаний, видимо, заключается в том, что общепринятой системы дат
ещѐ не было, а формулирование таковой, если и было вообще возможно в конкретных
условиях второй половины XVI века, было всѐ же слишком трудоѐмким. Иногда, впрочем,
даты нужны, и если привести две различные даты, центуриаторы приводят их со ссылкой
на источник. «Пелагий Бритон» распространил свою ересь в 415 году согласно хронике
616
617
EH IV, col 572.
EH IV, col. 571.
325
Проспера, а по Мариану в 414 – «на пятом году правления Гонория и Феодосия»618. Точно
известно немногое – даже продолжительность правления Константина Великого была
известна приблизительно!
Закономерность
такая:
если
источник (чаще всего
–
Хроника, которой
центуриаторы доверяют полностью или в значительной степени) дату предлагает, они еѐ
повторяют и дублируют другой. Даты по только одному источнику единичны и могут
рассматриваться как исключения. Типичная дата: 5.606.18-24: Несторий епископ
Константинопольский поддержал и расширил «еретическое мнение Анастасия» anno
Christi (secundum Marianum) 429. Theodosii imperatoris quinto: iuxta Hermannum Contractum,
anno Christi 430. aut secundum Prosperum, 431. Датировано абсолютное меньшинство
локусов, при этом более или менее регулярно датируются ереси (очевидно, источники
локусов располагают). Заметно тяготение к традиционной датировке по годам правления
того или иного императора. Помимо прочего, это доказывает и общепринятость
чередования императоров как хронологической канвы исторического процесса. Эта
общепринятость укоренилась в позднеантичной церковной литературе, которая служила
центуриаторам источником (всегда главным, а часто – вообще единственным). С другой
стороны, этот хронологический метод был довольно распространѐн в той культурной
традиции, на которую центуриаторы вольно или невольно опирались (имеются в виду
наиболее яркие достижения европейской и немецкой гуманистической историографии).
Если ересь «старая», то ссылка даѐтся на век еѐ возникновения. Книги, написанные
против той или иной ереси, не датировались. Книги действительно не датированы, как не
датированы и жизни важнейших церковных деятелей, даже авторитетнейших авторов.
Конечно, мы знаем сегодня больше дат, чем знали центуриаторы; но ведь некоторая
информация по хронологии была им доступна в готовом виде (поскольку была приведена
непосредственно в источниках), а другая была элементарно выводима из них! Очевидно,
что центуриаторы просто не придавали значения информации по хронологии и
датировали только некоторые категории событий. Биография Феодорита Кирского
написана самым подробным образом619. Перечислены все сочинения, даже мелкие, не
дошедшие до нас или сомнительные; они скрупулѐзно подсчитаны, изложены в строгом
порядке, но относительно их не приводится ни одной даты.
При том, что дат в «Магдебургских Центуриях» очень мало, они относительно
часто встречаются в 3 главах практически каждого тома и гораздо реже – в других. Это не
случайно. Третьи главы, посвящѐнные, суда по названию, «преследованиям и
618
619
EH V, col. 576.
EH V, col. 1000-1014.
326
спокойствию церкви», на деле формулируют основу восприятия исторической хронологии
– череду императоров, а также предлагают оценки их личности, исходя из их политики в
отношении церкви и христианства. Таким образом, третьи главы являются тем шарниром,
которым церковная история крепится к общечеловеческой. Этим объясняется и их
привилегированное расположение в тексте. Как мы видели, многие исследователи считали
основными главами четвѐртые, содержащие трансформацию церковной доктрины.
Возможно, для историков-протестантов так оно и есть. Рассмотрение «Центурий» в более
широком историографическом контексте вынуждает нас сделать существенное уточнение:
само расположение главы, в которой перечисляются светские правители и даѐтся оценка
их деятельности, указывает: взаимодействие церкви и еѐ служителей со светской властью
важнее для оценки и общего хода истории, и заслуг отдельных правителей, нежели
искажения доктрины, объясняемое происками Сатаны или человеческой слабостью. Чисто
формально, исходя из помещѐнного в первый том методического раздела («Метода») или
из оглавления, можно подумать, что светская власть и еѐ носители имеют в исторической
концепции «Магдебургских центурий» второстепенное значение. В самом деле, вторые
(фактически – первые, после краткого введения) главы описывают место церкви, а
следующие (третьи) – еѐ состояние. Однако, если отойти от формальной концепции
«Метода», то можно обнаружить, что «преследование и спокойствие» церкви описаны по
императорам (например, sub Constantino или sub Justiniano и т. п.), а в их перечислении по
большей части соблюдается хронологическая последовательность. Даты важны именно
здесь: они не очень надѐжны и, конечно, не общеприняты, однако как элемент светской
хронологии они являются важнейшим структурообразующим фактором. Дата почти
всегда присутствует в начале каждого рассказа об отдельном императоре, указывая начало
его правления (часто – по различным авторам или хронологическим принципам) и его
продолжительность. Теология в «Магдебургских Центуриях» существует без дат; даты
появляются в основном там, где в церковной истории проявляется еѐ опора на светскую,
где обнаруживается их глубокая связь.
Ещѐ одно «прибежище дат» в церковной истории – это 16-е главы, посвящѐнные
«политическим
изменениям».
Там
перечисляются
войны
между
христианскими
государями, не имевшие конфессиональной подоплѐки, а также славные правители,
династические решения и т. п. Например, в 6 центурии в эту главу попало подробное
описание всех войн Юстиниана на Западе. Как и весь остальной материал этой центурии,
эти войны описаны из вторых рук (по Прокопию, со ссылками на Павла Диакона, а также
на Сабеллико и Флавио Бьондо).
327
Главное отличие локального метода «Центурий» от изложенной Кано концепции
очевидно: в «Центуриях» локусы – это не иерархия авторитетов, а элементы содержания
исторического процесса. Тем не менее, вполне уместно говорить о творческом развитии
локального метода Кано трудами лютеранских историков. Прежде всего, отметим
фундаментальное общее свойство: использование локального метода и Кано, и его
противниками – это стремление внести рациональное в историческое исследование и
особенно в его экспозицию, сделать критерии познания прошлого научными. Перед нами
–
стремление
заковать
гуманитарное
знание
в
научные
рамки,
оригинальная
формализация знания; важнейшую роль локусы «Центурий» играют как элемент
манипулирования информацией, еѐ обработки, а также хранения. Авторы «Центурий»
разнообразно препарируют добытую информацию, не испытывая никакой потребности в
выяснении, какой локус «старше» по иерархии, а какой может быть вытеснен. В их
представлении информацию может опровергнуть другая информация; опровергнутая
полностью утрачивает свою ценность, и приводить еѐ на страницах своего сочинения
можно лишь для того, чтобы сделать еѐ опровержение ещѐ более эффектным.
Центуриаторы намного свободнее Кано: они вольны характеризовать императора так, как,
по их мнению, он того заслуживал, не сдерживая себя соображениями уместности или
возвеличивания из конъюнктурных соображений. Эта глубокая внутренняя свобода станет
важным отличительным качеством протестантской исторической мысли. Авторы
«Магдебургских Центурий» - выдающиеся практики исторической науки; от бесплодных
теоретических размышлений они сумели сделать шаг в сторону комплексной обработки
всемирной истории с помощью самостоятельно освоенных приемов. Каждый из добытых
ими в процессе научного поиска локусов основывался на источнике, на цитате, очень
часто – на подлинном документе (это особенно заметно на материале более поздних эпох).
Качество отдельных локусов было небезупречным и могло быть улучшено; оппоненты
Центуриаторов смогут усовершенствовать методы работы с источниками, углубить
знания во вспомогательных дисциплинах, расширить само понятие источника. По этому
пути пойдѐт церковно-историческая полемика после «Центурий».
328
Глава 3. Католическая историография против «Магдебургских центурий» в
1560-1588 гг.
§1. Первые выступления католической партии: 1560-1568 гг.
Католический лагерь весьма оперативно отреагировал на выход «Магдебургских
Центурий». Этому способствовал и продолжавшийся Тридентский Собор, и ресурсы,
отмобилизованные после скандала 1558 года. В рамках нашего исследования важным является
анализ написанных авторами-католиками работ, направленных против исторической
концепции «Центурий» и увидевших свет во второй половине XVI века.
Бесспорным шедевром исторической мысли XVI столетия стали «Церковные анналы»
Чезаре Баронио, вышедшие в 1589-1607 году. Эта работа потребовала не только большого
напряжения сил и мобилизации определѐнного кадрового ресурса, но и очень больших, не
известных ранее в католическом мире временных затрат. Указанные годы обозначают только
выход в свет томов «Церковных анналов», как имя автора обозначает лицо, внесшее
решающий вклад и принявшее на себя ответственность за труд, а не единственного автора
этого колоссального сочинения.
«Анналы» напрямую или косвенно стали итогом длительной деятельности историков
Курии. Первые попытки опровергнуть концепцию «Магдебургских Центурий» полностью или
частично стали выходить ещѐ во время издания самих «Центурий». Дожидаться окончания
публикации в Риме не стали: во-первых, проект выглядел как довольно длительное
предприятие, а во-вторых, насущные нужды межконфессиональной борьбы диктовали свои
условия. По этим причинам католическая сторона подготовила целый ряд сочинений,
выходивших одно за другим и направленных против первого масштабного лютеранского
исторического сочинения.
В 1560 году вышла книга Михаэля Бухингера «Новая церковная история»620,
готовившаяся параллельно первым томам «Центурий» и вышедшая вскоре после них.
Историки не относят этот труд к написанным против «Центурий» из-за отсутствия отсылок к
ним и цитат. Тем не менее, нам это представляется весьма спорным. Вопрос о том, насколько
непосредственной была зависимость этого текста от «Центурий», может быть решѐн, только
если мы примем во внимание длительные сроки подготовки и печатания издания в те времена.
Бухингер не называет «Центурии», но сам по себе этот факт не должен вводить нас в
620
[Buchinger M.] Historia ecclesiastica nova. Qua brevi compendio, res in Ecclesia gestae, romanorumque Pontificum a
B. Petro ad Paulum IIII. describuntur. Authore Michaele Bucchingero Colmariense. Moguntiae, Behem 1560. 400 c.
Второе издание вышло в Антверпене в 1588 году.
329
заблуждение. Основные претензии протестантских историков к Римской церкви было легко
предугадать, поскольку они следовали общей линии Лютеровской критики. Бухингер не знал,
какую конкретную форму примут обвинения, однако сделал попытку, во-первых, предугадать
их и отразить наиболее очевидные, во-вторых, лишить тем самым «Центурии» актуальности
будущего успеха. В процессе работы он ещѐ не знал, чему, собственно он должен
противостоять. Поэтому мощный труд был выпущен «наугад»; когда вышли первые тома
«Центурий», изменить что-то было уже поздно или даже невозможно; Бухингер выпустил
текст в той форме, в которой он был подготовлен. Книга может быть отнесена к
межконфессиональной дискуссии только с этими оговорками, однако помещать еѐ из
хронологических соображений следует в самое начало волны католического ответа,
рассматривая в качестве пролога. По непонятной причине испанский историк Орелья-и-Унсуэ
поместил краткий (и очень поверхностный) рассказ о нѐм между Брауном и Айзенграйном 621,
что представляется уже совершенно неприемлемым.
Михаэль Бухингер (Кольмар, 1521? – там же, 1571?) получил отличное образование в
Гейдельберге и Фрайбурге, где изучал классическую филологию622. В 1542 году он вступил в
церковную конгрегацию Мольсхайма и занялся написанием богословских сочинений и
проповеди. В 1550-59 году Бухингер был викарием Страсбургского собора, но после того, как
собор перешѐл к протестантам, он вернулся в родную конгрегацию. Первая книга явно
антилютеранского содержания – «Церковь» - была выпущена им в известном своими
изданиями католической литературы Диллингене в 1556 (переиздание – в 1557) году.
Книга (а с ней – и противодействие Рима лютеранам в поле церковной историографии в
целом) начинается с текста молитвы за судьбу католической церкви, а также – за мир «в наши
печальные времена». Посвящалась книга австрийскому аббату Иоганну Рудольфу, очевидно,
вдохновившему автора на работу.
Не имея конкретных объектов для опровержения, Бухингер, видимо, осознавал
неконкретность своей позиции. Еѐ он стремился компенсировать средствами риторики,
прибегая к высокопарному стилю и виртуозной латыни.
«Но всѐ же не сей поседевший страж Стикса, тысячекратно гнусный, не прекращает
то и дело демонстрировать спесь и из своей цирцейской чаши растревоженный сперва род
людской усыплять и дурачить, не переставая расставлять козни человеческому спасению» 623.
621
Orella yUnzue J. L. de. Op. cit. P. 68-71.
Подробнее о нѐм см. Paulus N. Michael Buchinger. Ein Schriftsteller und Prediger aus der Reformationszeit. Der
Katholik 2 (1892), 203-221; Paulus U. Michael Buchinger, ein Colmarer Schriftsteller une Prediger des sechzehnten
Jahrhunderts. Archiv für elsässische Kirchengeschichte 5 (1930). S. 199-223.
623
Buchinger M. Op. cit., p. A ii v.
622
330
При чтении этой книги можно сделать вывод, что даже в 1560 году католическая
сторона ещѐ стремилась сохранить единую старую концепцию с самыми незначительными
нововведениями. Прежде всего, Бухингер поставил целью укрепить концепцию церкви как
единого организма и, более того, как квинтэссенции единства в самом широком понимании.
По этой причине работа исторического характера, претендующая на цельную концепцию, в
значительной степени посвящена «внеисторическим», то есть не имеющим диахронической
координаты, понятиям. Прежде всего, это относится к определениям церкви, имеющим
аллегорическое и глубокое символическое значение. Бухингер подробно объясняет, что такое
церковь, едина ли она, из чего она состоит и на чѐм она зиждется. Затем подробно
обсуждаются все обычные еѐ определения – «Сион», «звезда», «самая крепкая башня», «град
на холме» и проч. Почти 50 страниц in folio для подобных рассуждений – большой объѐм для
400-страничного исторического сочинения.
Отправной точкой для всей концепции книги является представление о единой Церкви
как непреложной истине. Главная проблема экклесиологии освящена следующим образом.
«Действующая ктаолическая церковь – это совокупность или конгрегация верующих,
охватывающая как праведников, так и неправедников»
624
. По мнению Бухингера, для
доказательства достаточно напомнить читателю евангельские притчи о поле с пшеницей и
плевелами (Мф 13:24-30) и о неводе (Мф 13: 47-48), а также отрывок сходного содержания из
Книги пророка Иеремии (Иер. 16:16-17), который на самом деле предсказывает не ловлю душ
человеческих, а преследования народа Израиля.
Зачем начинать историческое сочинение экклесиологическим рассуждением? Конечно,
формально это объясняется желанием чѐтко определить «объект исследования», прежде чем
переходить к его истории. За этим видится, однако, и нечто другое. По сути дела, перед нами
серьѐзная попытка выскользнуть из-под пресса мириады аргументов противной стороны (до
1559 года никто не представлял себе параметров грядущего сочинения центуриаторов, однако
было ясно, что речь пойдѐт о невиданной по объѐму книге). Экклесиология располагает иным
по сравнению с историей инструментарием, но с формальной точки зрения, основанной на
локальном методе, она имеет ряд преимуществ. Во-первых, еѐ тезисы вырабатываются
априорно, располагаются в иерархии на верхних еѐ ступенях и остаются практически
недоступными для аргументов из «истории человеков». Во-вторых, она – в восприятии
верующего читателя – может успешно противостоять исторической аргументации. Бухингер
упомянул многих идеологов и лидеров противной партии (помимо Лютера, также Осиандра,
Меланхтона, Сервета, а заодно Цвингли, Буцера, Швенкфельда, Бугенхагена, Буллингера и
624
Buchinger M. Op. cit. P. 1.
331
прочих). Флаций также был упомянут625. Все разногласия между протестантами имеют
особую ценность дял католического автора. Он собирает их, давая понять: в Единой Церкви
таким не место. Имплицитно также показывается: кто критикует, тот неправ.
В общем, если говорить лишь вкратце, Матиас Иллирик среди саксонцев в покойнике
Лютере разглядел одно, (Георг) Майор среди виттенбергцев в живом Лютере – другое;
третье – Осиандер среди пруссаков. В приморских городах инферианцы626 учат одному,
Сарцерий в Мансфельде – другому, отличному от того, чему в Швабии учит Брент. Другое
что-то говорит Ян Лаский во Фризии, и совсем другое – в Савойе Кальвин. И что является
более надменным, чем претендовать на собственное постижение всех тонкостей текстов
Писания против согласия всей древней Церкви? Я не думаю, что с самого сотворения мира
проявлялась большая наглость, чем та, которую обнаружили наши мечтатели-платоники,
которые почти все до одного обвиняют в бездействии и ошибках даже праведников всех
прошлых эпох. (…) Таким же образом даже ваши предтечи (гуситы, как пишет в «Истории
Чехии» Эней Сильвий) поделились на таборитов, адамитов, оребитов и сироток, тавно как
секта Лютера очеь быстро разделилась на цвинглианцев, анабаптистов, сакраментариев и
других не знаю кого627.
Самой постановкой проблемы Бухингер показывает: Церковь как институция и
структура первична, а еѐ история вторична. В частности, он стремится предвосхитить
претензии относительно церковной иерархии. Действительно, пишет он628, существует семь
категорий служителей церкви – пресвитеры, Диаконы, субдиаконы, аколиты (следуют за
епископами и носят их вещи), чтецы, экзорцисты, остиарии (кюстеры). Это деление
сопровождается рядом ссылок на св. Отцов. Без ссылок следует следующее казуистическое
рассуждение:
И остальной христианский люд (plebs Christiana) имеет свои степени. Первая – это
слушать Слово, понимать – вторая. Удерживать в памяти – третья, верить сердцем –
четвертая. Верить буквально – пятая, а выполнять предписанное строго и полностью –
шестая и последняя степень629.
625
Ibid. P. 16-18.
Так Бухингер называл протестантов Любека, Гамбурга и Бремена, отрицавшим сход Иисуса в Ад и
отождествлявшим Ад с погребением.
627
Buchinger M. Op. cit. P. 19-20.
628
Ibid. P. 23 и далее.
629
Ibid. P. 31.
626
332
Все люди делятся также на три категории - учащие в религии (клир, используется
именно это слово, с этимологией от греческого kleros и совершенно нейтральное),
защищающие (монархи – или топархи – и магистраты) и те, кто обеспечивает первые две.
Во всей книге понятие «Церковь» отождествляется с Римской церковью (Sacra Romana
Ecclesia), что неоднократно указывается как в оглавлении, так и непосредственно в тексте.
Другой просто нет; игнорируются не только лютеранские конфесии, но и Восточная церковь
во всех еѐ проявлениях.
В конце «экклесиологической» части (79-81) описывает суждения Гуса и Лютера
(между ними Бухингер видит прямую преемственность) в пользу церкви и против неѐ. В
частности, о Лютере он пишет:
Даже Лютер в нескольких своих книгах утверждал, что никому не дозволительно
противоречить римской Церкви или отделяться от нее (…). То же самое он совершенно
истинно утверждает в нескольких своих статьях, в комментарии о Послании Павла к
Галатам, в том месте (где-то в шестой главе), этими самыми словами. Совершенно
последовательно он говорит, что никакими извинениями нельзя защищать раздоры между
чехами и Римской Церковью, без того чтобы не впасть в нечестивость и не выступить
против всех законов Иисуса, ибо такое выступление было бы упорствованием против любви к
ближнему630.
Бухингер довольно мастерски вскрывал противоречия в стане противника или то, что
можно было как противоречие интерпретировать. Например, сопоставляя использование
Лютером общепринятой папской титулатуры и резкие высказывания Меланхтона против пап,
или уважительные высказывания в адрес св. Отцов, канонов и даже Декреталий. Отметим, что
перед нами – не отвлечѐнная богословская критика Лютера, а сочинение, претендующее на то,
чтобы быть историческим (вспомним название!). Этот ход был задуман как начало тонкого
плана, направленного на развенчание попыток центуриаторов обосновать их взгляды на
историческом материале.
Тем не менее, труд Бухингера оказал сравнительно незначительное воздействие на
межконфессиональный диспут, и Римской церкви потребовалось ещѐ несколько попыток,
чтобы перехватить в нѐм инициативу. В чѐм причина относительной неудачи Бухингера? На
наш взгляд, еѐ обусловила именно излишняя тонкость аргументации при уходе с поля
церковной истории stricto sensu. Центуриаторы сформулировали концепцию, основанную на
десятках тысяч фактов и единиц информации; они восприняли бы только критику такого же
630
Ibid. P. 79.
333
рода, основанную на других, новых фактах или на опровержении старых. Противопоставление
логик оказалось неэффективным инструментом, поскольку лютеране сформировали свою
систему аргументации в подготовительных сочинениях и в паратексте «Центурий» и не могли
допустить еѐ обсуждения. С самого начала выступления католической стороны против
«Центурий» и до появления «Церковных анналов» Барония наблюдается отсутствие
эффективного диалога – стороны говорят о разных вещах, причѐм каждая сохраняет верность
однажды выбранной линии. С точки зрения критериев «Центурий» книга написана очень
просто, бездоказательно, никаких документов не приводится. Действующие лица истории
оцениваются с точки зрения их принадлежности к католической церкви и отношения к
континуитету еѐ истории.
Собственно историческая часть книги Бухингера базируется на списке («Каталоге»)
римских понтификов631. Отождествление истории церкви с чередой пап (но не с историей
папства как института!) – второй важнейший элемент католической концепции с самого
начала полемики против «Центурий». В самом деле, если в «Магдебургских Центуриях»
делалась ставка на изучение папства в диахроническом аспекте, исследование как института,
то в сочинении Бухингера делается ставка на незыблемость церкви и на ценность и
самостоятельность папства как института.
Важная роль в формулировании собственного взгляда на церковную историю
принадлежит сюжету о браке духовенства632. Суть противостояния сводится к следующему:
если противники Рима утверждают, что нет ничего лучше добропорядочной супруги, то
католики отвечают, что целибат – средство борьбы не с браком, а с развратом клира: целибат
служит укреплению духа, борьбе с разлагающей тело похотью. «Сладострастие –
приятнейшее из злодеяний»633.
Рассуждения о Константиновом Даре помещены в раздел, посвящѐнный папе
Сильвестру I634. (с. 137-144). Они начинаются с традиционного постулата о том, что папы
владеют и управляют земным имуществом не в качестве викариев Христа (то есть
наместников бога на Земле), а как наследники императора Константина. Особенно
подчѐркивается присутствие среди согласных с этой логикой Марсилио Фичино. Лоренцо
Валла в целом не воспринимается как заслуживающий доверия персонаж, причѐм
аргументация неожиданна. Св. Амвросий, живший при Феодосии, сообщил о том, что
Константин действительно получил крещение в последние дни своей жизни. Лоренцо Валла
опровергал это много лет спустя. Поскольку между Константином и Феодосием было всего 5
631
Buchinger M. Op. cit. P. 92-308.
Ibid. P. 104-121.
633
Ibid. P. 118: „luxuria praedulce malum“.
634
Ibid. P. 137-144.
632
334
императоров, а между Константином и эпохой Валлы около 70, Бухингер склоняется больше
верить Амвросию. Эта уловка позволяет вообще не принимать во внимание аргументы Валлы;
подобное можно выдвинуть против любого автора, а значит, представляется вполне
возможным не оставить от концепции «Центурий» камня на камне, при этом полностью
избежав дискуссии по существу.
Следующим поворотным пунктом концепции представлено правление папы Григория
Великого635 (с. 172-180). При описании этого понтифика акценты аккуратно смещены на
новшества в титулатуре, которые, с одной стороны, подчѐркивают его личную скромность
(servus servorum Dei), а с другой, закрепляет его лидерство в христианском мире. Параллельно
всячески подчѐркивается его роль в установлении певческих канонов, новых норм
богослужения и т. п. Континуитет в Римской церкви остаѐтся одной из важнейших ценностей:
«церковные традиции следует соблюдать, поскольку они передаются нам от предков, и
сомневаться в этом значит впадать в высокомерное безумие». Занятно свидетельство
Бухингера о том, что «азиаты-Московиты перевели Св. Григория и других толкователей
Ветхого и Нового Заветов – Амвросия, Августина и Иеронима – на иллирийский язык и
хранят
их
с
почтением»636.
Это
известие
не
столько
характеризует
невысокую
осведомлѐнность в географии самого Бухингера, сколько иллюстрирует общее состояние
представлений о России в середине XVI века.
Бухингер в целом избегает цитирования документов. Тем более неожиданно встретить
здесь приводимый полностью документ – «Письмо Турки к властителю Родоса», относящийся
к конфликту 1523 года, но приведѐнный в разделе, посвящѐнном папе Мартину I637. Папа
Мартин заслуживает всяческих похвал Бухингера, поскольку именно при нѐм на территории
нынешнего Эльзаса было учреждено епископство Страсбургское, которое особенно дорого
автору. Он позволяет себе пространное отступление, в котором приводит – в полном
соответствии с установленной ещѐ Григорием Турским историографической традицией –
имена всех епископов от св. Аманда до современного событиям епископа Эразма
Лимбургского, 81 по счѐту. Другой пример вовлечѐнности в локальные сюжеты – описание
известного церковного деятеля Страсбурга, знаменитого проповедника доктора Иоанна
Гайлер фон Кайзерcберга (Ioannus Geylerus Caesaremontanus, с. 274-277).
На главу о Григории III (196-205) приходится отступление об иконопочитании с
обширным цитированием как Священного Писания, так и свидетельств Отцов о фактах
635
Ibid. P. 172-179.
“Et recentiores nostra tempestate (т. е. после 1545 года – времени действия предыдущего известия – ИА)
Moscovitae Asiatici S. Gregorium, et reliquos novi ac veteris instrumenti (SIC!) enarratores, puta Ambrosium,
Augustinum, Hieronymum, in linguam Illyricam traductos habent, religioseque custodiunt”. Buchinger M. Op. cit. P.
179. На полях примечание мелким шрифтом: «4 светоча нашей Церкви».
637
Ibid. P. 183-188.
636
335
поклонения иконам. Во всей истории папство выступает как основная движущая сила;
византийские императоры изредка упоминаются, но только в качестве контрагентов Рима,
отстаивающего доктринальную правоту. В этом и других подобных отступлениях, важных
автору с доктринальной точки зрения, Лютер изредка упоминается (каждый раз – не больше
чем по одному разу), но его тезисы никогда не представляются в качестве повода для
отступления, и тем более – в качестве триггера для полемики по тому или иному вопросу.
В главе, посвящѐнной папе Льву III, помещѐн рассказ о Карле Великом (209-211). Ему
дана
сугубо положительная характеристика, которая подчѐркнуто основывается на
политических свержениях и поведении, а не на религиозной политике, отношении к Церкви
или папству. Среди его достоинств – военные успехи, красивая внешность, любовь к
изучению «языков» (то есть studia classica), учреждение школ. Подчеркнута умеренность
Карла в еде и особенно питье (не больше трѐх стаканов за один приѐм пищи) – неожиданное
достоинство для императора! Понятно, что Карл характеризуется положительно не потому,
что что-то сделал для папства (ведь на основании Константинова Дара Бухингер доказывал,
что всѐ было сделано гораздо раньше), а потому, что прославляя его, официальный Рим
укрепляет свои связи с верховной светской властью, обосновывает желательность и
возможность союза с современными императорами. Такое отношение к Карлу важно
идеологически: подчеркивается также, что Рим особенно поддерживал этого императора.
Таким
образом,
в
исторической
концепции
закладывается
определѐнная
модель
взаимоотношений между папой и императором. Критика никакого папы принципиально
невозможна: Бухингер не знает ни одного неверного шага, совершѐнного понтификами.
Совершенно другие качества служат основанием для вынесения положительного
суждения об Эразме Роттердамском. Это суждение составлено в стиле, характерном для
ренессансной литературы.
Была в нѐм невероятная память, учѐность разнообразная и глубокая, замечательное
мастерство и количество выступлений, невыразимое изящество, поразительная весѐлость,
приятное разнообразие, исключительный блеск, значительная понятность, и многие были за
это благодарны. А что мне сказать о его усердии в разработке, постоянстве в упорном
труде, мудрости в суждениях? С самого детства он вплоть до заката жизни и последнего
вздоха никогда не отвлекался ни от своей библиотеки, ни от своих занятий, а в искусстве
устных выступлений не уступал никому из своих современников638.
638
Buchinger M. Op. cit. P. 269-270.
336
Для сравнения приведѐм характеристику Мартина Лютера, априори отрицательную.
Обратим внимание на изменившийся стиль; использование стилевого инструментария
выгодно отличает Бухингера от центуриаторов и свидетельствует не только о замечательной
образованности, но и о наличии развитого ренессансного вкуса. Недаром наиболее часто
используемыми источниками информации в этой книге являются сочинения Платины,
Сабеллико и Пико Делла Мирандолы.
«Таинство рукоположения он отрицал. Говорит, что все христиане – священники.
Верит, что тело Христово в Причастии стало хлебом. Отрицает таинство брака.
Убеждает, чтобы все отказались от любых обетов и избегали их.
Чистилище Лютер высмеивает. Бесстыдно утверждает, что справедливо грешить в
каждом добром деле. Учит также, что тот, кто верует в отпущение своих грехов, пусть
будет прощѐн, и долой всякую удручѐнность, а также что перспектива отпущения грехов
эффективна не потому, что грехи отпускаются (кому бы они ни отпускались, и не важно,
правильно ли он поступает или нет), а потому что в это верят. Что мальчишка или
женщина могут так же отпускать грехи, как и Папа. Высмеивает книги Маккавейские и
Послания Иакова. Глумится над особой святостью, сопровождающей любое таинство.
Запрещает Христианину защищаться от Турки. […] Итак, он приводит в беспорядок
Церковь Христову, претендуя на то, что в ней – только праведники. Осознанно игнорирует
Вселенские Соборы, как и многое другое помимо них639.
Так кратко и эффективно описаны тезисы, из которых, «как из ящика Пандоры»,
появилось 20 «ересей»640, некоторые из которых (швенкфельдцы, «антишвенкфельдцы» и
другие) явно не соответствуют общепринятым критериям ереси и выделены для
полемического эффекта.
Раздел о папе Николае II (229-233) стал поводом привести различные взгляды на
таинство причастия (на это время пришлось выступление Беренгария о пресуществлении).
Различные взгляды приводятся очень кратко, однако на с. 232 приведен список из 8
современных автору «цвинглианских сект», различающихся в мелких аспектах практики
осуществления или интерпретации св. причастия. Время от времени актуальное вторгается в
схему исторической реконструкции Бухингера, но почти не нарушает общего континуитета.
При таком подходе цельность концепции возможна только при условии жертвования
информативностью (иначе книгой, нагруженной информацией, вообще невозможно было бы
639
640
Buchinger M. Op. cit. P. 280.
Ibid. P. 280-282.
337
пользоваться). По этой же причине, невзирая на систематичность, «Церковная история»
Бухингера является неудовлетворительным справочником: информации в целом мало, а та,
что есть, прерывается различными отступлениями на актуальные темы. Сопровождение
рассказа датами, размещѐнными то здесь, то там на полях страниц, хотя и является важным
упорядочивающим фактором, однако лишь отчасти повышает удобство пользования книгой.
Последняя часть книги Бухингера (с. 295-388) представляла собой пространное
гуманистическое упражнение в риторике. Сначала он применяет различные стили, дабы
доказать, что подчинение Церкви папе – не идолопоклонничество, а проявление
преемственности
от
св.
Петра.
Почти
два
десятка
страниц
представляют
собой
незамысловатую компиляцию классических текстов, подогнанную под политическую
надобность. Бухингер отринул соображения уместности и чувство меры: среди цитируемых
текстов встречается даже совершенно неуместная в межконфессиональном споре «Илиада»
Гомера. Ряд цитат «украден» из классических текстов: любопытный пример мы обнаружили в
характеристике Томаса Мюнцера, практически скопированной с характеристики Катилины в
известном сочинении Саллюстия641. Повидимому, мишура из неуместных (и категорически не
принятых в церковно-исторической литературе) цитат была призвана адаптировать книгу под
потребности аудитории, ориентировавшейся на гуманистические вкусы, в то же время
прикрывая бедность аргументации. Наконец, несколько десятков страниц посвящены
описанию противной партии (316-383), причѐм этот раздел громко поименован «второй
частью настоящей книги», хотя ни композиционно, ни логически не может быть равноправен
«первой», так нигде не названной. В ней собраны все императоры- преследователи церкви
(«тираны»), и также все секты (включая фратичелли) – Vulpeculae vineae Dominicae
devastatrices (325). В списке из 137 «ересей» (326-341) под номером 128 числятся
«иллириканцы» - имеются в виду последователи Флация в теологических спорах642.
Венчает книгу обращение лично к Богу с молитвой о защите от идеологического
врага643. Оно свидетельствует, во-первых, о немалом и искреннем страхе перед близящимся
Концом света, во-вторых – о стремлении подстегнуть среди читателей панические настроения.
К сожалению, ещѐ крайне недостаточно изучена эмоциональная сторона этого конфликта,
641
Buchinger M. Op. cit. P. 339. “Is Thomas Monetarius, Lutheri grata soboles, audax animo, subdolus, varius, cuiuslibet
rei simulator, ac dissimulator, alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus, satis loquentiae (SIC), sapientiae
parum, et nimis alta semper cupiens“. Ср. Саллюстий, «О заговоре Катилины», 5: “Animus audax subdolus varius,
cuius rei libet simulator ac dissimulator, alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae, sapientiae
parum. Vastus animus immoderata incredibilia nimis alta semper cupiebat”.
642
О нѐм самом говорится лишь следующее: Mathias Flaccius (SIC) Illyricus, a quo Illyricani (quos P. Melanchton
ζξαζπδείινπο appellat) dicti. – «Матиас Флакций Иллирик, по имени которого названы иллириканцы, которых
Меланхтон определяет как «храбро-трусливые».
643
Buchinger M. Op. cit. P. 384-388.
338
настроения масс, страхи и другие сильные эмоции, захлестнувшие католический мир после
появления лютеранства.
Итак, мы видим, что Бухингер, блестяще образованный человек Ренессанса, не сумел
адекватно противостоять идеологическому натиску, выраженному в выходящих практически
одновременно «Центуриях». Эрудиция переполняла его, и, несмотря на целый ряд тонких
решений, с задачей он не справился. Прежде всего, его историческое сочинение не было
достаточно фундировано и не могло конкурировать с «Центуриями». Стремившийся найти
положительные аспекты в этом произведение Понтьен Польман отмечал то, что автор при
помощи последовательности пап стремился доказать непрерывную преемственность между
изначальной церковью и современным ему католицизмом, однако это было общим местом
всей католической идеологии и не содержало никаких новшеств644. Концепция не была
выстроена
строго,
даже
стройный
ряд
понтификов
прерывался
различного
рода
отступлениями, нарушившими логику исторической реконструкции. Наконец, превалирование
ярких, но неуместных эпитетов над аргументацией, отсутствие документов, избыток
эмоциональных оценок по одномерной шкале не позволили книге Бухингера стать
действенным ответом католической стороны на «Магдебургские Центурии».
Самое важное в этой книге с точки зрения эволюции историографии, на наш взгляд,
заключается в использовании эмоциональных эпитетов как инструмента. Типичное для
ренессансной историографии злоупотребление кальками из античной латинской литературы
превзошло все мыслимые пределы и обнаружило слабость собственно научного аппарата
ушедшей интеллектуальной эпохи. Использование знаменитых оборотов, самых ярких
фрагментов латинской риторики преследовало сразу несколько целей. Во-первых, это было
попыткой закрепить культурную преемственность по отношению к античности, «связать века»
друг с другом. Во-вторых, автор явно не решался конкурировать с Саллюстием или другими
славными римскими историками в искусстве витиеватых ярлыков, которые были ему
необходимы. Читающая публика оценивала подобные «заимствования» снисходительно и
даже придавала им определѐнное значение – Томас Мюнцер как руководитель вооружѐнного
восстания мог в классической древности быть сравним только с Катилиной, и отсюда
заимствование из Саллюстия. Эти витиеватые латинские ярлыки несли определѐнную, не
вполне
ещѐ
сегодня
осознанную
смысловую
нагрузку,
перенося
классическую
эмоциональность негативной оценки на современность, придавая страстям подобающую
масштабности проблемы почти эпическую форму. Тем не менее, отметим, во-первых,
единичность случая такого массового применения этого распространѐнного риторического
приѐма в рамках межконфессиональной полемики, а во-вторых, нежелание сторон вообще
644
Polman P. Op. cit. P. 503.
339
прибегать к слишком ярким эпитетам, не основанным к тому же на реальных аргументах.
Возможно, автор готовил свою книгу в атмосфере множащихся слухов о скором появлении
первой всеобъемлющей протестантской истории церкви; автор не знал точно, к чему ему
готовиться, и не смог получить никакой точной информации относительно метода и
содержания «Центурий». Подготовив заранее «литературную часть», Бухингер мог
столкнуться с необходимостью что-то противопоставить фактологической стороне первых
трѐх «Центурий», не справиться с задачей и оставить заранее подготовленный материал в
первоначальной форме. Можно также предположить, что выход книги Бухингера, совпавший
с появлением первых «Центурий», навредил католической стороне; на еѐ фоне вышедшие
вскоре четвѐртый и пятый тома выглядели особенно выигрышно.
Следующим заметным выступлением против исторической концепции «Центурий»
стали труды известного богослова К. Брауна. Конрад Браун (1491-1563645) был уже очень
старым человеком, когда взялся за церковную историю. К этому моменту он уже прославился
своей ученостью не только при Римской Курии, но и в университете Тюбингена, где успел
поработать; его жизнь прошла в написании книг, участии в диспутах и сеймах, церковноадминистративной деятельности. В 50-е годы ему уже приходилось заниматься историей, хотя
это слово уместно лишь с оговорками: основной темой ученых занятий Брауна были
прерогативы Св. Престола и связанные с ними юридические аспекты. В 1557 году в
Ингольштадте вышло его сочинение о судебных органах Империи646; возможно, именно оно
способствовало тому, что кардинал Отто Трухзес в 1560 году обратил на его автора внимание
и привлек его к борьбе против «Центурий».
Работа была организована с размахом, однако по времени значительно отставала от
«Центурий». Попытки ускорить дело вылились в созыв ряда совещаний и конференций, на
которых, помимо других насущных проблем Тридентинского Собора, обсуждались также
конкретные меры в области историографии. Особенно важной былао встреча в Инсбруке в
феврале-июне 1563 года647, на которой по нинциативе императора Фердинанда было
организовано настоящее совещание ведущих учѐных и богословов, посвящѐнное актуальной
ситуации в церковной историографии. Была предпринята попытка выработки совметсной
историко-церковной концепции, которая мыслилась как компромисс между точками зрения
отдельных историком на солидной доктринальной базе, не подлежащей сомнению. Браун, в
645
Paulus N. Dr. Konrad Braun. Ein katholischer Rechtsgelehrter des 16. Jahrhunderts. Historischer Jahrbuch, 14 (1893),
S. 517-549. [Canisius P.] De vita et scriptis clarissimi viri D. Conradi Bruni iurisconsulti. In: Adversus novam…
admonitio catholica. Dilingae, 1565.
646
(Braun K.) Annotata de personis Iudicij Camerae Imperialis, a primo illius exordio, usque ad annum Domini MDLVI.
Ingolstadt, Weißenhorn, 1557. 32 c.
647
О нем подробнее см. Kröss A. Kaiser Ferdinand I und seine Reformationsvorschläge auf dem Konzil von Trient bis
zum Schluss der Theologenkonferenz in Innsbruck (18.01.1562-5.06.1563). Zeitschrift für Theologie und Kirche, Bd. 13
(1903), S. 455-490, 621-651.
340
частности, подробно обсуждал свой материал с крупнейшим из историков-иезуитов Петром
Канизием. Закончить свой труд ему не удалось: Браун скончался через несколько дней после
окончания этой встречи; книга была опубликована первой из трудов участников встречи в
Инсбруке, но – лишь два года спустя, в 1565 году в Диллингене648; редакотором посмертной
публикации выступил Канизий.
Название книги, во-первых, обозначило направленность против концепции «Центурий»
в самом общем виде, во-вторых, обозначило еѐ своеобразный жанр. «Католическое
увещевание» априори не могло соперничать с «Центуриями» ни в охвате проблематики, ни в
аккуратности аргументации. Римская Церковь спешит, на подготовку фундированного труда
нет ни времени, ни сил. Стремление как можно быстрее заполнить идеологическую лакуну в
той или иной степени проявляется во всех католических публикациях до «Церковных
анналов» Барония; в текстах 60-х годов оно просто является лейтмотивом.
В целом критика Брауна представляется общей и довольно поверхностной; подробно
анализируется только паратекст первого тома «Центурий» - квинтэссенция лютеранской
методологии649. Книга явно приготовлена для массового и нетребовательного к содержанию
читателя. Об этом, в частности, свидетельствуют небольшой формат издания (при объѐме в
167 листов) и крупный шрифт.
В Предисловии Канизий всячески подчѐркивал авторитетность Брауна, перечисляя все
церковные мероприятия, в которых тот принимал участие. Особое внимание при этом было
уделено рейхстагам в Аугсбурге, Шпейере, Вормсе и Регенсбурге. Авторитет Брауна – один из
важнейших факторов полемики, имеющий значение, разумеется, только для читателейкатоликов. Перейдѐм к рассмотрению аргументации книги Брауна.
Начинается она с отвлечѐнных рассуждений о предмете церковной истории. Любая
гуманитарная дисциплина, как писал Браун, может быть изложена систематически («methodus
arti et doctrinae») и исторически («methodus historiae»). В первом важно движение от простого
к сложному – (например, в грамматике от букв к словам, затем к словосочетаниям и проч.).
Историческое описание основывается на принципиально иных представлениях и описывает те
или иные явления по мере их эволюции во времени. Браун, вслед за Аристотелем и его
средневековыми
толкователями,
разделяет
три
вида
истории
–
«божественную»,
«естественную» и «человеческую». Первая изложена полностью в «исторических книгах
648
(Braun K.) Adversus novam historiam ecclesiasticam, quam Mathias Illyricus (SIC) et eius collegae Magdeburgici per
centurias nuper ediderunt ne quisque illis malae fidei historicis novis fidat, admonitio Catholica. Authori Conrado Bruno
celeberrimo Iurisperito et Canonico Augustano, de cuius vita et scriptis libris quaedam initio adiiciuntur. Dilingae, 1565.
167 л. Айзенграйн (Eysengrein G. Catalogus testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxae matris ecclesiae
doctorum, extantium et non extantium, publicatorum et in Bibliothecis latentium. Dilingae, Sebald Mayer,1565. S. 201)
сообщал о выходе книги в 1561 году, но, очевидно, ошибся. Корни этой ошибки вскрыл Орелла-и-Унсуе (Orella y
Unzue J. Op. cit. P. 58).
649
Braun K. Adversus novam … P. D4 и далее.
341
Ветхого и Нового Завета», для второй идеалы – Плиний, Аристотель и Альберт Великий.
Человеческая бывает двух видов – церковная (священная) и мирская («собственно
человеческая»). «В церковной истории рассказываются церковные дела, такие, как истинные и
ложные религии, то есть дела, относящиеся к управлению Церкви. В мирской рассказываются
мирские дела, как частные, так и общественные: равным образом излагается и то, что
относится к управлению светского Государства»650. Тем самым Браун отметил, что в
«Центуриях» нет ясного понимания границ «церковной истории», и по этой причине
методология этой книги ущербна. Это замечание, безусловно, точно, однако читатель должен
добраться до него сквозь тернии схоластических выкладок.
В историческом методе Браун предлагает свой порядок. События, по его мнению,
следует описывать в строгом порядке: «кто, что сделал, где, когда, почему и из-за чего, с
помощью кого, в каком порядке, каков был результат»651. «Персона» должна была
описываться следующим образом: «в человеке учитывается пол мужской или женский, род и
семья, то есть предки благородные или неблагородные (nobiles, plebaei), воспитание, нравы,
ремесло и профессия – образованный, необразованный, например, оратор, философ, теолог,
юрист, рыцарь, навичок или ветеран, различные ремесленные коллегии, частная или
публичная должность, например, консул, император, герцог, сенатор, наконец, родина –
итальянец, галл, германец, испанец и т. д.». Каждая из категорий схоластически
«раскладывается» на составляющие (например, «время события» должно включать указания
на время года, ночь или день и проч.). Понятно, что ни одно из недавних исторических
произведений, будь то ренессансное сочинение, переложение древних авторов или историкобогословские труды, не соответствовало этому весьма оторванной от реальности модели. В
частности, Браун укорял Франка и Хедио за то, что они опускали все эти «необходимые»
детали и вследствие этого писали свои сочинения «недобросовестно» (mala fide)652. В то же
время Браун требует от современного историка безоговорочного доверия к предшественникам
и даже предлагает их список: в нѐм мы видим классиков (Евсевий, Сократ, Созомен,
Феодорит) и некоторых более поздних германских церковных и светских историков (Науклер,
Ламберт Монах и другие)653. Браун считал недостойным делом отмечать у предшественников
все мелкие неточности (stipulas) и неудобные для авторов суждения; в этом, впрочем, он видел
прямое влияние Лютера654. Поиск ошибок был недостойным приемом, если эти ошибки «не
искажали учения». Браун считал даже, что Священное Писание было трактовано
650
Braun K. Adversus novam … P. B1.
Persona, res, locus, tempus, causa et origo, auxilium, ordo, eventus etc. Ibid. P. B7.
652
Ibid. P. B9r.
653
Ibid. P. С1v.
654
Ibid. P. С2v.
651
342
центуриаторами тенденциозно, хотя от примеров воздержался. Защита древних или более
поздних авторов от обвинений со стороны центуриаторов строились по одному образцу:
приводились из живших более или менее в ту же эпоху авторов, авторитет которых
центуриаторами не опровергался. Например, правота Евсевия подтверждается цитатами из
Амвросия, которого центуриаторы не критиковали вместе с историками. Цитаты приводятся,
естественно, без точных отсылок.
В системе аргументации Брауна есть место и иронии. Например, он предлагает
альтернативное название для «Центурий», более соответствующее содержанию. Этот
парафраз выставляет то, что в «Центуриях» называется Истинной Церковью, «Синагогой
Сатаны» и всячески переиначивает каждое слово или понятие655.
Важно отметить, что Браун категорически воздерживается от самостоятельных
попыток исторической реконструкции. Критика исторических построений «Центурий»
проводится исключительно сквозь призму доверия или недоверия к другим историкам.
Представления о ценности источников, о самостоятельном поиске Брауну неведомы. Конечно,
Браун работал, имея в руках только первые 4 тома «Центурий», источники которых весьма
специфичны; кроме того, в I-IV века важнейшим источником, помимо Св. Писания, являются
сочинения церковных авторов и историков.
На этом пути Браун сделал несколько важных замечаний. Основное касается
несоответствия критериев, которые центуриаторы предъявляли к тем текстам, с которыми
работали. Они имели собственное представление о том, как описывать «церковную
Республику», и антиисторически распространяли его на авторов из давно минувших эпох.
Этот антиисторизм тоже тонко подмечен Брауном. Почему древние описывали прошлое или
современные им события не так, как этого хотелось бы центуриаторам? Они были неспособны
или просто не считали нужным так делать? Браун исходит из самоценности античной
историографии, из неприменимости к ней критериев, которые были бы уместны в другие
эпохи. Он приводит в пример Фукидида, Геродота, Павсания, Дионисия Галикарнасского,
Плутарха, а из римлян – Тита Ливия, Тацита, Евтропия, Луция Флора и других авторов, считая
их образцами историографии. Требовать от историков того, чего не встретить в сочинениях
этих великих писателей, - значит утратить связь с действительностью, выдвигать оторванные
от реальности требования656. Браун предлагает краткий обзор дохристианской античной
историографии,
центуриаторов.
655
656
Ibid. P. D3.
См. Ibid. P. F6.
считая
пренебрежение
еѐ
достижениями
крупнейшим
упущением
343
Соображения такого плана были заметным шагом вперѐд по сравнению с
аргументацией предшествующей историко-церковной литературы католической стороны и не
только. «Магдебургские центурии» дали толчок развитию дискуссии об историографии и
методологии истории, о месте источников и исторических сочинений в познании прошлого; в
более поздних сочинениях на качественно новом уровне будут поставлены вопросы о
критериях истории как науки. Ни одна из параллельно развивающихся ветвей историографии
во второй половине XVI века была неспособна сформулировать столь сложные теоретические
вопросы
и
дать
на
них
профессионально
обоснованные
ответы.
Очевидно,
межконфессиональный диспут стал важнейшим событием в эволюции истории как отрасли
знаний в XVI веке.
Несмотря на широкое апеллирование к классической историографии, автор прибегает и
к хорошо знакомым ему юридическим способам аргументации. Одним из важнейших пунктов
критики Римской церкви в «Магдебургских центуриях» был сам принцип организации
Церкви, еѐ подчинения одному человеку, претензии этого человека – Папы – на главенство
как в Церкви, так и в политической жизни всех христианских стран. Браун не может
выдвинуть исторические аргументы для защиты своей точки зрения, поскольку для этого он
должен как минимум не уступать центуриаторам в эрудиции, в обильности источников; кроме
того, тезисы «Центурий» при данном подборе источников выглядели вполне убедительными,
и для того, чтобы их опровергать, требовался новаторский подход и колоссальный черновой
труд. Браун идет другим путем. Вот как он обосновывает, например, необходимость и
естественность появления Папства, церковной иерархии и различных структур. Отправной
точкой для его рассуждений является смена форм политического правления в Древнем Риме.
Первой формой существования государства была царская и монархическая, вторая –
аристократическая,
третья
–
смешанная,
отчести
аристократическая,
отчасти
монархическая. Четвертая – чисто монархическая. Эти формы управления государством
были введены в Римскую империю в различные времена царями, консулами, сенатом и
плебейскими магистратами, а также императорами с согласия римского народа. […] И уже
после
Вознесения
воспользовалась
Иисуса
на
смешанным
небеса
способом
святая
католическая
управления
церковной
апостольская
Церковь
Республикой,
частью
Монархической, частью Аристократической. Ибо по наставлению Христову апостол Петр и
его
преемники
Римские
Понтифики
были
вселенскими
Монархами
Церкви,
что
подтверждается не только Словом Христовым, но и свидетельствами всем старых
историков и Отцов, и управляли всемирной Церковью, ведомые Св. Духом и совещаясь со
священнейшим сенатом – коллегией кардиналов и Святейшими Соборами; они основали
344
Христианскую Республику при помощи божественных и человеческих законов и защитили еѐ
от различных нападений врагов Церкви и католической религии, сами выступая против них
подобно крепчайшей стене657.
Такая аргументация при минимуме отсылок к историческим реалиям является
формально безупречной и заодно лишает «Центурии» убедительности их логических
построений. Подобная, характерная для юридических сочинений аргументативная система
имела, впрочем, свои пределы: наиболее эффективно она могла убедить юристов-каноников,
ставящих абстрактную логику права выше исторических реалий. Эта система была гораздо
менее действенной при убеждении сомневающихся, людей светской культуры, любителей
исторических сочинений. Одним словом, Курии требовалось и другое идеологическое оружие.
В сочинении Брауна содержится также множество претензий меньшего масштаба.
Например, центуриаторы напрасно предъявляли одинаковые требования в авторам,
работавшим в одну эпоху. «Весь одни и те же дела, происходившие в одно время, по-разному
опишут германец, галл, католик, лютеранин и еретик. Хотя и является главным законом и
правилом истории, что деяния следует описывать правдиво, всѐ же часто случается, что
происходившее одновременно описывается историками, живущими в одно и то же время, поразному, с различиями и даже совершенно противоположным образом»658. Важным является
также упрек в том, что даже не все последователи Лютера разделяют точку зрения
центуриаторов: например, в Виттенберге есть довольно много несогласных 659. Конечно,
Флацию было очень обидно узнать об этом упреке, напоминающем ему о разрыве с
Меланхтоном, однако это не главное. Главное заключается в том, что в глазах правоверных
католиков единство Церкви являлось одной из фундаментальных ценностей, на которую
посягнул Лютер и которую подрывает образование любой новой христианской конфессии.
Отсутствие единства в стане врага – это месть врагу от лица высшей справедливости, залог его
слабости, повод преисполниться уверенности в торжестве собственной правды. Констатация
отсутствия единства в лагере противника – важный эмоциональный аргумент, эффективность
которого в условиях острой идеологической полемики не уступает научным. Браун доходит до
того, что едко иронизирует на тему «лютеранской и иллириканской церкви» (N5v), а также
детально формулирует, что о последней сказали бы Иисус (O3v), Апостолы (O6r), Папы, Отцы
и Учители (P3), Пророки (Q3), Св. мученики (Q4v), монахи (Q5v), и, наконец, суммарно –
Святая католическая Церковь (Q6v и далее). В этой части книги содержатся многочисленные
657
Ibid. P. G1r и далее.
658
Ibid. P. H5v.
Ibid. P. М4.
659
345
повторения, возможно, служащие для увеличения объема книги – другого важного элемента
эмоционального воздействия.
Первые выступления католического лагеря привлекли к себе внимание протестантского
лагеря, и Флаций считал вполне уместным лично выступать в защиту концепции
«Магдебургских центурий». Был подготовлен целый ряд полемических сочинений. Поначалу
Флаций не считал необходимым прибегать к дополнительным материалам исторического
характера и стремился ограничиться для обоснования своей позицииаргументами,
разбросанными по страницам «Центурий». Своего рода квинтэссенцией богословской
полемики с протестантской стороны стало сочинение «О сектах, противоречиях и путанице в
учении и религии папских писателей и учителей»660, ставшее самой крупной работой такого
рода, вышедшей из-под пера Флация Иллирика. В нѐм привлечѐн богатый исторический
материал, расположенный таким образом, чтобы наиболее наглядно представить отмеченную
в «Центуриях» нелогичность католического учения и несоответствие политики римской
церкви «истинному христианству» в понимании гнесиолютеран. Объѐмная книга содержит
множество локусов, взятых из «Центурий» или подготовленных для будущих томов (книга
вышла в свет после публикации 8 тома). Тем не менее, ценность этого сочинения как
источника для нашего исследования снижена: оно направлено не на то, чтобы выстроить
накопленные факты сообразно определѐнному плану и не на то, чтобы дать им новую
интерпретацию, а на убеждение сомневающихся и увещевание противников. Исторической
концепции не прослеживается, как не прослеживается какой бы то ни было динамики или
даже просто диахронного изложения. Книгу интересно читать, поскольку она написана с
изрядным мастерством. Основные постулаты лютеранского богословия изложены в ней в
качестве противоречий с католицизмом; известный уже в рамках данной полемики приѐм
доведѐн в книге до больших полемических высот. И всѐ же книга написана за пределами
историографии, хотя к межконфессиональной полемике имеет определѐнное отношение.
Изложенные в новом порядке данные, почти полностью основанные на «Центуриях»
Гораздо более показательно другое сочинение Флация, вышедшее вскоре после этого –
«Опровержение инвективы Брауна против «Центурий»»661. Публикация состоит из нескольких
частей. Наряду с собственными работами, Флаций опубликовал в ней некоторые
малоизвестные тексты других авторов, подтверждающие дополнительными аргументами
660
(Flacius M.) De sectis, dissensionibus, contradictionibus et confusionibus doctrinae, religionis, scriptorum et doctorum
Pontificiorum liber. Basileae, 1565. 344 c.
661
(Flacius M.) Refutatio invectivae Bruni contra Centurias Historiae Ecclesiasticae: in qua simul recitantur amplius 100
Historica, maximique momenti Papistarum mendacia: Authore Matthia Flacio Illyrico. Accesserunt et alii Libelli
diversorum Scriptorum, tum ed confirmationem illarum narrationum, tum alioqui ad praesens institutum cumprimis
facientes. Basileae, Oporinus, 1566. 280 c.
346
тезисы, против которых была направлена основная критика Брауна. Так, мы встречаем
«Доказательства Ульриха Веланского, убеждающие в том, что первенство Римского папы
является вымыслом, а Петр никогда не приезжал в Рим и не принимал в нѐм мученической
смерти», некоторые богослужебные тексты, 3 ранее не опубликованных письма Беата Ренана.
Особняком стоит речь Карла Молины «Об ужасном преображении Церкви и еѐ устройства, с
помощью которого Папа своими Декреталиями взнес себя ввысь и осмелился попрать ногами
императоров, королей и самого Иисуса, а также получить для своих ног поцелуи даже самых
великих Монархов». Эта речь выбивается из полемики своими жанровыми особенностями.
Молина, следуя ренессансным канонам, обильно украсил свою речь живописными
ораторскими тропами, цитировал Демосфена и Цицерона, причѐм явно для того, чтобы
продемонстрировать
свою
образованность
и
великолепную
латынь.
Этот
текст
–
единственный пример такого рода во всей межконфессиональной полемике.
Что же касается собственных текстов Флация, то в данной публикации их несколько. В
главном из них, «Опровержении Брауна»662, он, в частности, писал:
Галлы пишут о галльских делах, италийцы – об итальянских, испанцы – об испанских,
германцы – о германских, британцы – о британских, и другие – о всяких других народах. И
думает автор сочинения, что он снискает большие деньги, если он будет этот народ
всячески превозносить, как только сможет. Его глаз будет обращѐн не на поиск истины, а к
славе его нации; и смысл писать историю будет заключаться в том, чтобы провозгласить,
расширить, изукрасить, возвысить всѐ, что данный народ сделал великого. То же, что есть
безобразного или постыдного, покрыть, убрать, ослабить, оправдать, простить. И глупцы
не понимают, что это значит не писать историю, а защищать интересы данного народа;
что пристало защитнику (patroni), а не историку. При описании деяний святых (sanctorum)
забота об истине должна быть не большей – она при описании всех вещей должна была
быть строгой и абсолютной. Каждый, кто описывал их деяния, был поражен этим злом,
будто не истина, а чувства диктовали им историю. Насколько возмутительна для глубоко
верующих и для простых христиан история святых (sanctorum historia), называемая
«Золотой Легендой»? Я не знаю, за что еѐ называют Золотой, ибо писана она человеком
железных уст и свинцового сердца. Что можно сказать постыднее того, что говорится в
этой книге? О, какой позор для нас Христиан, что мы не доверяемся деяниям наших святых
(divorum), изложенных гораздо более правдиво и аккуратно.663
662
663
Ibid. P. 9 и далее.
Ibid. P. 16-17. В последнем предложении имеются в виду «Деяния Свв. Апостолов».
347
Флаций видит недостатки любой национальной истории и отвергает упрѐки Брауна в
том, что не ограничился каким-либо государством, в соответствии со своей национальностью.
Более того, это выступление Флация – это протест против популярности национальных
историй, написанных ренессансными историками по заказу своих государей.
В ответ на сарказм Конрада Брауна Флаций предлагает собственный. В данном издании
он проявляется в подготовке коллекции «ложных утверждений папистов», собранных в
«первую центурию»664. Совершенно издевательским становится тон в «Дружеском,
смиренном и благоговейном увещевании М. Флация Иллирика к святому народу, священству
царственного Антихриста, о необходимости исправить канон Мессы». Серьезные, эрудитские
по жанру выступления Флация собраны в заключительной части публикации. Так, он написал
«Историю борьбы между Римскими епископами и VI Карфагенским Собором и африканскими
церквами вокруг Первенства Папы»665. В отличие от нападок Брауна, ответ Флация целиком
основывался на аутентичных документах, что постоянно подчѐркивалось. Важный перелом в
судьбе исторического знания в целом произошѐл не в «Центуриях», а в этой небольшой
работе: никакие моральные императивы, политические или конфессиональные интересы не
могут противостоять исторической истине, выраженной на основе подлинных, правильно
подобранных и тщательно проанализированных документов. Исходя из подобной логики,
написан и трактат «Против воображаемого Первенства Папы»666, обобщающий сказанное
выше и придающее ему несколько больший временной и проблемный охват. Особняком стоит
завершающая публикацию статья Нила Кавасилы, переведенная Флацием с греческого языка
самостоятельно667. Этот текст, написанный греческим церковным автором XIV века, был
выбран Флацием за его простую структуру, конкретность и ясность аргументации.
Образованная в этом тексте картина не оставляет никаких сомнений в неправедности
Первенства Папы и не случайно помещена в конец публикации.
Подводя итог этой полемике, стоит отметить, что взятая в ней тональность, резкость
Брауна и особенно ответов Флация не оставила сторонам никаких надежд на компромисс или
даже на простое сближение позиций. Как было однажды отмечено668, Браун не принял
локальный метод, сделав выбор в пользу традиционной линейной экспозиции. Его
богословские аргументы столкнулись с чѐтким историзированием; Браун стремился быть
логичным и хотел выйти за пределы поля истории, Флаций, напротив, парировал с блеском и
был уверен в своей победе именно в рамках историко-церковной полемики. В предисловии
664
Ibid. P. 18 и далее
Ibid. P. 201-243.
666
Ibid. P. 243-262.
667
Nili Thessalonicensis Archiepiscopi Libellus de Primatu Papae, a Matthia Flacio Illyrico versus. Ibid. P. 263-280.
668
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 68.
665
348
Флаций говорил, что этот его ответ носит сиюминутный характер, а более фундированный
ответ будет позже подготовлен «братом в Господе Иоганном Вигандом»669. Этого не
потребовалось, так как Флаций был и без того достаточно убедителен.
Следом за Брауном в дискуссию с католической стороны вступил уроженец Шпейера,
студент Вильгельм Айзенграйн (1544 ? - 1570). С 1557 года он обучался философии в
Гейдельберге, затем в Кѐльне, наконец, в 1562-67 гг. изучал право в известном католическом
университете в Ингольштадте670. Молодой человек занялся историей почти случайно. Его дядя
Мартин, известный университетский профессор в Ингольштадте, способствовал научной
карьере юноши, ориентировав его на изучение истории. В 1564 году молодой человек
подготовил первую работу, посвящѐнную истории родного города671. С точки зрения
методологии она выглядела устаревшей: по научному уровню и стилю изложения она вполне
сравнима с книгами, изданными Эгенольфом три с лишним десятилетия ранее. Единственной
любопытной деталью было деление труда на 16 «книг», каждая из которых была посвящена
отдельному столетию. Очевидно, после выхода первых томов «Магдебургских центурий» эта
идея если не становилась общим местом, то широко принималась во внимание.
Ещѐ в 1559 году молодой человек занялся подготовкой своего выступления против
Флация. Первоначальной идеей было подготовить достойный противовес «Каталогу
свидетелей истины», ставшему очень популярной книгой, причѐм как среди ученых людей,
так и в более широких кругах читателей. Об этом Айзенграйн скажет в предисловии своей
новой книги672, работу над которой срочно пришлось завершать в связи с выходом нового
объекта для критики – первых томов «Магдебургских центурий». Выступление против
флацианского «Каталога» оказалось довольно бесцветным, поскольку внимание автора уже
переключилось на новый проект – опровержение флацианской концепции в целом. Несмотря
на название, «Каталог» Айзенграйна не содержал связной концепции и не опирался на идею
последовательности церковных авторов или их произведений: апологетическое сочинение
было востребовано в католическом мире, однако большого успеха не имело. Горькой
669
Flacius, Refutatio … P. 15.
Pfleger L. Wilhelm Eisengrein, ein Gegner des Flacius Illyricus. In: Historisches Jahrbuch 25 (1904), S. 774-792.
671
(Eysengrein W.) Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque Urbis Spirae ab a. Christi primo ad a. 1563 libri
XVI. Dilingae, 1564. 298 л.
672
[Eisengrein W.] Catalogus testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxae Matris Ecclesiae doctorum,
extantium et non extantium, publicatorum et Bibliothecis latentium, qui adulterina Ecclesiae domata, impuram,
imprudentem, et impiam haeresum vaniloquentiam, in hunc usque diem firmissimis demonstrationum rationibus
impignarunt, variaque scriptorum monumenta reliquerunt, seriem complectens. Gulielmo Eysengrein de Nemeto Spirensi
authore. Dillingae, Seb. Mayer, 1565. Испанский историк Орелья-и-Унсуэ во многом основывает свою
реконструкцию процесса борьбы Курии против лютеранских историков, не замечая, как часто он сам опровергает
содержащиеся у Айзенграйна неточности и даже указания на сочинения авторов-католиков, нигде более не
упоминавшиеся и не встречающиеся в библиотеках. Одним словом, количество неточностей и напрямую
фальшивых указаний в этой книге Айзенграйна намного превышает допустимые значения и не позволяет нам
отнестись к сообщаемым в ней сведениям серьѐзно.
670
349
насмешкой можно считать награду в семь гульденов, выданную автору герцогом Альбертом
Баварским673.
Стремясь не выйти за пределы актуальности, Айзенграйн в спешке подготовил
следующую крупную публикацию, вышедшую в следующем, 1566 году (второй том – в 68м)674. Труд, задуманный как опровержение «Центурий», был организован в виде строгой
схемы наподобие использованной в структуре томов самих «Магдебургских центурий». Свой
труд он также разбил по столетиям (названным Centenarii, очевидно, для того, чтобы избежать
контаминации с «Центуриями») и прямо в заголовке обозначил, против кого эта книга
направлена: так складывался механизм «баталии книг».
Как и Браун (Канизий), Айзенграйн первым делом сообщает о поддержке издания
Курией, что, как мы увидим позже, отнюдь не было решѐнным делом. Книга направлена
против конкретного противника, что подчѐркивается прямо в заглавии, Посвятительном
письме и предпосланном сочинению Письме к Флацию (разумеется, предназначенном для
ознакомления всех читателей). Судя по заголовку и некоторым указаниям в тексте, автор
планировал
выпуск
всех
16
«центенарий»,
чтобы
каждому
тому
«Центурий»
противопоставить свой. Автор подготовил всего 2 тома.
Как и в случае с «Центуриями», паратекст способен рассказать об этой книге очень
многое. Она была издана, как бы мы сказали сегодня, «в бюджетном варианте», то есть на
дешѐвой бумаге, без изысков в оформлении, в упрощѐнном переплѐте. Всѐ это делает издание
дешѐвым (существенно более дешѐвым по сравнению даже с «Центуриями», издатели
которых были вынуждены экономить буквально на всѐм, и бесконечно более дешѐвым по
сравнению с более поздними «Анналами» Барония). Шрифт еѐ довольно крупный, текст
оформлен таким образом, чтобы в нѐм было легко ориентироваться неискушѐнному читателю.
Посвящение книги вполне предсказуемо адресовано «блаженнейшему отцу и господину
нашему папе Пию V» (набрано самым крупным шрифтом). «Максимилиану II Цезарю
Августу, королю Венгрии и Богемии, эрцгерцогу Австрии и т. д.» (шрифт помельче),
«Князьям-курфюрстам Даниелю, священного Майнца архиепископу, Святой Римской Церкви
архиканцлеру для Германии и проч, Фридриха архиепископу Кѐльнскому, архиканцлеру С. Р.
Ц. по Италии, герцогу Ангрии и Вестфалии и проч», «Иоанну архиепископу Трирскому,
673
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 72.
Guilielmi Eysengreinei de Nemeto Spirensis. Centenarii XVI. Continentes Descriptionem Rerum memorabilium, in
Orthodoxa et Apostolica CHRISTI Ecclesia gestarum, Pontifices Romanos, Concilia, Conuersiones Regionum,
Religiones, Vitas Sanctorum, Miracula, Martyria, Scriptores, Tribulationes et Exaltationes Ecclesiarum, Haereses atque
Schismata: cum diligenti annotatione eorum, quae contra veram, Catholicam, Christianam et antiquiorem, con maxima
laude traditam receptamque religionis assertionem, infideliter plane conscribi depraehenduntur, ut Veritatis obiecto
Clypeo, falsitas scripto notetur. Adversus novam Historiam Ecclesiasticam, quam Matthias Flacius Illyricus, et eius
Collegae Magdenburgici, contra Verum DEI cultum, uerasque Ecclesiae Catholicae Caeremonias, scriptis
Vetustissimorum Historicorum deprauatis et corruptis, nuper aediderunt. Ingolstadii/Monachii, 1566-1568.
674
350
архиканцлеру С. Р. Ц. по Галлиям и королевству Арелат» (им достался шрифт ещѐ мельче,
несмотря на высокое положение как в церковной, так и в светской иерархии), и ещѐ
нескольким господам, лишь один из которых является епископом и один – аристократом.
Разумеется, последние указаны самым мелким шрифтом. Так вѐрстка первой страницы
выступает средством идеологической борьбы и расстановки необходимых акцентов.
Посвятительное
письмо
автор
начал
с
констатации
крайней
несчастливости
наступивших времѐн для всех добропорядочных христиан. В какой ещѐ век было столько
монстров? В какое время виноградник Божий был так разорѐн? Отчаянные экскламации
сопровождаются
многочисленными
аллюзиями
на
библейские
реалии,
снабжѐнные
аккуратными ссылками. Степень экзальтированности кажется сегодня утрированной до
забавного, хотя на самом деле это, конечно, не так. Смех смехом, а автор соблюдает все
приѐмы античного ораторского искусства, обильно украшает ими свою речь, выставляет их
напоказ и не соблюдает лишь один из этих приѐмов – чувство меры в их применении. Череда
риторических вопросов сменяется картинами полного отчаяния и безнадѐжности; далее снова
следуют вопросы, а потом – снова картины. Айзеграйн приглашает авторов пролистать
«анналы» (исторические сочинения), чтобы убедиться, что ни в какую другую эпоху
«кораблику Петрову» не жилось хуже, и ни в какое другое время защитников у неѐ не было
так мало. В последнем утверждении, повторяющемся рефреном во многих местах
произведения, мы видим и стремление подчеркнуть собственную важную роль в отстаивании
великого идеала единой Матери-Церкви.
Этот «плач Иеремии» рисует апокалиптическую картину для того же, для чего у
первого тома столько объектов для посвящения: автор крайне заинтересован в том, чтобы его
издание получило статус официального от Курии. Статус позволил бы получить от Рима
помощь в подготовке и издании последующих томов. Сам факт того, что автор был вынужден
остановиться после второго тома, указывает: своей цели он не добился.
Письмо автора «противнику католической церкви» Флацию Иллирику состояло сплошь
из обвинений: в том, что тот оскорбил весь мир верующих людей, что запутывает тех, кто ему
верит, что искажает авторитет церкви и текста писания. Это страшные злодеяния, хотя и не
новые в церковной истории. Такое уже было! Этот момент прекрасно иллюстрирует
первоначальное
отношение
католической
церкви
к
«лютеранской
чуме»,
транспонировавшееся и на лютеранскую историографию: несмотря на сложность ситуации,
ничего непоправимого не происходит. Среди прочих обвинений мы встречаем и косвенную
констатацию успеха «Центурий» среди сомневающихся. Оно заключается в строках о том, что
Флаций мастерски пользуется наивностью несведущих (nescientes): они внимают только тому,
что видят, а о том, чего не видят, не думают.
351
О лютеранстве, как и о прочих ересях, Айзенграйн обещал говорить не в историческом
плане, а систематически, в соответствии с тем, какой конкретный ущерб они нанесли
«здоровому Церковному Учению». В то же время Айзенграйн обвиняет Флация в том, что
изложение в «Центуриях» следовало иному принципу. Из-за этого, считает Айзенграйн,
многие тезисы «Центурий» (особенно те, что несут полемическую нагрузку) повторяются в
разных местах книги, порядок изложения не соблюдается, а рассказ о событиях (narration)
часто подменяется оценочным суждением (iudicium). Айзенграйн считал, что фактология
«Центурий» недостаточна. Хотя он сам на страницах своего сочинения не формулировал
качественно нового отношения к фактам, их описанию и датировке, претензия его была
понятной и востребованной. Вероятнее всего, она тоже обсуждалась на совещании в
Иннсбруке: очень оторванной от практики, и в то же время верной по существу,
представляется нам эта претензия. Более того, она носит общий для всей католической
историографии 1560-88 годов характер, повторяется с большей или меньшей степенью
акцентированности во всех произведениях. «Преступления Римских понтификов, если они и
были, преувеличиваются: сделанное хорошо и честно игнорируется. Вера и авторитет древних
историков подвержаются обвинениям в невежественности и ошибках». «Решения святых
Соборов и законные распоряжения и постановления Католической Церкви отвергаются.
Сочинения Святых Отцов пересказываются превратно и в искаженном виде. Наконец (О,
горе!), обилие святых, подвиги мучеников, заслуги и чудеса, действенность которых
подтверждается даже даже демонами, осуждаются едва ли не как выдуманные и ошибочные».
Самое интересное в книге Айзенграйна с точки зрения историографии – это метод.
Айзенграйн изобретает собственную версию локального метода, альтернативную методу
«Центурий». 224 листа первого тома разбиты (теоретически – на равных условиях) на 8х8=64
главки. Каждая главка – это особая тема, аспект общей большой темы. Обратим внимание, что
его книга не называется ни «историей», ни «анналами», то есть по названию не претендует на
всеохватность и систематичность: заявленное «описание достопамятных дел», помимо
прочего, выглядит привлекательно для массового читателя, вызывая ассоциации с целым
рядом известных текстов ренессансной историографии. Более точно жанр этого произведения
можно определить как confutatio – «опровержение», стремление смешать аргументацию
противника, сделать еѐ беспорядочной и бессмысленной. С этой целью Айзенграйн пытается
опровергнуть «Центурии» не противопоставлением альтернативной общей концепции (что
будет сделано, по большому счѐту, только Баронием) и, наоборот, не критикой отдельных
локусов, а новой систематизацией и противопоставлением своих глав отдельным главам
«Центурий» с соответствующей группировкой обвинений.
352
С методологической точки зрения интересно то, что этот автор, так же, как и его
противники, делит историю на «вертикальные» составляющие, которые – внутри одного Века
– формируют содержание исторического процесса: он фактически перенял локальный метод,
сильно его упростив. Эта книга не содержит на обложке названия «История Церкви», чтобы
не вызывать у читателя ненужных ассоциаций и не лить воду на мельницу тех, против кого,
собственно, книга направлена. Тем не менее, автору показалось необходимым предпослать
своей работе схему, роль которой для читателя сходна с ролью знаменитого «Методона»
центуриаторов. Более того, преемственность также очевидна. Эйзенгрейн не мог не оценить
абсолютного новшества центуриаторов и, значительно упростив посвящѐнный «методу»
раздел и сократив до нескольких строчек, подхватил идею. Итак, церковная история делится
на несколько «частей», понимаемых в двояком смысле. Деление это крайне несовершенно,
слово partes употребляется дважды в двух противоположных друг другу смыслах. Тем не
менее, вычленение вневременных факторов истории представляет большой интерес.
В первой классификации Partes Historiae Ecclesiasticae всего восемь. Это элементы
церковной жизни, понимаемой как однонаправленное движение от Иисуса Христа к
сегодняшней римской католической церкви. Ответвления, борьба за уточнение или изменение
доктрины – это «ереси», которые также находят своѐ отражение в общей «истории церкви» в
качестве таковых. Восемь partes – это папы и другие высшие иерархи Церкви, Соборы,
«хранители религии и монашеской философии», обращение регионов в Христову веру, Жития,
чудеса и мученичество святых, церковные писатели и школы, «преследования и восхваления»
церквей (Persecutiones et Exaltationes Ecclesiarum), ереси и расколы 675. Внутри каждой из partes
имеются восемь разделов (distinctiones), соответствующие географическому разделению
церкви. С точки зрения исторической в этом, конечно, ещѐ меньше смысла, чем в предыдущей
классификации: церковное единство во взаимоотношениях между этими регионами было
нарушено очень рано, что, во-первых, нелогично, а во-вторых, крайне затрудняет и чтение
книги, и эвентуальное пользование ею в качестве справочника. Тем не менее, эта
классификация призвана символизировать претензию Айзенграйна на всеохватность
материала в мировом масштабе. Эти восемь distinctiones подразделяют мировую церковь на
«римскую и италийскую», германскую, «галльскую», испанскую, греческую, африканскую и
675
I. Summi Pontifices et Ecclesiarum Episcopi.
II. Sacrae Synodi.
III. Religiones et Monasticae Philosophiae cultores.
IIII. Conuersiones regionum ad fidem Christianam.
V. Vitae, Miracula atque Martyria Sanctorum.
VI. Scriptores et Scholae Ecclesiasticae.
VII. Persecutiones et Exaltationes Ecclesiarum
VIII. Haereses atque Schismata.
353
египетскую, Сирийскую и азиатскую, «островную»676. Мы сегодня понимаем, что эта
классификация имеет смысл и вообще может быть соблюдена только в том случае, если
исследование и издание не пойдѐт дальше отдаления церквей друг от друга и раскола между
ними. В самом деле, если бы автору пришлось столкнуться, скажем, с церковной политикой
византийских императоров, распространявшейся на территории нескольких церквей, или с
углублявшимся разъединительным процессом между восточными церквями и римской, он
оказался бы в большом затруднении: выдержать структурное единство, гомогенность
повествования в таких условиях способен лишь особенно ловкий автор при нарушении самых
основополагающих композиционных канонов. Нет сомнения, что отказ от этого метода в
последующих великих исторических трудах католической стороны – «Церковных анналах»
Барония и болландистских «Житий Святых» - был вызван практической непригодностью его
для целей «усложнившейся» к концу XVI и началу XVII века истории христианской Церкви в
целом. Что же касается Айзенграйна, не исключено, что он перенял принцип классификации
материала и экспозиции для того, чтобы облегчить себе ведение спора и чтобы выглядеть
скрупулезнее и убедительнее. Иными словами, он неосознанно стремился поддержать процесс
складывания правил научной полемики, формированию понятийного аппарата дискуссии.
Сочинение Айзенграйна стало провальным из-за того, что, следуя провозглашѐнному
методу, автор заполнял его формально, совершенно не озаботившись тематической связью
между разными разделами и даже между локусами внутри каждого отдельного раздела.
Работу невозможно читать как единый текст; при этом Айзенграйн (как и Браун, к слову) не
воспользовался ни одним новым источником, а черпал локусы для своего сочинения, главным
образом, из трудов Отцов и Учителей Церкви. В качестве примера можно процитировать
самый первый раздел первой части, являющийся довольно связным на фоне большинства
других отрывком текста. При том, что в заголовке его значится «О предстоятелях Церкви
(summis pontificibus) и остальных епископах в Италии», текст на 96% объѐма (49 листов из 51)
состоит из перечисления апеллативов Иисуса Христа. Подобные страницы напоминают
разделы De Deo из четвертых глав «Центурий», но если там они растворяются среди
огромного массива текста и служат для того, чтобы проследить тенденции на временном
отрезке
большой
протяжѐнности,
то
у Айзенграйна
это
перечисление
становится
сомнительной «вещью в себе». Мы узнаѐм, в частности, что Иисуса называли и «Свет мира», и
«Господин господствующих», и «Бог Богов», и «Князь мира», «тот, кого почитают Ангелы, но
676
Как и в «Магдебургских центуриях», к этому разделу относятся острова Средиземного моря, в первую очередь
города Сицилии и Крит. Скорее всего, в части более поздних веков в этот раздел (опять-таки как в «Центуриях»)
должна была войти Англия. Характерно, что при такой классификации Англия не ставится на один уровень с
Германией, Францией, Испанией или Италией, а чисто географически воспринимается как окраинная земля,
наряду с Сицилией, Критом (исторически очень близкими Италии) или другими островами.
354
дрожат диаволы», «отклонитель иудаизма» (Antiquator Iudaismi) и «разрушитель язычества» и
так далее. Из всего этого, по мнению Айзенграйна, неопровержимо следует, что Иисус был
«для всех верховным понтификом», а также «Святым из Святых» (Sanctus Sanctorum), что
является очевидным парафразом библейского «святая святых» (Sancta Sanctorum).
Конечно, силы Айзенграйна были несопоставимы с ресурсами авторского коллектива,
работавшего много лет подряд. Тем не менее, нам сегодня кажется странным, что он не
воспринял основного посыла «Центурий» насчѐт роли источников в установлении фактов,
насчѐт умения охватить длительные факторы и проблемы. Вместо этого он делает ставку на
локусы, крайне сомнительные уже в его эпоху. Таков, например, рассказ о том, как Октавиан
Август поехал к оракулу (имелись в виду Дельфы, но конкретное указание отсутствует),
чтобы узнать у «аполлоновой Пифии», кто будет править империей после него. Та крайне
неохотно сообщила ему (после нескольких жертвоприношений), что ей «приказывает
уступить место еврейский мальчик, сам Бог, управляющий верующими». После этого цезарь,
вернувшись в Рим, повелел воздвигнуть «Алтарь Богу первородному» (Ara primo geniti dei)677.
Понятно, что этот рассказ был взят из «Священной истории» Никифора Каллиста или из
одного из произведений, слепо его пересказавших, однако «научный» уровень этой
публикации данный эпизод иллюстрирует замечательно. Добавим только, что этот эпизод (как
и многие другие) сопровождается эмоциональным комментарием на полях мелким шрифтом,
адресованным Флацию лично.
«Святость», то есть сохранившееся в церковной традиции доброе имя того или иного
деятеля, является гарантией истинности любого утверждения данного лица. По этой причине
Айзенграйн отвергает саму возможность искать «соломинки» в сочинениях Отцов Церкви.
Периодически он удивлѐнно вопрошает Флация, недостаточно ли ему авторитета того или
иного автора.
Сочинение содержит массу фактических неточностей; там, где Айзенграйну не хватает
данных, он умолкает; по этой причине персонажей в книге довольно много, но сведения о них
весьма скудны и не содержат подробностей. Пренебрежение фактами заставляет Айзенграйна
считать, что с появлением христианства язычество прекратилось, что монашество зародилось
среди учеников Апостолов (в частности, Орден кармелитов появился уже в I веке), что
апостол Андрей проповедовал во Фракии, Эпире и даже среди антропофагов!678 На полноту
претендует лишь список Римских пап; череда императоров не является параллельной
хронологической опорой, как в «Центуриях» или некоторых сочинениях католиков. За
пределами перечня пап изложение надолго становится фрагментарным, состоит из крох.
677
678
Eysengrein, Centenarii… I F. IV.
Последнее утверждение, по словам Айзенграйна, взято из Григория Назианзина и Никифора Каллиста.
355
Отдельные локусы чаще всего состоят из нескольких строк, и большая часть этого сообщения
– отсылка к тексту авторитетного церковного автора. Изложение вновь становится связным в
момент, когда на авансцену повествования вновь выходит св. Пѐтр или его преемники.
Вообще Петру уделено большое внимание – рассказ о нѐм занимает почти 30 листов679 из двух
с половиной сотен первого тома. Сравнительно много дат приведено в VI части, посвящѐнной
церковным писателям, и в VII (о преследованиях). Последняя, VIII глава первого тома явно
недописана; автор торопился.
Голословное и эмоциональное отрицание отдельных тезисов Флация не дало нужного
результата. Айзенграйн, видимо, считал, что для опровержения «Центурий» достаточно
привести длинную серию несогласий с отдельными их утверждениями. Историзма
«Центурий» Айзенграйн не понял, ибо свою аргументацию он основывал на том, что после
«Центурий» не могло иметь эффект среди читателей – на априорных суждениях, на «чувстве»,
отрыве от источника, на пресловутом авторитете Церкви или ее отдельных представителей –
на том, что было подрублено под корень Флацием и его единомышленниками.
Цель, стоящая перед историками-католиками, снова не была достигнута. В этот раз
можно смело утверждать, что средства ей явно не соответствовали.
679
Ibid. F. 104-133.
356
§2. Учѐные-иезуиты против «Центурий»: 1570-73 гг.
Первые попытки опровергнуть историческую концепцию «Магдебургских центурий»
успехом не увенчались. Требовались новые инициативы. Многое изменилось после того, как
на папский престол был избран кардинал Антонио Гизлиери (Пий V, понтификат 1566-1572).
Новый папа в поисках нового подхода обратился в Общество Иисуса, которое в первый (и
далеко не в последний) раз в своей истории получило задачу на поприще литературного и
научного творчества. Орден насчитывал лишь три десятка лет. К тому времени иезуиты
участвовали в ряде дипломатических миссий, представляли Святой Престол на заседаниях
Рейхстага; активной была их миссионерская деятельность и разработка идеологии
Контрреформации в ходе Тридентского Собора. Задачи, связанные с подготовкой текстов и с
достижением популярности этих текстов среди читателей, были иезуитам пока не знакомы.
Орелья-и-Унсуэ
обнаружил
в
римских
архивах
множество
документов,
свидетельствующих о том, что при дворе нового папы «Центурии» постоянно обсуждались, и
«общественное мнение» предлагало то одного, то другого кардинала как исполнителя научноидеологической задачи680. В выработке решений важную роль сыграли Альфонсо Сальмероне
и Петр Канизий; крупный дипломат Курии кардинал Джованни Франческо Коммендоне, в
конце
концов,
пролоббировал
передачу
«литературной
антимагдебургской
миссии»
Конгрегации Ордена Иисуса по делам Германии и Польши. Окончательное решение принимал
Генерал Ордена Франсиско Борджа. Сохранились его указания привлечь к работе «докторов»
из крупнейших центров католической науки – Диллингена, Ингольштадта, Мюнхена, Кѐльна и
Лувена681.
Реакцией германских учѐных была растерянность; они были в курсе работ над
«Центуриями» и понимали, насколько они отстали по времени и по организации. Сохранилось
письмо Канизия, адресованное руководителю Ордена Борджа и датированное 24 июля 1567
года:
Что же касается краткого опровержения Центурий, затребованного Папой у меня и
других наших богословов, то, собрав всѐ имеющееся с тем, что есть у моих людей, я понимаю
исключительную трудность этого мероприятия. Я подожду Твоего отеческого решения,
чтобы понять, смогу ли я вообще (и каким образом это будет возможно) выполнить
распоряжение Святейшего Государя Нашего, а точнее – Высокопреподобного кардинала
Коммендоне. Теперь сильнее всего меня поджимает время. […] К этому следует добавить,
680
681
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 176 и далее.
Ibid. P. 179.
357
что наши богословы, и я вместе с ними, очень заняты преподавательской и проповеднической
деятельностью. Почти никто из нас не разбирается в Церковных Историях даже
приблизительно. Для выполнения этого труда отсутствуют необходимые книги, и они очень
дороги, а в Германии гораздо более труднодоступны, чем в Италии, и их нужно доставать в
разных местах. Следует также добавить моѐ бессилие, особенно усилившийся дух
отвращения к занятиям столь высокого уровня серьезности, способствующий тому, что я
постоянно и сильно отвлекаюсь на наши Провинции и посторонние дела. Между тем, в
написании текста, там, где речь идѐт о чѐм-то серьѐзном, мой разум впадает в
медлительность и мелочную скрупулѐзность […] Я не отказываюсь от задания, которое,
знаю, придѐтся выполнить из священного послушания682.
В конце концов, Борджа настоял на создании «антимагдебургской группы», состоящей
из нескольких ведущих католических учѐных и базирующейся при университете Диллингена.
Канизий переехал в Диллинген, однако непреодолимым препятствием для создания
адекватного магдебургскому штаба стали личные амбиции крупных писателей: Лоренцо
Сурио с некоторыми коллегами сосредоточился на издании трудов церковных Соборов,
Иоганн Реций возглавил группу, готовившую публикации трудов Отцов Церкви; наконец,
находившиеся вне Германии иезуиты (Ледесма, Салмерон, Торрес) проигнорировали указание
о сборе группы и продолжили самостоятельную работу. Другим серьѐзным препятствием
было отсутствие в католическом лагере опытных историков683, но, как мы видели ранее,
главной проблемой было всѐ же обыкновенное отсуствие дисциплины.
Де
факто
организация
идеологического
противодействия
«Центуриям»
сосредоточилась в руках Петра Канизия (1521-97). Один из первых членов Ордена иезуитов,
Канизий принимал активнейшее участие в различных мероприятиях Контрреформации в
Германии, в том числе – ещѐ совсем молодым человеком – в работе Тридентского Собора на
начальном этапе. Его ответ на доктринальную критику католической Церкви со стороны
Лютера – катехизис под названием «Сумма христианского учения» - появился в 1555 году и
только при жизни автора был перепечатан более 200 раз. Впрочем, Х. Йедин отметил, что,
несмотря на успех издания, в последующей практике более популярным оказался Катехизис,
разработанный Тридентским Собором684.
В 1565 году Канизий издал сочинение Конрада Брауна, взяв на себя редактуру,
написание биографии автора и составление краткой библиографии685. В 1567 году он
682
Braunsberger O. Beati Petri Canisii epistulae et acta. 8 vv., Freiburg, 1898-1905. V. V, p. 522.
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 182.
684
Jedin H. Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Bd. 1, Herder, Freiburg-Basel-Wien 1966. S. 390-391.
685
Braunsberger O. Op. cit. V. VI. P. 792.
683
358
устанавливает прочный контакт с молодой «звездой» католической науки – Онофрио
Панвинио, сообщая ему, в частности, что в Кѐльне есть издатель, готовый публиковать их
труды против «Центурий». Борджа, узнав об этом и памятуя о том, что поручение
организовать ответ «Центуриям» был дан Пием V именно ему, решает возложить исполнение
на Канизия и Панвинио. В декабре 1567 года Канизий принимает волю Генерала и просит его
помочь с получением папского благословления, а также с покупкой книг и рукописей 686. Ещѐ
несколько недель в переписке Канизия проскальзывает явное отсутствие энтузиазма от этого
поручения, свящанное с необходимостью отбросить все многочисленные остальные дела, в
том числе – подготовку к печати почти готовых текстов.
Несмотря на поддержку Генерала Ордена, обеспечившего, в частности, помощь двух
диллингенских профессоров, двух чтецов, переписчика и лица, ответственного за
организационные вопросы687, работа затянулась. Первый текст Канизия, направленный против
«Центурий», назывался «Первая книга комментариев об искажениях Слова Божиего» и вышел
в 1571 году688. Вторая книга вышла 6 лет спустя689. В обеих этих книгах речь не шла об
истории в нашей понимании, и по этой причине их детальный анализ в рамках данной работы
был бы неуместен. Канизий рассмотрел, по сути дела, лишь два частных аспекта трактовки
Священного Писания в «Магдебургских центуриях», посвящѐнных Иоанну Крестителю и
Деве Марии. Две фигуры первостепенной важности в католическом богословии получили в
«Центуриях», на взгляд католического автора, совершенно недостаточное авторское
внимание. Поднятые Канизием вопросы, упрѐки касались способов интерпретации текста
Писания, а привлечение им в качестве источников текстов Отцов и Учителей не имело для
лютеранского лагеря никакого убедительного воздействия: в их локальном методе пропасть
между библейскими п более поздними текстами была непреодолимой.
Тем не менее, труды Канизия вполне могут считаться точкой отсчѐта для нового этапа
католического противодействия «Центуриям» на исторической почве. Прежде всего, заметно,
что новые книги были написаны профессионалом, посвятившим работе несколько лет и
использовавшим ресурс в виде помощников и обширных материалов. Цитаты из
святоотеческой литературы подробны и точны, нет никаких стилистических излишеств;
латынь плавна и очень качественна. Богословской учѐностью Канизий не уступал Флацию.
Первая книга – по-своему уникальное явление в католической литературе: в ней поэтапно
686
Ibid. V. VI. P. 138.
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 181-182, 197.
688
[Canisius P.] Commentariorum de verbi Dei corruptelis liber primus, in quo de sanctissimi praecursoris domini
Johannis Baptistae historia evangelica, cum adversus alios huius temporis sectarios, tum contra novos ecclesiasticae
Historiae consarcinatores sive Centuriatores pertractatur. Dilingae, 1571.400 л.
689
[Canisius P.] De Maria Virgine incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta libri quinque: Atque his secundus liber est
commentarium de Verbi Dei corruptelis adversus novos et veteres sectariorum errores nunc primus editus. Ingolstadii,
1577. 364 c.
687
359
реконструируется складывание культа Иоанна Крестителя – от цитат из Евангелий от Матфея
и от Луки до Тертуллиана и Паулина. Далее, Канизий обнаруживает не только прекрасное
знакомство с творчеством Восточных Отцов; он берѐтся даже состязаться с центуриаторами в
детальности и хронологической строгости своей реконструкции. Конечно, это было возможно
только в отдельных частных аспектах, и именно поэтому Канизий взялся за две проблемы, с
одной стороны, имевшие принципиальное значение, а с другой, - не требовавшие огромных
информационных или трудовых ресурсов. Он тоже, как и центуриаторы, занят процессом
формирования догмы: умение распознасть в текстуре «Центурий» отдельные главные линии
отличает католических историков новой волны. Канизий исследует процесс складывания
культа Иоанна Крестителя и Девы Марии вполне адекватно дискуссии, находится в режиме
диалога с центуриаторами, и в его изначальных посылках есть только одно принципиальное
расхождение с ними. Оно заключалось в отсутствии априорных негативных оценок, в
готовности с религиозной точки зрения воспринять культы, логически зарождающиеся из
самой сути Христовой веры и Писания. Центуриаторы не желали видеть в Писании что-то
кроме написанного там; Канизий, как и его учѐные современники Торрес и Панвинио, были
готовы заглянуть глубже текста, различив в нѐм пространство для толкований и
интерпретаций. Последующая святоотеческая литература была подвергнута анализу именно с
точки зрения единого процесса развития представлений об Иоанне Крестителе и Богородице;
разговор стал предметным.
Из этого предметного разговора, впрочем, делался важный вывод: если такой взгляд
был возможным, то отказ лютеранских историков от допущения этой возможности и был
«искажением Слова Божиего». Идеологический вывод, в котором нуждалась Римская Курия,
делался в отсутствие детального анализа, причѐм читатель в нѐм и не нуждался: по двум
важнейшим вопросам правота католической доктрины была утверждена и доказана, а в
остальных аспектах что-то подобное вполне можно было предположить. Одним словом,
опровержение при минимуме аргументации и при отсутствии потребности в развенчании
каждого отдельного факта было рациональным и в то же время достаточно эффективным
ответом католической партии.
Первая книга Канизия была сравнительно небольшой (около 150 страниц); вторая, на
написание которой ушло гораздо больше времени, была примерно в 3 раза больше. Еѐ
аргументация отталкивалась от некоторых локусов «Центурий», в которых, по мнению
Канизия, были допущены фактологические ошибки. Рассмотренные по отдельности, они не
производили на читателя впечатления (например, предположения о полученном Иоанном
Крестителем образовании или о возможности слушать выступления «благочестивых и учѐных
мужей»). Собранные вместе, они – вместе с пространными их опровержениями – создавали
360
впечатление о фактологической недостоверности «Центурий» в целом. Каждая из 14 глав
книги Канизия начинается с цитаты из Евангелий от Матфея или от Луки, а затем цитируются
отдельные локусы из 1 части 1 тома «Центурий», посвящѐнные тому или иному аспекту жизни
Иоанна Крестителя, географической привязке сказанного в Писании, разным прочим данным
(например, о доступности саранчи или мѐда диких пчѐл в долине реки Иордан). Всякий раз
следует детальное описание с привлечением цитат из десятков Отцов. Важнейшим из
ресурсов, на которые мог опереться Канизий, была многовековая литературная традиция, от
которой его идеологические противники – центуриаторы – были вынуждены отказываться по
доктринальным соображениям.
Вторая книга была организована несколько иначе. Она состояла из пяти частей, каждая
из которых рассматривала аспекты образа Девы Марии.Так, первая часть описывала еѐ
происхождение,
детство,
нравственное
совершенство.
Вторая
рассматривала
еѐ
«поразительное и постоянное девство, а также связанные с ним вещи». Третья описывала
Благовещение и рождение Сына Божьего. Оставшиеся две части были более заострены на
полемику: в четвертой перечисляются локусы Писания, неправильно интерпретированные
оппонентами, а в последней описывается Вознесение Девы Марии и еѐ земное почитание –
два понятия, категорически отрицаемые и совокупно опровергаемые в «Центуриях».
Аргументативные принципы книги были в целом те же, что и в первом произведении. Вторая
книга Канизия способствовала тому, что в пост-тридентинской католической практике культ
Девы Марии постепенно выделился в качестве объединяющего анти-протестантского
принципа,
важнейшего
элемента
религиозной
самоидентификации690.
Современная
католическая мариология – это во многом заслуга трудов Канизия, обретших множество
продолжателей.
Х. Йедин придерживался иного мнения, отмечая относительную неудачу деятельности
Канизия по опровержению «Магдебургских центурий». «Книга об Иоанне Крестителе (1571) и
ставшие знаменитыми пять книг о Богородице Марии (1577) стали памятником усердию
Канизия, однако они не сумели развенчать выделяющиеся своей мощной учѐностью
«Центурии»»691. Это мнение историка сопровождается высокой оценкой «Церковных
анналов» Баронио, которым работы Канизия, безусловно, уступают в фундированности и
разнообразии тематики. «Баронио… сумел распознать, что первые попытки опровержения
«Магдебургских центурий» (Канизий, Айзенграйн) не имели успеха потому, что они
основывались на недостаточной источниковой базе»692. Более того, Йедин не считал участие
690
Heal B. The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany. Protestant and Catholic Piety, 1500-1648. Cambridge,
University Press, 2007. P. 148.
691
Jedin H. Kirche des Glaubens… cit., Bd. 1. S. 391.
692
Jedin H. Kirchengeschichte als Heilsgeschichte? In: Saeculum 5 (1954). S. 123.
361
Канизия в церковно-исторической полемике достойным аргументом в пользу состоявшегося в
1925 году причисления его католической церковью к лику Учителей церковных (в отличие от
церковно-организаторской деятельности, получившей очень высокую оценку историка). На
наш взгляд, высокие достоинства сочинения Баронио не должны заслонять от нас главной
заслуги Канизия – понимания необходимости сражаться с идеологическим противником в
рамках полемики не при помощи обвинений в неверии, а адекватным оружием эрудиции. К
этому пониманию следует также добавить признание высоких конкретных результатов,
достигнутых Канизием в его историко-церковных трудах. Другой важнейшей заслугой его
было привлечение к работе двух других авторов – Франсиско Торреса и Онофрио Панвинио.
Их собственная продукция была ещѐ более основательной, хотя также не вышла за пределы
критики отдельных положений «Центурий».
Франсиско Торрес693 родился в 1504 (по другим данным, 1509) году в кастильской
провинции. Магистерскую степень он получил в университете Алькала уже в 1534 году,
продолжил там же изучать греческий язык и богословие, а в 1540 году переехал в Рим, где
сблизился с кардиналом Сальвиати. Примерно тогда же он приступил к учѐным занятиям:
библиография его трудов, выпущенных отдельными изданиями, насчитывает свыше 60 работ.
С 1555 года он заведует кафедрой Св. Писания в Римском университете «Ла Сапиенца», а с
1561 является официальным «папским теологом». В сложном противостоянии различных
группировок при папском престоле Торрес сделал верную ставку на кардинала Серипандо, что
обеспечило ему карьерные успехи. В 1566 году он вступил в Общество Иисуса.
Знакомство Торреса с Канизием состоялось в 1558 году. Римский богослов не сразу
принял предложение вступить в ряды борцов с лютеранской историографией. Лишь 1566
годом датируется его план работы над опровержением центурий. Этот план 694 основан на
стремлении
опровергнуть
утверждения
оппонентов
о
неподлинности
множества
средневековых документов папской Курии («бумаг древних Пап»), а для этого необходимо
было запастись временем и множеством греческих и латинских книг. В последующей
переписке Торрес выражал надежду на то, что ему разрешат пользоваться не только Папской
библиотекой, но и книжными собраниями кардиналов. К слову, мы знаем, что Торрес обладал
и замечательной личной коллекцией книг, что даже вызывало неодобрение некоторых
иерархов Церкви695.
693
Подробнее о нѐм см. Sommervogel C. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 10 vv. Brussels - Paris, 1890-1902. V.
VII. P. 114-119.
694
Его описание см. Orella y Unzue J. Op. cit. P. 238-240.
695
Кардинал Хозио писал в одном из писем: «Итак, Франсиско Торрес отличается и великой святостью жизни и
незаурядной, но не бросающейся в глаза учѐностью; однако я не могу не порицать его, пожалуй, только за то, что
он, подобно дракону на сокровищах, возлежит на своих книгах, собранных с великим усердием и являющихся, по
362
Критике лютеранского богословия и некоторых взглядов было посвящено несколько
работ Торреса. Так, отдельный труд был выпущен им в 1569 году о праве Церкви назначать
епископов во всех землях христианского мира696; он содержал опровержение некоторых
положений «Центурий» с упоминанием последних. Эта книга не очень понравилась Канизию,
и он даже рекомендовал некоторые исправления перед переизданием еѐ обширного
фрагмента. Вместо этого Торрес подготовил свой основной труд, направленный против
«Центурий», - «За Каноны Апостольские и папские Декреталии»697. Он состоит из пяти книг,
первая из которых посвящена защите Канонов, а остальные – гораздо более деликатному
вопросу о Декреталиях. Метод Торреса основан на приѐме логики, который станет типичным
для иезуитской литературы: автор не защищает отвергаемые центуриаторами источники по
церковной истории, а обсуждает содержащиеся в них тезисы и положения. Конечно, защитить
вызывавшие согласие читателей на протяжении многих веков положения представлялось
более
лѐгким
делом,
чем
конкуренция
с
авторами
«Центурий»
в
мастерстве
источниковедческой критики.
Торрес тонко подметил, что центуриаторы методически не сильны в отношении
источников устной традиции. Поскольку Каноны долгое время передавались именно так, они
могут быть отнесены к этой категории даже несмотря на их последующую судьбу. Авторы
«Центурий» обнаружили тенденцию преуменьшать важность тех источников, которые не
были зафиксированы письменно. Их работа со всеми видами текстов была для того времени
безупречной, но католические критики новой волны обладали достаточно острым умом, чтобы
отметить методическую слабость противника и так еѐ разработать, чтобы нанести как можно
больший имиджевый ущерб. Так, вместо того, чтобы отстаивать подлинность Канонов в
устной традиции, он сначала остроумно защищал необходимость целибата священников698,
Великого и еженедельного Постов699, церковных отлучений700, покаяния и ряда других
традиций и форм церковной жизни. Доказательства Торреса носят более догматический, чем
исторический характер: единственным аргументом ценности Канонов (а отнюдь не
«подлинности» в нашем сегодняшнем понимании) является их соответствие учению,
моему убеждению, подлинным богатством, и не допускает к пользованию ими других людей». Цит. по: Orella y
Unzue J. Op. cit. P. 235.
696
[Turrianus F.] De hierarchicis Ordinationibus ministrorum Ecclesiae Catholicae, adversus schismaticas vocations
Ministrorum et Superintendentium. Dilingae, 1569. 208 c.
697
Francisci Turriani Societatis Jesu, adversus Magdeburgenses Centuriatores Pro Canonibus Apostolorum et Epistolis
Decretalibus Pontificium Apostolicorum, libri quinque. Florentiae, 1572 (sed Coloniae, apud Gervinum Calenium, 1573).
460 л. Мы пользовались вышедшим в том же году, но считающимся вторым парижским изданием – [Turrianus F.]
Pro Canonibus Apostolorum, et Epistolis Decretalibus Pontificum Apostolicorum, adversus Magdeburgenses
centuriatores, Defensio, in quinque libros digesta. Lutetiae, 1573. 485 л.
698
Turrianus F. Pro Canonibus … P. 6v.
699
Ibidem, P. 8r.
700
Обсуждалось, в частности, кого «магдебургцы» считали не подлежащими отлучениям и почему это неверно.
Ibid. P. 10v.
363
содержащемуся в Священном Писании. Обильные греческие цитаты существенно расширяют
доказательную базу по сравнению с Центуриями». Критика источника проведена на примере
письма св. Зеферина: вопрос о подлинности текста обходится молчанием, однако это не
противоречит ценности для Церкви информации, в нѐм содержащейся 701. Кроме того, он
подметил, что далеко не все возможные Каноны были взяты центуриаторами в
исследовательский оборот: они упустили те, что можно найти в «Библиотеке» Оригена (гл. 2425).
Рассуждения в защиту Декреталий гораздо более пространны, но менее убедительны.
Здесь элементов исторической полемики больше. Например, утверждалось, что в
действительности папа Анаклет не писал о том, что камнем, на котором должна быть
построена церковь, является «кресло Петра». Критики Центурий оказались в сложном
положении: если они критикуют «по форме», то есть обсуждают правомочность
использования тех или иных источников, то они не могут таким образом расшатать
концепцию в целом; если же они критикуют «по существу», то есть то, что содержится в тех
или иных источниках, их критику можно опровергнуть простой демонстрацией этого (в
редких случаях – другого) конкретного источника. Это, собственно, и стало одним из
важнейших методологических достижений межконфессиональной полемики второй половины
XVI века: на комплексный анализ можно ответить только комплексным анализом, в котором
охватывается сопоставимое количество источников, создаѐтся сопоставимого масштаба
историческая концепция.
Торрес прекрасно понимал сложность своего положения, но выхода из него не находил.
Он решил опереться на «апостольскую традицию» - после анализа каждого привлекшего его
внимание частного случая «по существу» приводил обильные цитаты из Отцов и Учителей,
которые
должны
были
зафиксировать
преемственность
и
обосновать
истинность
содержащихся в Декреталиях положений. Разделы труда Торреса, посвящѐнные Декреталиям
(книги 2-5) сводятся к «защите учения» в той или иной декреталии или в целом (Defensio
doctrinae in epistola…), или же в каком-то единичном аспекте (Defensio doctrinae de… in…), то
есть попытка защитить то, что ему казалось главным – суть отвергнутых документов, а не их
сами.
Подробному анализу подвергнуты Декреталии, отождествляемые с конкретными
Папами. Сначала Торрес даѐт характеристику каждому из понтификов (как выразился Orella,
было предпринято «апологетическое исследование»702). Затем он отыскивает цитаты из
сочинений Отцов, могущие в той или иной мере подтвердить сказанное в отдельных письмах:
701
702
Ibid. P. 51-63.
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 249.
364
задача, требующая колоссальной эрудиции! Отдельно доказывается древность Декреталий,
причѐм Торрес стремится доказать, что все встречающиеся в них реалии соответствуют их
традиционной датировке. Конечно, не забывает он и доктринальную апологию в духе той, что
была нами описана выше: здесь он защищает принцип церковной иерархии, таинства
помазания и пресуществления, конфирмацию, освящение церквей и декоторые другие
традиции. Все они связывали декреталии с устной церковной традицией, не находившей
непосредственной опоры в словах Писания.
Торрес обратил внимагие, что центуриаторы избегали некоторых цитат, способных
поставить под удар их догматическую концепцию. Он не пытался построить свою атаку на
приведении как можно большего количества таких цитат: это завело бы дискуссию в тупик.
Orella обратил внимание на то, что при обсуждении одного из важнейших вопросов, так
называемого «первенства Петра», Торрес сначала выяснил, какие доводы возможного
обоснования «первенства» видели и критиковали центуриаторы, а затем привѐл те, которые
считал более важными сам703. Этот логический приѐм пбыл повторѐн неоднократно и
способствовал убедительности критики.
Последние две книги, посвящѐнные Декреталиям (4 и 5), стали новым словом в
полемике: в них автор попытался продемонстрировать на историческом материале
преемственность учения Христовой Церкви, Церкви первых веков и тридентинской доктрины.
При этом он, как и центуриаторы, всячески подчѐркивал сущность своего локального метода,
согласно которому Священное Писание было наиболее авторитетным источником истины. В
отличие от своих противников, он не отделял Писание от последующей письменной и устной
традиции и не противопоставлял их: это отличие стало причиной всех последующих частных
расхождений в историко-церковной концепции.
Любопытны мысли Торреса о своѐм идеологическом противнике. В частности, он
очень аккуратно использует слово «лютеранство», а «учение Лютера» - это лишь частный
случай более массовых настроений. Он уклоняется от обсуждения вопроса о том, кто же
сыграл в инициировании религиозного протеста решающую роль, а там, где ему пришлось на
эту тему высказаться, он назвал на равных с Лютером не только Цвингли, но и Карлштедта –
человека, находящегося сегодня на острие историографической «моды»704. При этом Торрес –
и в этом ему принадлежит абсолютное первенство – с уважением относится к своему
идеологическому противнику: даже в посвящении (адресованном одному из крупнейших
организаторов «антимагдебургской» акции кардиналу Станиславу Хозио) он говорит о
проницательности и уме центуриаторов, взвешенности их аргументов; протестует он лишь
703
704
Ibid. P. 250.
Torres F. Pro Canonibus … P. 363v.
365
против общей направленности их труда. Цель «Центурий», по мнению Торреса, заключалась в
отрицании всех свидетельств, с помощью которых нам сквозь века были переданы истинный
смысл Слова Божиего, церковная дисциплина и «обычаи апостолической традиции». Торрес
даже признавал ценность и прогрессивность их исторического метода, однако считал, что они
создали «новый жанр церковной истории, подогнанной под сознательное введение в
заблуждение (accomodatae ad fallendum)». Высокая оценка достоинств противника не
помешала Торресу отождествить его в конце сочинения с Антихристом.
Торрес был вполне подходящим для поставленной задачи человеком: к острому уму
добавилась прекрасная классическая (в том числе – греческая) эрудиция. Достаточно сказать,
что, согласно перечню использованных произведений, он привлѐк к работе сочинения свыше
200 авторов! Эрудированность Торреса проявлялась порой совершенно неожиданным
образом. Например, центуриаторы выступили против содержащегося во «2 послании
Климента» призыва к целибату духовенства. Для их «опровержения» приводятся слова
различных персонажей платоновских «Диалогов», иллюстрировавших его представления о
чистоте и воздержании (de castitate et continentia)705. Цитаты из Платона оттеняются цитатами
из Нового Завета, и неожиданно читателю раскрывается глубокая преемственность между
учением Платона и евангельским христианством. В этой связи тезисы Платона также
представляются как имеющие безотносительную нравственную ценность, а классические
тексты расширяют представления читателей о возможном круге источников. Подобная роль
отводится и цитатам из Аристотеля. Других не-христианских источников в книге, впрочем,
нет, как нет и дат и другой обязательной атрибутики строго «исторического» сочинения.
Воздействие книги на читателя оказывалось на эмоциональном уровне, что подчѐркивалось
очень хорошим качеством печати и издания в целом; на фоне других сочинения, даже
католической стороны, книга Торреса отличалась изысканным оформлением и апелляцией ко
вкусу и эстетическим взглядам будущего читателя. Эта книга по логике, эрудированности
автора, убедительности аргументов и ряду других параметров, пожалуй, превосходила
предшествующие
историко-церковные
сочинения
и
была
бесспорным
достижением
католической партии. Вот беда: сам Рим уже сомневался в подлинности Декреталий, что
выразилось в жѐсткой критике Роберто Беллармино в 1589 году706. Аргументы во многом
были восприняты как раз у центуриаторов: цитирование Библии по переводу св. Иеронима,
закамуфлированные цитаты из поздних авторов, несвойственные подобному жанру
шероховатости в латыни, а также целый ряд мелких неточностей.
705
706
Ibid. P. 411 r et v.
Ryan E. A. The historical Scholarship of Saint Bellarmine. New York, Fordham, 1936. P. 490.
366
§3. Некоторые отдельные выступления
Джироламо Муцио707 родился в 1496 году в Падуе, однако его отец, как и Флаций
Иллирик, был уроженцем Истрии. По латинскому названию города Каподистрия Муцио не без
гордости носил прозвище «Юстинополитанца». Фундаментального образования он не
получил; уже в юности он остался без отца и был вынужден искать счастья на службе при
дворе Максимилиана I. Затем он неоднократно сменил хозяев - переехал на родину отца, затем
в Милан, Рим, служил маркизу Васто и герцогу Савойскому. С 1550 года Муцио состоял на
службе у Фердинанда Гонзага, и в качестве сотрудника дипломатических миссий («оратора»)
участвовал в конклаве 1550 года и ряде политических мероприятий. В 1556 году он устроился
к герцогу Урбинскому, и, наконец, в 1567 году был призван Пием V к своему двору. Получив
постоянное содержание, он получил и обязанность писать работы в защиту различных
действий Курии. После смерти папы-покровителя синекура закончилась, и 76-летнему
писателю на жаловании пришлось снова искать себе место. Он прожил ещѐ почти пять лет, а в
момент кончины в 1576 году состоял на службе у кардинала Фердинанда Медичи.
Письменная продукция Муцио довольно обильна; подавляющее большинство работ
написано по-итальянски, что обеспечило ему довольно заметное место в итальянской
культурной и литературной традиции. Объектом его интеллектуальной агрессии становились
в основном протестанты – Окино, Верджерио, Франческо Бетти и другие: он даже сам себя
называл
порой
«молот
еретиков».
Доставалось
и
анахоретам
из
других
стран,
преимущественно из Германии и Англии. Не мог пройти Муцио и мимо «Магдебургских
центурий», выпустив против них в 1570 году два томика изумительной красоты: Венеция
славилась высочайшим качеством книжной продукции708.
Этот труд очень выделяется на фоне полемики. Он был написан светским человеком, не
имеющим богословского, да и любого другого, образования, не знающим греческого языка, не
обладавшим эрудицией в святоотеческой литературе, даже не обладавшим глубоким знанием
Священного Писания… Тем не менее, критика Муция оригинальна и заслуживает большего,
чем простое упоминание его труда и основных тем, как это сделал Орелья-и-Унсуэ.
707
Подробнее о нѐм см. Lauchert F. Die italienischen litterarischen Gegner Luthers. Freiburg, 1912, ss. 653-666;
Giaxich P. Vita di Girolamo Muzio Giustinopolitano. Trieste, 1847. 62 c. См. также Enciclopedia Cattolica. V. 8,
Firenze, 1951, col. 1580.
708
Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano Libro Primo. Nel quale si contengono le operationi, et i martirij de’
beati Apostoli, et di altri Santi, e Sante di Dio: insieme con un Summario della dottrina evangelica, di dottori antichi, et di
Romani Pontefici dell’ascension del Signor in Cielo infino alla morte del sesto successor di S. Pietro. Venetia, Gio.
Andrea Valvassori detto Guadagnino,1570, 361 c. (далее – Muzio I). Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano
Libro secundo. Nel quale dalla creatione di Sixto primo infino alla morte del primo Urbano, che dopo S. Pietro fu il papa
decimo settimo, si recitano diversi martirij di Santi et di Sante di Dio; dottrine di Scrittori, che furono in quella età; et
decreti di dieci Santi Pontefici. Venetia, Gio. Andrea Valvassori detto Guadagnino,1570, 213 c. (далее – Muzio II)
367
Труд разделѐн на полторы сотни небольших глав (99 в первом томе и 50 во втором),
каждая из которых представляет собой рассуждения на тему того или иного понятия или
персонажа из Библии или из церковной истории. В аргументации Муцио почти нет нового по
сравнению с гораздо более эрудированными предшественниками, однако он первым обратил
внимание на недостатки метода «Центурий» и выступил против них. По его мнению,
центуриаторы выбирали только подходящих к своей концепции авторов и цитаты из них.
Интерпретацию многих источников Муцио считает излишне «заряженной»; центуриаторы
придают слишком большой смысл отдельным мыслям или даже словам, выстраивая
тенденцию там, где еѐ на самом деле нет. Локальный метод в интерпретации центуриаторов
породил беспорядочное изложение, так что Муцио заключает: «Эту смесь материй сделует
называть хаосом, а не церковной историей»709. Кругозор Муцио позволяет ему сделать
некоторые интересные замечания о римских императорах-язычниках, в частности, о Марке
Аврелии и Антонине Пие; в остальном он отличается «критической наивностью»710.
Единственным стержнем его исторической реконструкции является последовательность
римских Пап. Во вступлении он говорит: «И если нам предстоит написать священную
историю, будет лучше, если мы расположим еѐ по руководителям Святой Церкви, а коль
скоро ими являются Папы, то мы должны устроить еѐ по последовательности Пап. А начнѐм
мы наше изложение с начала Папства». Муцио состоял на жаловании у Папы, и это,
возможно, обусловило не только его следование этому банальному принципу, но и постоянное
подчѐркивание этого факта. В другой книге он, например, писал: «Римский понтифик является
епископом вселенской Церкви не только по отдельности, но и в совокупности»711.
Муцио отмечал, что особенно ярко заметна предвзятость центуриаторов в главах,
посвящѐнных мученикам. Центуриаторы игнорировали рассказы о мучениках многих
авторитетных авторов – Оригена, Киприана, Корнелия, св. Василия и других. Зато они
процитировали Пьера Ноэля и некоторых других авторов, симпатизировавших протестантам –
«других писателей небольшого авторитета»712. Возражает он и против аргументации «от
умолчания»: если та или иная тема, понятие или факт не обнаруживаются в произведениях
того или иного древнего писателя, это совсем не значит, что в его эпоху этих тем, понятий или
фактов не существовало! Как и Браун, Муцио с радостью подмечает отсутствие идейного
единства в лагере противников; он обращает особое внимание на все утверждения, в которых
концепция центуриаторов расходится с общим мнением лютеран или даже тезисами самого
Лютера. Муцио был первым, кто усомнился в том, что «Центурии» выражают мнение
709
Muzio I P. 5.
Orella y Unzue J. Op. cit. P. 276.
711
(Muzio G.) De romana Ecclesia tractatus. Pisauri, 1563. Цит. по: Orella y Unzue. J. Op. cit. P. 276.
712
Muzio I P. 3.
710
368
лютеранского мейнстрима, хотя, в общем, это было довольно очевидно. Отмечает он и
противоречия между отдельными локусами внутри «Центурий»: конечно, все эти мелкие
факты были лишь издержками коллективного труда, а то и простыми недосмотрами, но для
того, чтобы подорвать доверие к тексту, все средства были хороши.
«В одном месте они отрицают, что Пѐтр был в Риме; в другом это утверждают. У
них говорится, что он был апостолом только в округе, а в других местах – что Господь
избрал его для проповедования среди народов. Здесь написано, что Иаков Праведник был
апостолом, а там это отрицается. Говорится, что у Павла была жена, и что не было. Что
назначенные Павлом Сила и Сильван были двумя разными лицами, и что это был один
человек. Девство рекомендуется как большее достоинство по сравнению с браком; и
говорится, что они не связаны друг с другом».
Далее он делает вывод: эти расхождения – от недостатка цельности доктрины713.
Паратекст книги Муция содержит интересную деталь – указ (Motu Proprio) Папы Пия V
о защите авторских прав на книгу Муцио на 15 лет – за нарушение устанавливался штраф 500
золотых дукатов в пользу Апостолической Камеры. Такой указ мог бы вызвать удивление,
если бы мы не знали, что Муций получал в Риме жалование, и поэтому его продукция
воспринималась как собственность Святого Престола. К указу добавлено забавное замечание:
коль скоро проинформировать каждого епископа о соблюдении этого распоряжения
представляется затруднительным, было решено напечатать текст указа и подшить его к тому
(без нумерации).
Изложение в книге Муцио спокойно, лишено патетики, автор не злоупотребляет
апелляцией к читателю, претендующей на объективность. После каждой небольшой главки
следует еѐ краткое резюме. Стиль его, однако, запутан, экспозиция неясная; несмотря на
провозглашѐнное стремление опираться во всѐм на последовательность Пап, хронологический
порядкок книги не выдержан. Ещѐ одна странная особенность – указание дат не от Рождества
Христова и даже не от Сотворения Мира, а от Вознесения. Цитируемых текстов очень мало,
сносок на источники также не приводится. Муцио написал неубедительную, но лѐгкую в
чтении книгу, написанную на итальянском языке, возможно, в стремлении угодить вкусам не
слишком требовательных позднеренессансных интеллектуалов.
713
Muzio I P. 9.
369
Последними в череде католической критики «Центурий», предварившей выступление
Беллармино и Баронио, мы рассмотрим хронографические произведения профессора
Сорбонны Жильбера Женебрара. Представитель французской богословской мысли, он
действовал относительно независимо от Святого Престола, а полемика против «Центурий»
занимала его лишь отчасти. Тем не менее, его сочинения пользовались большим успехом (в
том числе коммерческим) и неоднократно переиздавались, в том числе и в XVII веке. Без
натяжки можно сказать, что труды Женебрара оказали важное воздействие на формирование
парижской ветви пост-тридентинской богословской традиции.
Женебрар родился в 1537 году в Оверни. Рано вступив в Орден бенедиктинцев, он
отправился в Париж изучать греческие древности, философию и богословие. Докторскую
степень, а с ней – и место профессора древнееврейского языка в Королевском Коллеже, он
получил лишь в 1563 году. С избранием на папский престол Сикста V он некоторое время
провѐл в Риме, где получил назначение на пост архиепископа города Экс-ан-Прованс. В 1596
году он как представитель Католической лиги был вынужден уйти в отставку: его город
признал Генриха IV, а парламент Прованса постановил конфисковать его имущество. Спустя
год он умер (1597)714.
Научное творчество Женебрара началось в 1563 году. Первую книгу исторического
содержания он опубликовал в 1570 году – это была «Священная хронология»715. Важной
частью его деятельности стало издание целого ряда древних авторов (Оригена, св. Василия
Великого, Григория Назианзина и других), а также вышедшая на французском языке
«История Иосифа Флавия» (1578). Исследования по хронологии, в ходе которых Женебрар
вышел на критику «Магдебургских центурий», начались с публикации материалов Арнольда
де Понтака – известного эрудита, исследователя библейской хронологии и иудейского
богословия. Тот прекратил занятия (в качестве причины приводилась необходимость бороться
с «ересями» в рамках своей епархии – Понтак был епископом города База в Жиронде) и
передал материалы Женебрару, и тот издал их двумя фолиантами716.
Эти два тома создали Женебрару широкую известность. Попытки кардинала Хозио
привлечь его к работам по опровержению «Центурий» не дали быстрого результата717.
Причина выяснилась лишь много позже: в 1580 году вышел главный книга Женебрара – ещѐ
714
Dictionnaire de Theologie Catholique. V. 6, p. I Paris, Letouzey, 1915, cc. 1183-85; Wetzer und Welte’s
Kirchenlexikon. Bd. 5, Freiburg, Herder, 1888. S. 254-255.
715
[Genebrardus G.] Chronologiae sacrae liber. Lovania, 1570. 447 c.
716
Chronographia in duos libros distincta. Prior est de rebus veteris populi G. G. auctore; posterior recentes historias
conplectitur A. Pontaco […] auctore. Parisiis, 1567. 393 л. Сокращѐнная по объѐму версия была издана три года
спустя под названием Chronographia in duos libros distincta. Prior de rebus veteri populi auctore G. G. … posterior
recentes historias praesertim que ecclesiasticas conplectitur, authore Ar. Pontaco … nunc quidem primum… in minorem
formam redacta. Lovanii, apud J. Foulerum, 1570. 293 л.
717
О них Orella y Unzue J. Op. cit. P. 426.
370
одна «Хронография»718, составленная путѐм дальнейшей переработки предыдущих изданий.
Расширенное издание пользовалось исключительной популярностью (несмотря на различные
неточности) и неоднократно переиздавалось в различных странах: кѐльнское издание
появилось уже на следующий год. Характерно, что во Флорентийской Центральной
национальной библиотеке хранятся экземпляры переизданий XVII века, сделанные уже после
выхода в свет «Анналов» Чезаре Баронио: заголовок был лишь немного подредактирован в
агрессивном тоне. Очевидно, книга имела своего читателя и была востребована, несмотря на
дальнейшие успехи католической партии в межконфессиональной полемике.
В Посвящении Понтаку было прямо сказано, что книга стала результатом «ежедневных
занятий на протяжении десяти лет, обильного чтения многих авторов, глубочайшего
размышления над разными книгами»719. Целью создания этой книги была «прежде всего
защита истины и последовательности событий истории Церкви и католического Учения
против обманов магдебургских песнопевцев».
Стержнем хронологии Женебрара было традиционное (и уже чудовищно устаревшее)
деление дохристианской истории на шесть эпох. Христианскую он делил на 16 частей по
столетиям, в чѐм последовал традиции, установленной в «Магдебургских центуриях».
Церковь в его представлении появилась в момент Сотворения Мира и лишь меняла свою
земную форму после тех или иных поворотных событий. Вторая часть, несмотря на
неоднократные «реверансы» в адрес Понтака, была глубоко переработана Женебрара и
должна рассматриваться как его самостоятельное произведение. Она разделена на две части –
от начала христианской истории до Карла Великого (точнее, до 800 года, когда зарождаются
«новые империи Запада») и от него до папы Григория XIII.
Несмотря на неоднократно провозглашѐнное стремление опровергать центуриаторов в
каждой их мелочной «лжи», Женебрар уделяет основное внимание созданию подробных и
претендующих на крайнюю точность хронологических выкладок. С их помощью он
рассчитывал отвергать каждое указание «Центурий» на хронологию, подрубая тем самым
единственную сторону исторического сочинения, подлежащую проверке научными методами
– датировку событий. Вся история делится на две эры, причѐм первая (от Сотворения Мира до
Рождения Христа) составляет ровно 4089 лет, 6 месяцев и 16 дней. Первая эпоха (до
Всемирного Потопа) составила, согласно подсчѐтам Женебрара, 1656 лет и 6 дней – мы
718
Gilb.(erti) Genebrardi theologi parisiensis divinarum hebraicarumque literarum professoris regii chronographiae libri
quatuor, priores duo sunt de rebus veteris populi, et praecipius quatuor millium annorum gestis. Posteriores, è D. Arnaldi
Pontaci Vasatensis Episcopi Chronographia aucti, recentes historias reliquorum annorum complectuntur. Universae
historiae speculum, in Ecclesiae praesertim saeculo, à mendaciis, maculis, imposturis Centuriatorum, aliorumque
haereticorum detersum; in reliquis contra judaeos, paganos, saracenos christianae religionis antiquam veritatem
perennitatemque representans. Parisiis, 1580. 620 c.
719
Ibid. Praefatio. P. II.
371
понимаем, что эти 6 дней являются днями Творения, ибо последующие указания на
продолжительность жизни того или иного Патриарха указываются всегда в целых годах.
Вторая охватывала время от Потопа до Исхода Авраама и составила 293 года и 30 дней; третья
(до Исхода из Египта) – 720 лет, четвертая («до Соломона») – 480 лет, пятая (до Вавилонского
пленения) – 419 лет. Последняя, шестая эпоха, разделена – также по старинной традиции – на
четыре Царства – халдейское, персидское, греческое и римское.
Профессиональный уровень профессора Сорбонны иллюстрирует, например, тот факт,
что он вполне серьѐзно считал Арама прародителем армян, Асура – ассирийцев, Гомера –
киммерийцев, а также кимвров, а Ханаана (?) – германцев; любимым источником этих и
подобных «неожиданных» сведений были тексты Бероза – популярная фальшивка, к которой в
конце XVI века было уже неприлично относиться серьѐзно. Адам был изготовлен в
окрестностях Дамаска (in agro Damasceno), а изгнан из Рая в районе Хеврона. Относительно
появления первого человека полной ясности нет: одни утверждают, что первые люди стали
рождаться в Аттике, другие – в Аркадии, в Египте, или даже в Скифии720. Вещественных
свидетельств не осталось (они были уничтожены потопом). Люди жили долго, ибо по натуре
были проще и менее извращены; их жизнь была дольше потому, что они должны были
распространить род человеческий, а также заложить начала наук. Впрочем, никто до 1000 лет
не дожил. Ноев Ковчег составлял 300 локтей в длину, 50 в ширину, 30 в высоту, но поскольку
размер тогдашних людей был больше нынешнего, то и размер ковчега был пропорционально
больше.
При чтении этой книги нас не покидало изумление: как мало было известно о
дохристианской истории в конце XVI века! Женебрар был одним из пионеров
хронографических исследований: его задачей было установить соответствие между системами
исчисления,
совпадение
сроков,
выяснить,
что
развивалось
одновременно,
а
что
последовательно. Главным стержнем хронологических построений являлся переход власти
(светской или духовной).
Конечно, труд Женебрара не был написан как историческое сочинение, то есть связное
изложение событий даже не предполагалось – только «тень событий», imago historiarum. В
каждой эпохе кратко перечислялись крупнейшие события, войны, появление и гибель царств,
славные мужи, государи, первосвященники, пророки и учители, писатели, наконец, еретики и
схизматики. Затем (и здесь мы видим очевидное воздействие локального метода «Центурий»,
особенно 4 глав) упоминаются отдельные элементы Учения – Троица, Св. Дух, вера,
оправдание, таинства, праздники и проч. в полном соответствии с устройством 4 глав
«Центурий», посвящѐнных истории догмы. Женебрар экстраполирует эту структуру на
720
Ibid. P. 3.
372
дохристианскую эпоху, поскольку не видит типологических различий между эпохами. Для
него ветхозаветная религия до Первого пришествия ничем не отличается от истинной, а это
значит, что внутри неѐ вполне возможно обнаружить все элементы современной ему веры.
Замечательный антиисторизм! Он лишь усиливается тем фактом, что упомянутые выше
элементы Учения не развиваются: задачей Женебрара было как раз показать нечто
противоположное магдебургской концепции – неподвижность Учения, его верность
изначальной сути и форме. Всѐ это доказывает существование Церкви с самого начала
истории, и именно эта Церковь сохраняет Учение, институты и традиции во все века.
Во второй части принятая на материале ветхозаветной истории схема полностью
сохраняется и строго заполняется. Задачей Женебрара было не только опровергнуть
построение центуриаторов, но и универсализировать свою концепцию, сделав еѐ, по своему
разумению, совершенно недоступной для человеческой критики. Для решения еѐ он
привлекает все доступные ему источники, не делая особенного различия между текстами
далѐких эпох и сочинениями более поздних историков. Помимо Библии, важную роль играют
также тексты Каббалы (книги некоторых учѐных раввинов и Учителей Талмуда автору тоже
хорошо знакомы). Женебрар не следует локальному методу в том смысле, что не
подчѐркивает логического превосходства боговдохновенных текстов над обычными, хотя,
очевидно, он всячески стремится привести последние в соответствие с первыми. Достаточно
сказать, что отправной точкой всех его выкладок является ветхозаветная хронология, к
которой «пристроена» картина античного мира, полученная из классических латинских и
греческих источников. Так фактически создаѐтся исторический компендиум, включающий
весь доступный историку материал. Неразборчивость в источниках привела Женебрара к
существенным потерям научных достижений предшественников. Он пренебрегал всеми
источниками, кроме доступных ему в форме книг. Не видя разницы между подлинными
текстами
и
сочинениями
историков,
он
находит
«подтверждения»
подлинности
Псевидоисидоровых Декреталий у Сабеллико, Зигеберта и других подобных «авторитетов». У
таких авторов он принимает практически всѐ на веру, в том числе и типичные для
средневековой историографии «чудеса» (например, пролившийся в 782 году кровавый дождь,
«обозначивший трагический конфликт между франками и аварами», потом – аварами и
баварцами, затем – снова аварами и франками721). Справедливости ради необходимо отметить,
что подобных чудес по сравнению с нассмотренной нами ранее литературой для массового
читателя сравнительно мало. Их становится несколько больше при описании событий X века и
дальше, но это понятно – и в этой тенденции Женебрар солидарен с современной литературой,
721
Ibid. P. 289-290.
373
в том числе протестантской: учащающиеся знамения – симптом надвигающегося конца света,
участившихся проявлений Антихриста.
Важный вопрос: зачем для опровержения «Центурий» нужен ветхозаветный материал?
Во-первых, к этому подталкивала эрудиция автора, уже много лет занимавшегося шлифовкой
своей хронологической схемы. Во-вторых, сказалась установка на континуитет. Если в
противовес концепции «Центурий» выдвигается другая, не меньше той претендующая на
универсальность, то еѐ следует показать на схеме ещѐ более всеохватной, чем схема
идеологического противника, и продемонстрировать на еѐ просторах действенность «своих»
закономерностей и тенденций. В-третьих, почти конспективное изложение событий внутри
схем «Хронографии» Женебрара – альтернатива локальному методу «Центурий». Здесь тоже
историю режут по живому, делят на эпизоды и фрагменты; в «Хронографии» автора не
интересуют причины и следствия – он занят созданием правдоподобной универсальной
схемы. Взгляд Женебрара на причины и следствия нам чаще всего неизвестен, но там, где его
можно увидеть, он способен сильно удивить. Так, высокая оценка папы Адриана основана на
том, что никто после Петра не возглавлял Церковь дольше него722!
Периодизация ветхозаветной истории проводится по авторам библейских книг или по
первосвященникам; единства не наблюдается. Линия первородства также соблюдается только
до рождения Иакова (от Сотворения Мира 2109 год). Далее ни одна из событийных линий не
выделяется, факты следуют сплошным потоком. Для сюжетов языческой истории стержнем
является последовательность светских правителей. Характерен пример с основанием Рима («3
год 6 олимпиады»)723: это событие, бывшее важнейшим узловым пунктом для всех античных
историков, у Женебрара не выделено ни структурно, ни в смысловом отношении. Даже на
широком поле параллельно тексту почти ничего не говорится – лишь фиксируется смена
царей. Основание Города само по себе, вне приложения к воплотившей верховную власть
фигуре вед является для Женебрара событием малозначительным. Это – явное влияние
средневековой историографии, для которой фигура правителя, перипетии перехода власти
важнее, а основание города и прочие «культурные» события, не относящиеся к власти,
подчинению одних людей другими военными или политическими средствами, представляли
меньший интерес.
Небрежность в ветхозаветной хронологии объясняется, видимо, традицией: вряд ли
кто-нибудь решился бы критиковать парижского профессора за фактологические огрехи.
Невнимание к деталям воспринимается нами как свидетельство сильно устаревшего научного
аппарата, укоренѐнного в достижениях предшествующей интеллектуальной эпохи. Несмотря
722
723
Ibid. P. 288.
Ibid. P. 66.
374
на принадлежность автора к церковным кругам, его инструментарий плотно связывает его со
светской историографической традицией. По сути, перед нами – попытка нанести
полемический удар «извне» историко-церковного поля, причѐм этот образ напрашивается по
целому ряду причин. Для аргументации используется материал ветхозаветной и древней
истории; широк привлекаются тексты светские (в том числе языческие) источники и тексты
светской историографии, в частности, эпохи Возрождения. Конечно, центуриаторы тоже
цитировали ренессансную историографию, однако она оставалась на втором плане, за
Священным Писанием, церковными документами, патристикой и ранней церковной
историографией. В сочинении Женебрара Церковь подменяет собой всю историю
человечества в целом, а коль скоро это так, то идеологический конфликт с лютеранскими
историками ввынужденно покидает пространство церковной историографии и обретает
«вселенские» черты.
После Рождества Христова история обретает
новое содержание. Изложение
структурировано по столетиям, с отдельным, унифицированным между столетиями
содержанием (в этом влияние локального метода «Центурий» бесспорно). Разделы,
посвящѐнные отдельным столетиям, делятся на две части. В одной рассматриваются «светские
императоры», учѐные и еретики (то есть примечательные представители исторического
процесса вне церковного сословия), а в другой – перипетии смены понтификов, церковные
иерархи, патриархи, Соборы, историки «и прочие писатели». При таких подробных планах и
разветвлѐнных схемах на каждое столетие отводится едва ли не по десятку страниц, которые
заняты лишь колонкой по правой стороне (для наглядности изложение оформлено в виде
таблиц). В сумме, впрочем, работа выглядит солидно, хотя, конечно, она и катастрофически
уступает в фундированности «Центуриям». Периодизация в этой части ведѐтся строго по
папам; череда императоров утрачивает роль стержня, к которой мы привыкли ещѐ с работ 30-х
годов XVI века.
Круг используемых Женебраром источников – это обыкновенная профессорская
домашняя библиотека конца XVI века: в его арсенале, помимо Библии и Талмуда, в основном
присутствуют классические авторы, Отцы Церкви, и, конечно, греческие и римские классики
(включая Манефона, Цезаря и Плиния). Благодаря этому книга выглядит как попытка
совместить греческие древности, римскую литературу с еврейской в надежде создать корпус,
избавленный от внутренних противоречий. Круг прочитанной литературы наложил и
легкопонятные ограничения: турки и арабы присутствуют в ней в основном только в
столкновениях с Европой (исключение – краткийрассказ о зарождении магометанской
375
веры724). О России сведений почти нет: только под 973 годом имеется известие о захвате
руссами Болгарии, «от которого они едва смогли освободиться»725: если бы не упоминание об
этом в 3 книге Зонары, то и его у Женебрара бы не было.
Полемика против «Центурий» в собственном смысле слова была сгруппирована в
конце каждой главы 3 и 4 книги Женебрара (то есть части, посвящѐнной истории
христианской эры). Скорее всего, книга не предназначалась для ведения прямой полемики с
тезисами протестантов, а должна была служить справочным материалом для будущих
полемистов. Описание каждого столетия христианской эры завершалось своеобразным
«резюме» - перечисленными мелким шрифтом основнымипунктами расхождений,
сопровождаемыми – совсем крохотными буквами – указанием на литературу, на которую
эвентуальный полемист мог бы опереться для более развѐрнутого выступления. Тем самым
Женебрар апеллирует своей книгой к образованным людям – к французским священникам,
которым приходится противостоять гугенотам, но главным образом – к немецким, которым
латинский язык будет только облегчать работу с книгой. Немецкие священники, видимо,
представлялись более важной частью аудитории: при опровержении тезисов противников
намного больше упоминаний о центуриях, чем о «кальвинитах». Это, впрочем, может
объясняться и тем, что у «кальвинитов» не было пока ни одного столь крупного произведения
историко-церковного плана. Кроме того, Женебрар был знаком с трудами своих
предшественников-католиков (особенно охотно цитировал Торреса), которые в основном
выступали против «Центурий».
В этих мелких отрывках-резюме красной линией проведена мысль о преемственности
церковного учения – continuatio doctrinae. Посвящѐнные этой теме абзацы – самый важный и
удачный вклад Женебрара в антимагдебургскую полемику. Мастерски написанные строки
внешне производят впечатление полной беспристрастности. Если человек в детстве усвоил
привычку испытывать доверие к церковной традиции, то он, несомненно, сочтѐт книгу
Женебрара абсолютно непредвзятой, а католическую точку зрения – естественной и
единственно правильной. Кроме того, парижский профессор тонко подметил одну
«врождѐнную» слабость «Центурий», а именно тенденцию привлекать для описания событий
внутри того или иного столетия источники из него же; между тем, иногда ценную
информацию могут предложить тексты последующих веков, в частности, вызывающие у него
особое доверие документы церковных Соборов. С другой стороны, Женебрар «открыл»
другой подход к той последовательности, которую Флаций называл «свидетелями Истины»,
представив его как континуум ересей.
724
725
Ibid. P. 264.
Ibid. P. 329.
376
Очевидным достоинством построений Женебрара (как и главным недостатком)
являлось строгое следование схемам, порой довлениющим над живым историческим
материалом. Во введении к 4 книге он предлагает картину, подкупающую своей простотой
запоминания и удобством. Примерно за 500 лет до Первого пришествия появилось царство
Навуходоносора, за 400 – «вторая персидская монархия», за 300 – македонская (греческая), за
200 – «новые княжества индов, парфян и карфагенян» (эту точку было особенно сложно
заполнить). За 100 лет до Иисуса римляне начали покорять Средиземноморье, а с нулевой
точки (Женебрар пользуется цифрой 0) начинается Царствие Божие. Постепенное разрушение
некогда идеального порядка в схеме Женебрара обрело ещѐ один «порог» - примерно 900
года, когда произошѐл «не слишком счастливый переход Империума Запада от франков к
германцам и и лонгобардам (ломбардцам) – матери-Курии апостольской явно траурный
день»726. Великая Схизма была представлена как инициированный греками раскол, ставший
причиной их бедствий и в конце концов покорения их турками. Впрочем, светлые тенденции
также имеют место: потери, нанесѐнные действиями еретиков (лютеран и «кальвинитов»)
частично были возмещены «португальцами в Индиях, испанцами – в Новом Свете».
Второе издание книги Женебрара вышло уже после его смерти в 1608 году, в совсем
другую эпоху, когда сущность межконфессионального диспута уже претерпела глубокие
изменения727.
Новая
редакция
заключалась
в
значительном
расширении
раздела,
посвященного политической истории второй половины XVI века, а особенно – времени,
прошедшего после первого издания. Особое внимание было уделено событиям политической
истории Франции, что легко объяснимо. Политическая история 1580-1605 гг. описана
превосходно, очень полно. Если в первом издании материал о XIII-XVI веках занимал 98
страниц, то во втором ему отведены почти 300: подробно переработан был только этот раздел.
Антимагдебургский запал практически отсутствует – он был незнаком тем, кто готовил второе
издание. В этом отрывке светская история окончательно ворвалась в пространство церковной,
хотя жанр хронографии этому, казалось бы, никогда не препятствовал. Мы не встречаем
сведений ни о трудах Панвинио, ни о выступлениях Беллармино или Баронио. Конечно, выход
в XVII веке книги, на страницах которой признаѐтся подлинность Декреталий и т. п., был
полным анахронизмом, и рассматривать еѐ в рамках межконфессиональной полемики вряд ли
уместно.
726
Ibid. P. 286.
Нам удалось ознакомиться de visu только со вторым томом этого издания, хранящимся в Центральной
Национальной библиотеке Флоренции. Gilberti Genebrardi theologi parisiensis, divinarum hebraicarumque literarum
professoris regii chronographiae pars altera, de rebus a Christo nato ad nostra usque tempora, id est, an. 1599 in duos
libros distincta et è Arnaldi Pontaci Vasatensis Episcopi Chronologico opere locupletata. Prior de rebus ostingentorum
annorum usque ad novum Caroli Magni Imperium, et Leonem III. Pontific. Posterior de aliis octingentis annis ad usque
Clementem VIII. His Centuriatorum impietas, mendacia, imposture coarguuntur, et doctrinae Catholicae continuation ad
singulorum saeculorum coronidem astenditur. Lugduni, 1608. 995+139 c.
727
377
Онофрио Панвинио (1530-1568) – один из ярчайших участников церковной
историографии; только ранняя кончина не позволила ему встать на один уровень с Флацием
Иллириком или Чезаре Баронио, однако и то, что ему удалось завершить, обеспечило ему
достойное место в исследованиях по историографии728.
В возрасте 12 лет Панвинио вступил в орден Августинианцев; Генерал Ордена
кардинал Серипандо (знаменитый покровитель историков и меценат) отправил его в 1545 году
учиться в Падую и Неаполь; уже через 4 года он переезжает в Рим и становится официальным
историографом своего Ордена: первая печатная работа вышла вже в 1551 году. В начале 60-х
годов Панвинио, оставивший свой Орден, был принят на службу в Ватиканскую библиотеку и
написал еѐ первую историю. Подготовка издания «Жизнеописаний Пап» Платины
стимулировала интерес к этому сюжету, однако книга «О разных избраниях Римского Папы»
(1567)729 затронула некоторые деликатные политические темы, а в 1580 году попала в
изданный в Парме «Новый Индекс запрещѐнных книг».
Книга «О Первенстве Петра»730 стала, без сомнения, лучшей критикой «Центурий» до
выхода «Церковных анналов» Чезаре Баронио. Написанная в последний год жизни Панвинио,
она увидела свет только в 1589 году, и, тем не менее, не утратила и толики своей
актуальности. На еѐ подготовку ушло очень много времени: сначала все рукописи были
переданы матери автора, затем в них не смогли разобраться; лишь полтора десятка лет спустя
после смерти Панвинио кардинал Маркантонио Колонна собрал все рукописи, посвящѐнные
отдельным эпохам и отдельным темам, воедино, объединил их в одном тексте и издал с
посвящением папе Сиксту V. Посвящение Панвинио Пию V также было приведено.
Отправляясь с кардиналом Алессандро Фарнезе на Сицилию, Панвинио передал
кардиналу Колонне две книги, пообещав по возвращении написать и третью. Там он
скоропостижно скончался в Палермо; умирая, он взял слово с кардинала, что тот обеспечит и
отредактирует издание книги, если сочтѐт еѐ нужной для «республики»731. Колонна не
решился самостоятельно выносить суждения по множеству вопросов и ощутил потребность в
помощи экспертов. Для получения этой помощи он пригласил нескольких теологов во главе с
кардиналом Гульельмо Сирлето, которые не только завершили работу над проектом, но и
отшлифовали первые два тома. Они уточнили источники цитирования, сноски, но в целом
доля их участия в написании книги, по всей видимости, была невелика. Паратекст издания
728
Посвящѐнная Панвинио историография очень небогата, и целый ряд работ не вышел по разным причинам.
Можно выделить Perini D. M. Onofrio Panvinio e le sue opere. Roma, 1899. 304 c.; Orlando C. Onofrio Panvinio.
Palermo, 1883. 45c; . Dictionnaire de Theologie Catholique. V. 11, p. 2, Paris, Letouzey, 1932, cc. 1874-76; Wetzer und
Welte’s Kirchenlexikon. Bd. 9, Freiburg, 1895, cc. 1366-1367.
729
[Panvinius O.] De varia Romani Pontificis creatione libri X. Romae, 1567. 331 c.
730
[Panvinius O.] De primatu Petri et Apostolicae Sedis potestate libri tres contra Centuriarum auctores, Veronae, 1589.
376 c.
731
De primatu ... Introductio. n. n. †2r.
378
сообщает нам ряд подробностей. Письмо Колонны, посвятительное письмо Панвинио и
оглавление объединены особой «кинжальной» пагинацией; «Предисловие» Панвинио к
самому сочинению имеет свою буквенную пагинацию. Очевидно, особая пагинация выделила
то, что добавили к первоначальному проекту Панвиния редакторы; они и составили, в
частности, оглавление. Оно, кстати, не имеет указаний на страницы и является просто
перечнем основных параграфов. Очевидно, книга не предназначалась для справочного
использования, а планировалась для сквозного прочтения. При этом она была издана
небольшим форматом (300 с небольшим страниц in 8°), что делало еѐ удобным спутником для
странствующего церковника.
Панвинио
поставил
своей
целью
ответить
оппонентам
не
эмоциями
или
оскорблениями, а так, чтобы «сами противники не смогли аргументированно отрицать или
отворачиваться от древних свидетельств, их мудрости и надѐжности»732. Открывается книга
трактатом из шести глав, посвящѐнным вопросу о Первенстве Петра согласно Священному
Писанию. Цитируются 17 библейский эпизодов, которыми иллюстрируется необходимость
наличия руководителя у Церкви (то есть этого «Первенства»), учреждение его Иисусом в лице
Петра, а также отличающее Петра среди других Апостолов «право ключей» (столь жарко
оспоренное центуриаторами право руководителя Церкви накладывать церковное отлучение).
Очевидно, этот написанный на одном дыхании отрывок был самостоятельным сочинением
Панвинио.
Затем следуют четыре главы, в которых собраны подтверждающие неоходимость
папского
лидерства
тексты
святоотеческой
литературы.
Отдельно
рассматриваются
свидетельства доникейских Отцов (Дионисия Ареопагита, Септимия Флорента, Тертуллиана,
а также Оригена, Киприана и даже Арнобия (40-56). Используется также авторитет «четырѐх
главных докторов» - Амвросия (56 и далее), Августина (lux doctorum, haereticorum malleus, 60
и далее), Иеронима (71) и Григория Великого (74). Затем привлекаются и пост-никейские
Отцы. Последним из них был папа Иннокентий III (1198 год). Интересно, что греческие Отцы
нечасто касались темы примата Петра (и уж тем более преемственности между Петром и
римскими первосвященниками), однако их присутствие вполне полноправно и не теряется на
фоне Отцов латинских. Например, весьма красноречивые рассуждения св. Григория Богослова
в “Sermo de moderandis disputationibus” о том, что церковь устроена таким образом, что одни в
ней овцы, а другие – пастыри, используются как важный логический кирпичик. Далее
приводятся решения Соборов и выступления на эту тему средневековых авторов.
Завершающая первую часть («О первенстве Петра и власти Римского Престола») глава
посвящена разъяснениям различий в интерпретации папства католиками и протестантами.
732
Ibid. Praefatio. P. I.
379
Говорится, в частности, о том, что апостолы поставлены не для руководства Церковью, а для
служения ей, что апостолы сами неоднократно возвращались к вопросу о том, кто из них
должен быть лидером. Наконец, знаменитые слова из Мф 16 (tu es Petrus – «ты Петр, и на сѐм
камне…») интерпретируются в духе, уже встречавшемся у ряда наиболее авторитетных
авторов, в том числе – Августина и Иеронима: под «сим камнем» Иисус имел в виду не Петра,
а себя самого, что вполне можно представить себе, если исходить из евангельского текста
буквально.
Вторая часть книги – «Об использовании Первенства и власти Св. Петра» - основана на
тех фрагментах Писания (в основном – Деяний Святых Апостолов), в которых Пѐтр реализует
данное ему Иисусом первенство. Эти фрагменты комментируются обильными цитатами из
Отцов Церкви. Панвинио не нуждается в том, чтобы отстаивать перед центуриаторами
авторитет Отцов: до тех пор, пока они не противоречат бесспорному во всех отношениях
Писанию, они могут оставаться за рамкой исторической критики. В этой части Панвинио
берѐтся за то, чего все предыдущие критики «Центурий» избегали – он систематически
обсуждает доводы оппонентов, стремясь выдвинуть контраргументы по поводу каждого из
них. Поиск пропущенных или замалчиваемых центуриаторами текстов не требовал такой
эрудиции, какая была нужна Панвинио для того, чтобы попытаться обратить в проигрышные
наиболее выигрышные тезисы центуриаторов. В частности, анализируя Писание, он
соглашается с отсутствием в нѐм указаний на исключительное положение апостола Петра в
церковной иерархии, но доказывает принадлежность его к наиболее почитаемым, выделяемым
как лично Иисусом, так и через последующие события Деяний Апостольских. Из Послания к
Галатам (Гал 2) делается вывод о том, что Пѐтр был направлен к иудеям, а Павел – к
язычникам733; Пѐтр сам не претендовал на первенство среди апостолов, а это означало, что
никаким особенным «мандатом Иисуса» он не обладал (1 Пет 5)734; Павел не стремился
соперничать с Петром, а в Посланиях и Деяниях Апостольских проблемы «государя Церкви»
(dominus Ecclesiae) вообще не существовало (на основании Посланий к Галатам и к
Коринфянам)735. В 8 главе Деяний Апостольских апостолы сообща направили Петра в
Самарию, что также указывает на главенство коллегиального решения над личной
инициативой736. Мы видим, что католический автор фактически отказывается от тезиса,
бывшего опорой всех без исключения авторов католических критик «Центурий». В чѐм тут
дело?
733
Ibid. P. 158.
Ibid. P. 166 и далее.
735
Ibid. P. 172.
736
Ibid. P. 173 и далее.
734
380
Во-первых, Панвинио очень далѐк от мысли увязывать образ Петра в Священном
Писании с авторитетом Святого Престола в его настоящем. Во-вторых, приводимые им
аргументы были направлены не против Папства, а на доказательство несостоятельности
выдвинутых центуриаторами в адрес римской Церкви обвинений. В-третьих, эти взгляды
высказывались в форме сложных логических построений в контексте полемики против
тезисов, не вызывавших сомнений в своей ошибочности в глазах правоверных католиков.
Таким
образом,
Панвинио
высокопоставленный
ничем
церковный
особенным
иерарх,
не
рисковал,
подготовивший
эти
как
тексты
не
к
рисковал
и
посмертной
публикации. Очень важно, что Панвинио делает шаг навстречу противнику, стремясь к
конструктивному
обсуждению.
Эта
демонстрация
«доброй
воли»
имела
большое
идеологическое значение: вместо обвинений или проклятий именно католическая сторона
сделала попытку разобраться по существу, даже уточнить путѐм некоторых уступок свои
позиции. Коррекция Панвинио не ставила, в общем, под сомнение идею глубокой
преемственности между Иисусом Христом и папством в деле руководства католическим
миром, поскольку эта идея была основана не на историческом (псевдоисторическом)
представлении о «переходе власти», а на фактическом положении вещей. Иисус управлял
земной Церковью (руководил Апостолами и посделователями) во время своей жизни, а
сегодня земной церковью управляют папы – вот и преемственность.
Далее, в третьей части своего труда Панвинио переходит к обсуждению важного
вопроса об историчности приезда Петра в Рим. За соображениями о роли Рима в античном
мире и рациональности личного приезда туда авторитетного Апостола для проповеди
христианства стоит стремление вновь обратить в свою пользу свидетельства множества
церковных авторов, понимаемых не как исторический источник (Панвинио демонстрирует
тонкое понимание пределов возможности их интерпретации в качестве таковых), а как
иллюстрация, красивое описание, уважаемое мнение. Он цитирует 25 церковных авторов от
Филона Александрийского до Феофилакта. Затем последовательно опровергаются 18
высказанных центуриаторами соображений, направленных против историчности приезда
Петра в Рим. Панвинио пересчитывает хронологические выкладки центуриаторов и в ряде
случаев с ними не соглашается; посогают ему и аргументы из второй части книги. В
частности, если существовал следующий из Послания к Галатянам «пакт» между Павлом и
Петром относительно проповеди средии иудеев и язычников, то как же Пѐтр мог нарушить его
и отправиться в Рим сместо Павла? В ответ Панвинио сопоставляет маршруты Петра и Павла,
аккуратно высчитывая время и скорость перемещений. Наконец, он пространно резюмирует
полученную
картину.
Избранная
логическая
система
«тезис-антитезис-опровержение
381
антитезиса»737 основывается на уточнѐнных, значительно менее обязывающих формулировках
традиционных для католической Церкви тезисов, выступлений против них центуриаторов
(иногда парафразированных для более очевидного опровержения), а также собственных
доводов в защиту изначальных тезисов.
Вторая книга Панвинио посвящена традиции Святого Престола, его Первенству и
политике римских Пап. Как Папы реализовывали своѐ Первенство, проотив которого так
яростно выступают центуриаторы? Они борятся с идолопоклонничеством, отправляют
проповедником, обращаются к местным церквям с посланиями, формулируют основные
понятия веры и опровергают ложные, борются с ересями и так далее – в общем, не делают
ничего предосудительного. Панвинио не оспаривает безобразий, обильно приведѐнных в
«Магдебургских центуриях» для характеристики папской политики, однако это умолчание
делает их частным случаем, отступлением от правил, иногда простительным и никак не
закономерным. Папские деяния подробно классифицированы и разбиты на 100 с небольшим
глав, каждая из которых посвящена той или иной типологии действия.
Подведѐм итог. Панвинио принял предложенные центуриаторами правила игры и в
отношении библейских времѐн построил свою критику исключительно на библейском
материале. Тем самым он практически исключил из системы аргументации по I веку н. э.
более поздних авторов, причѐм даже тех из них, кто вполне почитался Римской церковью.
Это, с одной стороны, свидетельствует об объективном характере ценностей, добытых
центуриаторами в ходе их колоссального труда: правило полемики, преломляющее
ренессансное ad fontes в призме теологической литературы и принятых в богословских кругах
научных приѐмов, было усвоено и разделялось теперь обеими участвующими сторонами.
Можно даже сказать, что устами Панвиния, воздержавшегося от упоминания Отцов как
церковных авторитетов и обратившегося исключительно к Писанию, католическая сторона
приняла
упрѐк
лютеран
и
из
соображений
научной
добросовестности
обратилась
непосредственно к источнику, стремясь превзойти противника в качестве его обработки.
Книга воплотила в себе попытку издать нечто очень фундированное, но не столь
тяжеловесное по сравнению с трудами Канизия или Торреса. Маркетологи Св. Престола
отлично поработали: идея выдать книгу, исключительно эффективную, но при этом
посвящѐнную единичному сюжету, была очень выигрышной. Бесспорно, покойный Панвинио
с его глубочайшей антикварной эрудицией пришѐлся тут очень кстати. Использовать образ
талантливого, но рано покинувшего этот мир отшельника-августинианца для глобальной
полемики в качестве стратегического наступательного вооружения было нереально, а вот для
того, чтобы продемонстрировать не только доктринальное, но и общее интеллектуальное
737
Ibid. P. 285-320.
382
превосходство католической партии, было в самый раз. Книга написана гладкой латынью, не
перегружена ссылками, за которые цепляется глаз. Стиль книги (возможно, это заслуга
редакторов конца 80-х годов) также отличал еѐ в лучшую сторону – изложение совершенно
лишено монотонности «Центурий» и их мощного системного подхода, демонстрирующего
тотальное превосходство логики над человеком. Для сочинений Панвинио вообще характерен
приѐм диалога с читателем – постановка простых вопросов, на которые даются очевидные
ответы, часто с цитатами из Писания. Наиболее сильные стороны католической партии
проявились в этой книге самым выигрышным образом. Шрифт был подобран крупный, чисто
физически книга воспринимала легче, логические построения были безупречны, и даже если
можно ощутить их некоторую искусственность (минимум чрезмерность), то противопоставить
им что-либо трудно. Для этого надо либо отвергнуть одно из начальных положений
силлогизмов (а это значило поставить под удар свою уверенность в вере и дать понять это
окружающим), либо найти ошибку в формальной логике. Для этого надо обладать
совершенным знанием локального метода и в более широком смысле идейного наследия
Второй Схоластики. С другой стороны, ограниченность сюжета Петром и его временем делало
задачу создания такой книги реальной для автора, а прочтение еѐ – реальным для читателя.
Бесспорно, Панвинио был превосходным историком, настоящим профессионалом
высшего уровня (в отличие от большинства товарищей по критике «Центурий»). Он не только
глубоко изучал источники, прекрасно владел наследием патристики, знал древние языки; его
эрудиция в этих областях шла намного дальше принятой даже среди наиболее образованных
гуманистов. Всего Панвинио выпустил почти семь десятков книг, большинство из которых не
уступали рассмотренной по фундированности, отточенности аргументации, логичности и
связности
изложения.
В
рассмотренной
книге
(единственной,
относящейся
к
межконфессиональной полемике) проявились его лучшие качества – отсутствие претензий на
«монополию на Истину», готовность к диалогу; он не позволял своим догматическим
убеждениям подменять строгий анализ данных источника. Дорогого стоит примечание в
конце Оглавления, поставленное от имени Панвинио и выражавшее его собственную волю 738:
при обсуждении того, что касается авторитета Римского первосвященника, он решил
опираться только на тех авторов, которые писали в эпоху до Карла Великого и которых
«недавние еретики» считают наиболее авторитетными. Историк не только относился к
собственной позиции и заслугам с исключительной скромностью, но и постоянно упоминал
современников, чем-либо поддерживавших его или высказывавшихся на обсуждаемые темы.
Даже в случае расхождения во мнениях с другими авторами-католиками Панвинио выступал
принципиально, но очень доброжелательно, оставляя даже у читателя из XXI века ощущение
738
Ibid. P. ††† ult.
383
исключительного такта, доброты, нехарактерной для молодого человека мудрости. В
частности, он полемизировал с Антонио Агустином, Карло Сигонио, Паоло Мануцио,
Иеронимом Торресом и многими менее известными интеллектуалов своего времени. Онофрио
Панвинио не только сделал шаг в развитии церковной историографии католического
направления, но и задал высочайшие стандарты профессионального качества, сыгравшие
решающую роль в дальнейшей эволюции церковной историографии. С момента выхода в свет
его труда и первого тома «Церковных Анналов» Чезаре Баронио (1589) инициатива в
дискуссии надолго переходит к католикам.
384
Глава 4. Оформление католической историко-церковной концепции:
«Церковные анналы» Ч. Баронио
§1. Кардинал Чезаре Баронио. Обстоятельства работы над «Церковными
анналами»
Чезаре Баронио родился в 1538 году в городе Сора (Неаполитанское королевство).
Родители Камилло Бароне и Порция Флебония были выходцами из обеспеченных
неаполитанских семей, почитателей классической древности. В детстве мальчик получил
вполне гуманистическое начальное образование. В итальянской провинции, вдали от
университетских центров это понятие подчас было формализовано и содержало набор
обязательных сведений из латинского языка, литературы и истории. Поначалу ничто не
давало повода предположить склонность молодого человека к церковной карьере: учился
он с интересом, а в возрасте 18 лет, воплощая мечту многих его молодых земляков, уехал
учиться праву в столичный университет. Неаполитанский университет славился своей
особой школой подготовки юристов, многие из которых достигли больших высот. Вскоре,
однако, судьба молодого человека делает крутой поворот. Уже на следующий год (осенью
1557 года) он уезжает в Рим, где поначалу продолжает учѐбу. Семья его не имеет о нѐм
никаких сведений; отец впадает в отчаяние, решив, что сын в Риме повторит судьбу
многих молодых провинциалов и сгинет в его злачных местах739. Крайней мерой был
отказ от родительской материальной поддержки: отправку денег сыну для прожигания
жизни в вертепах сочли нецелесообразным.
Сын, однако, был занят совсем другими вещами. Поначалу он действительно
посещал в университете лекции известного юриста Чезаре Косты. Зайдя однажды в
находившуюся неподалѐку от снятой комнаты церковь св. Иеронима (San Girolamo della
Carità), молодой провинциал познакомился с ярким деятелем католической Реформы
Филиппо Нери740. Воздействие этой встречи на жизнь Чезаре невозможно переоценить:
студент-провинциал испытывает непреодолимое желание никогда более не расставаться с
духовным наставником. Дошло до того, что Филиппо пришлось заставлять Чезаре
заниматься юриспруденцией в рамках специально наложенного послушания. Филиппо
Нери собрал вокруг себя молодых единомышленников, которые вместе читали Библию
739
Calenzio G. La vita e gli scritti del Cardinale Cesare Baronio della Congregazione dell’Oratorio. Roma,
Tipografia Vaticana, 1907. P. 14.
740
Нери Филиппо (1515-1595) – видный деятель католической церкви, один из крупнейших идеологов
Контрреформации. Основатель Конгрегации Ораторианцев, католический святой (1622).
385
(особой любовью их, как мы знаем, пользовалось Евангелие от Иоанна), а также ходили
по римским лечебницам, где оказывали помощь больным и умирающим. Этот кружок,
разместившийся с 1558 года при церкви Св. Иеронима, впоследствии ляжет в основу
новой церковной организации – «Конгрегации Оратория» (т. е. молельни), известной
сегодня как «Конфедерация ораторианцев св. Филиппа Нери». Однажды из Соры к Чезаре
приехал его отец, и несколько дней сын не мог уделить ему своего внимания. Поначалу
казалось, что худшие подозрения относительно прожигания жизни в римских вертепах
подтверждались. Однако, когда выяснилась истинная причина занятости сына, отец –
глубоко светский человек – окончательно отказал сыну от родительской помощи.
Материальная независимость была тяжѐлым барьером для молодого Чезаре.
Некоторое время ему пришлось питаться только рыбой, которую привозил в Рим из Гаэты
его знакомый. Нуждающийся молодой человек вскоре был вынужден наняться к своему
приятелю Оттавио Паравичино гувернѐром его сына. Целых 7 лет это место обеспечивало
его и кровом, и пропитанием.
С самого начала посещений Оратория Филиппо Нери привлекал Баронио к
публичным выступлениям, которые представляли особую сложность. По решению
наставника, умерщвление духа Баронио теперь включало регулярные выступления перед
публикой, причѐм основными темами были предписаны смерть и загробный мир. Эта
тематика не была необычной для Оратория, но на характер молодого человека она
наложила несомненный отпечаток. Чезаре строго соблюдал евангельскую простоту и
бедность, из тягостного обстоятельства жизни превратившуюся в моральный императив.
Меньший отклик нашѐл в душе молодого человека знаменитый призыв наставника,
предписывавший членам нового сообщества поддержание весѐлого расположения духа.
Со временем наставник побудил Чезаре изменить тему выступлений, и теперь рассказы
посвящались эпизодам церковной истории. Со временем они превратились в самый
настоящий лекционный курс, чтение которого растягивалось на четыре года; по истечении
их Баронио начинал рассказы заново.
В 1560 году Баронио «официально» вступил на духовную стезю и был
рукоположен в иподиаконы. В 1561-м он получает степень доктора права in utroque jure –
гражданского и церковного. Сообщив об этом отцу, он считает, что сыновний долг
выполнен: теперь можно и разорвать диплом, и сжечь написанные в студенческие годы
вирши. При вступлении в священнический сан в 1564 году встал вопрос о том, в какой
церкви служить. Чезаре отверг удобное предложение, поступившее из его родного города
Соры, и остался в Риме. Неоднократно отказывался Чезаре Баронио от возможностей
продвинуться в рамках церковной иерархии, отказываясь от различных выдвижений.
386
Видимо, определѐнную роль в этом упорстве сыграл Филиппо Нери: любопытно заметить,
что Баронио прекратил отвергать новые назначения сразу же после смерти своего
наставника. Пик церковной карьеры Баронио начался с устроенного им примирения
французского короля Генриха IV (1593) с папским престолом. Влияние его на церковные
дела распространялось далеко за пределами библиотеки, префектом которой он был. С
1595 года Баронио был также Генеральным настоятелем Конгрегации Оратория. Тогда же
он стал папским исповедником и протонотарием, а в следующем году – кардиналом. В
1605 году он после кончины Климента VIII даже баллотировался в папы, но избран не
был741.
Как бы то ни было, в официальных изданиях Курии (особенно для широкой
публики)
факты
исключительной
скромности
Баронио
всячески
превозносятся.
Вспоминают и ключик от своей комнатки в церкви Валичеллы, который на память носил с
собой Баронио, уже служа в Ватиканской библиотеке, и надпись над входом в свой
кабинет «смертному достаточно», за которую он даже получил как-то строгий выговор
церковных властей742. Смирение, требования к которому в Оратории были особенно
высоки, стало своего рода гордыней, уводящей Баронио в сторону от пути христианской
добродетели. Строгие руководители это отметили, но Баронио это, видимо, не остановило.
Подчѐркнутая (порой нарочитая743) скромность в быту достигала крайних форм, хотя и
соответствовала в целом новой эстетике Контрреформации. В частности, Баронио очень
скудно питался, постоянно постился и всячески умерщвлял плоть даже в старости, будучи
одним из высших иерархов католической церкви. Кроме того, его постоянно одолевали
мысли о дьяволе, смерти и потустороннем мире; он в деталях представлял себе свою
кончину и загодя еѐ распланировал744.
741
О Конклаве 14.03 – 2.04.1605 см. Pastor L. von. Storia dei papi. Roma, Desclée, 1930. V. XII, pp. 3-15.
Эта надпись и отмеченное в ней «излишнее смирение, путь к возвышенной гордыне» стали для
Священной Конгрегации обрядов поводом для остановки процесса беатификации Чезаре Баронио.
Подробнее об этом см. Tomassetti G. Il Cardinal Baronio a Frascati. In: Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo
centenario della sua morte. Roma, 1911.
743
В литературе встречается эпизод, когда молодой Баронио, служа в доме Паравичино, осуждал как
фривольные имевшиеся там на стенах росписи на античные сюжеты, которые в конце концов
собственноручно закрасил краской. См., например, Moroni G. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da
S. Pietro sino ai nostri giorni specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici,
cardinali e più celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cettolica, alle città patriarcali,
arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai riti, alle ceremonie sacre, alle
cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi, militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte e
curia romana ed alla famiglia pontificia, ec. ec. ec. V. 4. Venezia, 1840. P. 140.
742
744
Глубокая печаль Баронио, проявляющаяся в самых различных ситуациях, привлекла к себе внимание
Роберто Де Майо. См. De Maio R. Baronio storico. In: Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno
internazionale di studi, Sora, 6-10 ott. 1979. A cura di R. De Maio, L. Gulia, A. Mazzacane. Sora, 1982. P. I-XXXII.
Отмечалось, в частности, что даже в ситуациях, способствующих ироническому восприятию, Баронио
демонстрировал мало юмора и много тоскливых переживаний. Историк выяснил, что решающий поворот в
387
Множество легенд окружают в католическом предании образ Чезаре Баронио.
Например, рассказывают, что в 1577 году, когда Конгрегация готовилась к переезду в
специально отведѐнную для неѐ перестроенную церковь Санта-Мария-ин-Валичелла, на
последнюю проповедь прилетела белая голубка, дослушала проповедь до конца и затем
взлетела в направлении нового местоположения Конгрегации. Даже хрупкое здоровье
стало объектом контрреформационного чудотворения: говорят, что во время тяжѐлой
болезни, сразившей Баронио в 1572 году, от смерти его спасло только личное
вмешательство Нери, сказавшего в разгар пламенной молитвы Господу: «Отдай мне его,
он мне нужен!». Успехи Барония на историческом поприще католики порой относят на
счѐт
его
«сверхъестественных
дарований»,
хотя
они
вполне
объяснимы
его
замечательным упорством и трудолюбием. Легенды о жизни Баронио передавались
церковными авторами из сочинения к сочинению. При том, что сам Баронио относился ко
всяким «чудесам» весьма скептически и со страниц своего сочинения их значительно
потеснил, его биографы, наоборот, тщательно их собирали. Часто полные «волшебств»
биографии Баронио745 публиковались в сокращѐнных или полных переизданиях его
«Анналов»; сочетание это было довольно странным.
В последние месяцы жизни, когда силы подошли к концу, Баронио уехал на
загородную виллу и продолжал работать там. Однажды июньским вечером 1607 года он
понял, что его час пришѐл. Отложив перо, он попросил домашних отвезти его в Рим –
«неприлично кардиналу умирать в деревне»746 - в ставшую родной церковь в Валичелле
(ту самую, ключик от кельи в которой он все эти годы носил с собой). Силы историка
были подорваны не только упорными трудами, но и истощившими тело постами и
другими умерщвлениями плоти. В последние годы его мучили сильнейшие желудочные
боли, усилившие обычную угрюмость и замкнутость. 30 июня 1607 года он умер в
ставшей родной келье, окружѐнный собратьями-ораторианцами. Похороны его тоже стали
частью легенд: целых тридцать кардиналов стояли у алтаря во время отпевания, а после
нищие выдирали у любимого пастыря волосы и пытались оторвать от одежды своего
любимца лоскуток на память. Так было принято. Доведѐнное почти до абсолюта смирение
Барония проявилось даже после смерти: последнее упокоение он нашѐл среди
умонастроении Баронио совпал по времени с переходом от планирования работы и сбора материалов к
непосредственной работе над сочинением.
745
Например, в них рассказывалось, как к собиравшей милостыню молодой матери Баронио подошѐл некий
монах, предсказал мальчику великое будущее на церковном поприще, а затем растворился в воздухе; как
двухлетний малыш умирал от лихорадки, а мать понесла его с собой в люльке на богомолье «за тысячу
шагов от Соры», и после трѐхдневной (!) молитвы малыш вдруг поправился, а сверху раздался голос,
пообещавший матери, что мальчик не умрѐт.
746
Roncalli A. Il Cardinale Cesare Baronio. Roma, 1961, p. 45.
388
священников той самой церкви, в которой он нѐс пастырское служение, в которую его и
привела голубка. На картине Караваджо «Снятие с креста» (1601-04), написанной
специально для церкви Санта-Мария-ин-Валичелла (где похоронены и Филипп Нери, и
Чезаре Баронио) и сегодня хранящейся в Ватикане, в образе Никодима изображѐн Чезаре
Баронио. Деятельность Баронио получила высочайшую оценку Курии: в 1745 году он был
причислен к лику досточтимых.
После того, как в середине 50-х годов XVI века конфликт между Флацием и
Меланхтоном стал всеобщим достоянием, в Риме узнали, что непримиримый враг готовит
невиданное идеологическое оружие. Как мы уже видели, курия решила действовать на
опережение по нескольким направлениям одновременно. В поисках человека, способного
подготовить не менее масштабный контрудар, Филиппо Нери предложил кандидатуру 20летнего Чезаре Баронио, обнаружившего в своих выступлениях в Оратории склонность к
систематическому
изложению
церковной
истории747.
Противники
Курии
были
высокообразованными специалистами, причастными передовым гуманитарным знаниям
Возрождения. Для того чтобы дать им бой, необходимо было работать с максимальным
напряжением сил и собрать колоссальный материал. Одновременно с трудами Баронио, по
согласованию с Нери, не прекращает трудов в Конгрегации, необходимых, по мнению
наставника, для обуздания духа. Учѐный, облечѐнный высоким доверием Понтифика,
получивший к тому же от него личное и очень сложное поручение, продолжал ходить по
лечебницам и приютам для безнадѐжных больных, выступал с проповедью перед
братьями и даже исполнял различные бытовые послушания.
Согласно
широко
распространѐнной,
запущенной
ещѐ
самим
Баронио
в
предисловии к первому тому «Анналов» версии748 непосредственная работа над
сочинением началась сразу после договорѐнности Филиппо Нери с папой, в конце 50-х
годов. Молодой человек не был уверен в себе, не чувствовал себя достаточно
подготовленным, а главное, не испытывал никакого энтузиазма по поводу возложенной на
него обязанности. Узнав о ней, он поначалу долгое время проводил в размышлениях о
долге священнослужителя и о том, как он сочетается с учѐными занятиями, о Евсевии
Кесарийском…
747
Это известное обстоятельство, частые беседы Баронио с Ф. Нери, а также опубликованная в «Анналах»
«благодарность» историка своему наставнику позволили вести речь о последнем как авторе идеи
«Анналов». Этот тезис в последнее время подвергается справедливому сомнению, однако известно, что
слухи об этом способствовали в своѐ время успеху запуска процесса беатификации Нери. См. De Maio R.
Baronio storico ... P. XII.
748
AER, AEM. V. 1, Praefatio (n. n.).
389
Итак, он был очень далѐк от всякой мысли писать что-либо и публиковать.
Всецело и постоянно пребывая в оцепенении от этих размышлений, он услышал какой-то
голос, говорящий так: «Ты будешь тем, через кого будет написана История!». Не
поверил Баронио этому голосу, поскольку он совершенно не считал себя пригодным к
этой деятельности и никогда ни к чему подобному не стремился. На этом вынесенном с
самого начала мнении он настаивал и в своих речах перед собратьями. Но какого рода
был этот голос, выяснилось из последующих событий, то есть когда вопреки
собственным желаниям он (Баронио. – ИА) направил свой дух на книжные занятия, не
возникло никакого сомнения в том, что предзнаменованием этого голоса сам Господь
пожелал укрепить человека и подготовить к последующей деятельности, сделав его
смелее и упорнее749.
Позднее истинность утверждения Баронио о том, что работа над «Анналами»
началась ещѐ в 50-е годы, была подвергнута серьѐзному сомнению. Людвиг фон Пастор
обнаружил доказательства того, что вплоть до конца 70-х годов член Оратория «доктор
Бароне» занимался в основном каждодневным церковным служением, «исповедовал и
проповедовал»750. Ромео Де Майо установил, что специальная комиссия поручила
Баронио подготовить систематическое опровержение «Центурий» лишь зимой 1576 года,
оставив собственно богословскую часть за Роберто Беллармино751.
Согласно современным данным, к написанию текста Баронио приступил лишь в
1577 году752, а первый том в своѐм первоначальном варианте был готов два года спустя 753.
Лишь после этого историк получил в своѐ распоряжение все богатства папского архива и
библиотеки (первый том был основан на анализе Священного Писания и произведений
Отцов церкви, и его исторический материал в первой версии потребовал лишь мнимум
архивных ресурсов). Документы из Ватиканского архива, впрочем, стали выдавать на дом
только после выхода второго тома «Анналов»754. После этого в распоряжении историка
749
Borromeo F. Philagios sive de amore virtutum libri duodecim. Mediolani, 1623. Эту историю привѐл в своѐм
исследовании Акилле Ратти (будущий папа Пий XI). Цит. по: Ratti А. Opuscolo inedito e sconosciuto del card.
Cesare Baronio con dodici sue lettere inedite ed altri documenti che lo riguardano. In: Per Cesare Baronio. Scritti
vari nel terzo centenario della sua morte. Roma, 1911, p. 234-236.
750
Pastor L. von. Storia dei papi. V. IX, Roma, Desclée, 1925. P. 872.
См. его предисловие в Zen S. Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico. NA, 1994. P. V.
752
Именно этим годом датировано обращение Баронио к руководителю Инквизиции Ребибе с просьбой дать
ему официальное разрешение на чтение «Центурий» и некоторых других текстов. Jedin H. Kardinal Caesar
Baronius. Der Anfang der katholischen Kirchengeschichtsschreibung im 16. Jahrhundert. Münster, Aschendorff,
1978. S. 37.
751
753
754
Zen S. Baronio storico ... P. 159. См. также Calenzio G., Op. cit. P. 161.
Zen S. Baronio storico ... P. 70.
390
оказался материал, вполне сравнимый с тем, который с огромными затратами и порой с
риском собирали по крупицам члены обширного коллектива «Магдебургских центурий».
Тем не менее, и его не хватало. Об этом свидетельствует, например, составленный в
нескольких копиях список греческих книг, заказанных для Баронио в парижской
Королевской библиотеке755. Проблема была в том, что при создании своей концепции,
сколь бы простой и понятной она ни была, историк мог опереться только на крайне
ограниченный
круг
произведений
своих
предшественников.
Историко-церковная
традиция от Евсевия до Иоахима Флорского, Ордерика Виталия и далее охватывала лишь
часть анализируемого временного периода и не выстраивала весь обильный материал в
единую концепцию. По сути, единственным сочинением, отличавшимся широким
хронологическим охватом и одновременно не «заряженным» идеологически, были
«Жизни
пап»
Платины
–
единственный
компендиум,
устраивавший
Баронио
концептуально, и в то же время высшая точка ренессансной историографии.
Несмотря на привлечение различных ресурсов, работа Баронио была очень
продолжительной (заняла 30 лет его жизни), а затраченные усилия – колоссальными.
Причину такой продолжительности историки обычно видят в огромном количестве
подлежавшей обработке информации, в объѐме готовившегося сочинения. Нам
представляется, что основная причина заключается в нерациональности расходования
времени и в недостатках организационного порядка, с которыми в своѐ время довольно
успешно (особенно на первых порах) боролись центуриаторы. Баронио постоянно
возвращался в своей работе назад, готовил переиздания вышедших ранее томов; новые
тома сопровождались всѐ более обширными уточнениями материала предыдущих,
комментариями и всѐ более пространными рассуждениями на отдельные темы.
Стремление к максимальной тщательности, перфекционизм стали свидетельством не
только добросовестности и чувства ответственности историка, но иего неумения
расставить приоритеты. Известно, что он вносил правку даже в гранки уже почти готового
тома, что крайне затягивало публикацию, заставляя издателя терять время и нести
дополнительные издержки. Кроме того, Баронио, как мы видели, много времени уделял
актуальным вопросам церковной политики, пастырскому служению, послушаниям и
другим делам, не связанным непосредственно с историческими изысканиями. После
представления рукописи первого тома Баронио получил всестороннюю поддержку
Святого Престола. К работе подключились некоторые собратья-ораторианцы, уточнявшие
сноски, вносившие корректуру и вычитывавшие гранки. Баронио получил от папы Сикста
755
Index librorum graecorum Bibliothecae Regis Gallorum qui usui fuit Card. Baronio in contexendis annalibus
ecclesiasticis. См. Mostra per il IV Centenario della nascita del Card. Cesare Baronio. 1538-1938. Roma, 1938. P. 6.
391
V денежное содержание (400 скуди в год), был урегулирован вопрос о печати «Анналов» в
папской Ватиканской типографии. Тем не менее, публикация первого тома была отложена
снова – Баронио решил внести некоторые изменения в структуру тома, которые повлекли
за собой многократные возвращения к редактированию.
Первый том «Анналов» появился в печати в 1588 году, вызвав в католическом мире
всеобщее ликование. Через год после выхода первого тома один аббат писал Баронию:
«по сравнению с тобой мы – едва лепечущие дети»756. Стали поступать многочисленные
похвалы, сравнения с Евсевием стали общим местом; первым был, видимо, церковный
историк и антиквар Иеронимо Бланка757.
После этого за 19 лет с 1588 по 1607 год Баронио успел подготовить ещѐ 11 томов,
доведя повествование до 1198 года. Тома пользовались большим успехом, причѐм не
только среди сторонников римской церкви. Даже на книжной ярмарке во Франктурте-наМайне «Анналы» Баронио продавались отдельными томами с большим коммерческим
успехом.
Мы не отрицаем того, что объѐм переработанной и изложенной информации был
огромным. При том, что первые тома Баронио подготовил в одиночку, проделанная им
работа была сопоставима по масштабу с «Центуриями» и в некоторых аспектах даже
превосходила их глубиной. Послушания были постепенно сокращены, а потом и вовсе
отменены; для того, чтобы дать историку возможность заниматься порученной работой
постоянно, в 1597 году Баронио назначают Префектом Ватиканской библиотеки.
Собственно библиотекой Баронио занимался мало, это имплицитно признают и
католические авторы758. Назначение было, конечно, признанием заслуг историка,
выпустившего к тому времени несколько томов своего труда; оно избавило Баронио от
бытовых трудностей, обеспечило все условия для работы, включая группу помощников.
Несмотря на то, что коллективный характер «Анналов» католической историографией
тщательно замалчивается, известно, что в штате библиотеки были специалисты по
латинской и греческой литературе, переписчики, корректоры и переплѐтчики. Тем не
менее, обещание выдавать в год по тому выдержать не удавалось: Баронио тщательно
выверял труд, внося многочисленные изменения даже в гранки и возвращая набор из
типографии. Труд отнимал все силы: перед выходом в свет 6 тома (в 1596 году) собратьяораторианцы молились, чтобы автору хватило сил для завершения проекта, а ведь ему
756
Alberici R. Venerabilis Caesaris Baronii S. R. E. Cardinalis Bibliothecarii Epistolae et Opuscula. V. 3, Romae
1770, p. 170.
757
Ibid. V. 1. P. 204.
758
См., например, Mercati Mons. Giovanni. Per la storia della Biblioteca Apostolica, Bibliotecario Cesare Baronio.
In: Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma, 1911 P. 85-178.
392
было всего 57 лет! После 10 тома Баронио хотел прекратить работу, считая, что
доказательства неизменного пути церкви христовой на протяжении 1000 лет еѐ истории
вполне достаточно. В посвящении папе Павлу V 12 тома (ставшего для Баронио
последним) автор печально отметил, что силы его уже на исходе.
Писал ли Баронио свой труд действительно в одиночку? Хуберт Йедин утверждал,
что титул «кардинал библиотекарь», которым с некоторых пор обладал Баронио,
обозначал именно руководителя библиотеки. В его подчинении было два хранителя, по
два «переписчика» (scriptores) латинских и греческих текстов, один для древнееврейских.
Задачами этих scriptores некогда было копирование рукописей; по мере развития
печатного дела они больше занимались систематизацией текстов и организацией их
хранения.759 При этом историк свято верил версии о том, что Баронио всю работу сделал
сам760.
На наш взгляд, все эти люди могли быть привлечены к работе по подготовке
материалов для «Церковных анналов» и составили кардиналу свой прообраз «авторского
коллектива». Да, мы знаем, что Баронио все тома написал своей рукой (рукописи
сохранились в Ватиканском архиве761), однако привлечение сотрудников для сбора и
систематизации текстов было очень вероятным. Помимо них и привлечѐнных для
редакторской работы собратьев по Ордену, были и другие помощники. Известно, что
после вынесения официального распоряжения в 1576 году Баронио получил также
материалы, собранные разными исследователями – собственно членами кардинальской
комиссии (Кард. Сирлето), Беллармином, Юстом Липсием, Казобоном (будущим
оппонентом «Анналов», а пока – коллегой и другом автора), Линданом, Антонио
Поссевино и другими. Доминиканец из Арагона Томмазо Мальвенда был вызван в Рим
специально для помощи в работе762.
Почему же Баронио стал единственным автором книги? Известно, в частности, что
он не особенно желал помещения своего имени на обложке, но позволил коллегам себя
уговорить763. Более того, такой способ закрепления авторства за одним лицом был, как мы
знаем, само собой разумеющимся делом. Возведя историка в кардинальское достоинство,
папа Климент VIII придал и самому сочинению, и сформулированной в нѐм концепции
759
Jedin H. Kardinal … S. 26.
См., например, Ibid. S. 39. Эту точку зрения разделял и Е. А. Косминский. См. Косминский Е. А. Цит. соч.
C. 102.
761
Calenzio G. Op. cit. P. 176. От всех 12 томов сохранились авторские рукописи (B. A. V., Cod. Vat. lat. 56845695).
762
A Cesare Baronio. Scritti vari. Sora, 1963. P. 3.
760
763
Jedin H. Kardinal … S. 37. Х. Йедин приводит интересную причину такого решения: Чезаре Баронио хотел
тем самым, в частности, сделать приятное своему престарелому отцу, показав, что его сын хоть и не достиг
пока больших высот в церкви, прославил тем не менее отцовское имя.
393
особый вес, признав Баронио выразителем официальной точки зрения Курии на историю
католической церкви. Постановка одного имени автора, с другой стороны, позволяет
«персонифицировать» сочинение: отсутствие автора на обложке «Центурий» и туманное
указание на «мужей из города Магдебурга» могло восприниматься и негативно, как
нежелание нести личную ответственность за идеи, как отсутствие цельной концепции,
подменѐнное бесконечной чередой локусов. Кроме того, известен пример и другого
известного произведения Баронио – знаменитого «Мартиролога»764: большинство его
статей историк поручил другим людям и лишь ставил свою подпись, иногда внося
некоторые коррективы765. Конечно, это не снижает ни ответственности Баронио за
финальный текст, ни его заслуг в составлении общей концепции, в выдерживании единых
критериев. Тем не менее, «Церковные анналы», как и «Мартиролог», являются поводом
по-новому взглянуть на многообразную и часто обсуждаемую в науке в последние
десятилетия проблему авторства крупных текстов Раннего нового времени.
Книга расходилась очень быстро. Первый тираж первого тома составил всего 800
экземпляров. Этого было, конечно, недостаточно, и очень скоро были организованы
допечатки и переиздания. На Франкфуртской книжной ярмарке 1589 года первый том
продавался уже в переиздании антверпенского типографа Кристофа Плантэна. Оно ещѐ не
содержало дополнений по отношению к editio princeps, но третье издание (начатое снова в
Ватикане в 1598 году) уже было подвергнуто авторскому редактированию почти «без
участия автора» - были пущены в дело пометки, сделанные Баронио на полях авторского
экземпляра первого издания. В 1601 году начинается последнее прижизненное издание
«Церковных анналов» (Майнц); только последние два тома – 11 и 12 – вышли после
смерти автора.
В предисловии к первому тому Баронио пообещал выпускать каждый год по тому
своего произведения. Второй том вышел в 1590 году, а третий – лишь в 1592 (при этом в
Предисловии есть указание на то, что он был подписан автором ещѐ 24 января 1591 года).
Конечно, это – ещѐ один явный след перфекционизма Баронио.
Как уже говорилось, Рим был спонсором всех расходов по проекту «Анналов».
Этот порядок, заведѐнный при Сиксте V, был сохранѐн и при его преемниках.
Неоднократно Баронио удостаивался ценных даров от сильных мира сего (например, в
764
[Baronius C.] Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae historiae veritatem
restitutum. Romae, 1586. 816 c.
765
Guazzelli G. A. Cesare Baronio e il Martyrologium Romanum. In: Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia
in età posttridentina. Atti del convegno internazionale Torino, 24-27 settembre 2003. A cura di M. Firpo. Firenze,
2005. P. 47-89.
394
1592 году – от епископа Коимбры, позже – от французского короля), однако от
большинства этих даров приходилось отказываться по прямому указанию из Рима766.
По мере выхода в свет отдельных томов Баронио получал всѐ больше писем, в
которых его коллеги, католические богословы и историки, предлагали ему различные
уточнения и дополнения. С первыми Баронио, как правило, соглашался – их следы мы
находим в изданиях «Анналов», начиная с третьего. Более осторожен Баронио был с
предложениями расширить труд за счѐт цитирования большего количества источников,
обогащения его дополнительными сведениями, как-то списками епископов, диоцезов и
прочей справочной информацией. Расширение объѐма как самоцель он считал
неуместным, а излишек материала – нежелательным. По этой причине ему приходилось
отказываться от анализа подлинности некоторых католических реликвий, например,
мощей из Монтекассино или Суассона.
Роль Филиппо Нери в формировании замысла «Анналов», возможно, сравнима с
ролью Меланхтона в подготовке идеи «Магдебургских центурий». Известные нам
источники не позволяют нам исследовать этот вопрос подробно. В паратексте к 8 тому
«Анналов» содержится «Благодарность» Баронио в адрес Филиппо Нери, написанная по
поводу кончины духовного наставника. Этот интересный текст был перепечатан и
проанализирован Х. Йедином767; историк всѐ же склоняется к тому, что Ф. Нери сам не
формулировал исторических концепций: его критика «Центурий» была более «пастырскоапологетического характера»768.
Помимо «Анналов», Баронио оставил нам и несколько других, меньших по
масштабу сочинений. Мы уже упомянули особенно ценящийся сегодня римской церковью
мартиролог – многократно переиздававшийся769 реестр мучеников, ставший официальной
литургической книгой и фактически календарѐм латинского богослужения. Другое
любопытное его сочинение имеет прямое отношение к России. Это совсем небольшая
книжица770 не вполне соответствует своему названию «Историческое сообщение о
766
Дж. Каленцио сообщает нам слова Баронио о том, что чистота историка заключается с свободе от
страстей, от любой тени амбиции, в способности отвергать любые ценные дары, особенно от сильных мира
сего. См. Calenzio G. Op. cit. P. 880.
767
Перевод см. Jedin H. Kardinal … S. 59-63, анализ Ibid. S. 33 и далее.
Еще более резко высказался Дж. Недли, считавший, что «Благодарность» Баронио – это дань
условностям, не заслуживающая серьѐзного отношения. См. Nedley J. Caesar Baronius the Master. In: A
Cesare Baronio. Scritti vari. Sora, 1963ю P. 363-367.
769
Venetiis 1587 in 4°, Antwerpen 1589 in folio, Venetiis 1597 in 4°.
770
[Baronius C.] Historica relatio de Ruthenorum origine eorumque miraculosa conversione, et quibusdam alijs
ipsorum Regum Rebus gestis. Coloniae, 1598. 39 л.; материал этой книги был включѐн в переиздания
«Анналов». Ту же судьбу разделило и другое небольшое сочинение Legationes Alexandrina et Ruthenica ad
Clementem VIII. Pont. Max. pro unione et communione cum sede apoctolica. Ingolstadii, 1598. 8 л., частично
основанное на тех же источниках.
768
395
происхождении рутенов и их чудесном обращении, а также некоторых других деяниях их
королей». Римская церковь именовала рутенами православных жителей территорий,
относившихся после Ливонской войны к Речи Посполитой. Их «чудесное обращение» в
католическую веру – это приѐм в 1596 году в лоно римской церкви «схизматиков»,
населявших ряд областей Киевской митрополии, то есть Брестская уния. В целом это
сочинение способно нас разочаровать: слишком мало даже в Римской Курии знали в
конце XVI века о восточной окраине Европы. Фактически в восприятии Баронио Россия –
это огромный край, часть которого входит в состав польского государства. Обращение к
папе нескольких епископов Киевской митрополии, признание ими догматики и верховной
власти Рима было для Баронио логическим торжеством Святого Престола в деле единения
всех христиан, ранее трагически покинувших лоно единой матери-церкви. Сведения из
русской истории также очень скудны. Фигура царевича Димитрия стала рубежом, после
которого Баронио пренебрегает российской государственностью, видимо, считая, что она
сошла на нет.
396
§2. Паратекст «Церковных анналов»
Паратекст «Анналов» может рассказать нам, пожалуй, не меньше, чем паратекст
«Магдебургских центурий». Как и «Центурии», «Анналы» с первого тома сопровождались
текстами, не относящимися к собственно историческому сочинению, но позволяющими
почувствовать ситуацию внутри католического книжного рынка, взаимоотношения между
различными участниками идеологической борьбы и ряд других аспектов.
Первый том «Анналов» открывался посвящением папе Сиксту V. Конечно,
главный смысл этого посвящения – в его наличии и в его тональности. Перед нами не
раболепное и самоуничижительное возложение труда к стопам главы всей христианской
церкви, а почѐтный дар, имеющий большую объективную ценность. Баронио прекрасно
отдавал себе отчѐт в масштабности своего труда (напомню, первый том готовился к
печати
30 лет!) и
в важности
всего
проекта для
католической
стороны в
межконфессиональной полемике. Это подтверждается и стилем посвятительного письма.
В строках, не лишѐнных определѐнной гордыни, Баронио, в частности, пишет:
Итак, с доброй помощью Божией я отчаливаю от пристани и выхожу в
бескрайние просторы открытого моря; для того, чтобы целиком преодолеть при этом
многочисленные, огромные и почти нескончаемые трудности, особенно в том, чтобы
разобраться в потоке времени, в упорядочении хронологии (что в любой древней
историей является особенно темным и сложным делом), мне потребовалось много
труда, усердия и аккуратности. Ибо мне было недостаточно прочесть [сочинения] тех
историков данной отрасли, которые были под рукой, но пришлось также проработать
все памятники Отцов, исследовать хранящиеся в библиотеках рукописи, а также
зачастую разыскивать известия о малоизвестных событиях даже у посторонних
авторов. Чтобы всѐ можно было взвесить при помощи соответствующих гирь,
следовало воспользоваться весами размышлений, ибо нет ничего опаснее в истории, чем
пишущему еѐ безотчѐтно довериться чему-либо. И не то чтобы я по этим причинам
хвастался, Святый Отче, что прочѐл всѐ на свете, не то чтобы я хочу, чтобы другие
люди обо мне так думали; скорее, я хотел бы, чтобы вследствие исключительной
сложности задачи, в том случае если у меня не всѐ получится удачно, я был прощѐн в
справедливых суждениях771.
771
AER V. 1 (1588), p. 2v; AEM V. 1 (1601) p. )( 3r.
397
За обычными, вполне ренессансными по стилю словами и оборотами, помимо
некоторой неуверенности и дани условностям, мы видим желание подчеркнуть
собственное достоинство и готовность обсуждать работу в дальнейшем в рамках
благожелательной дискуссии. Этот фрагмент наряду с другими показывает нам историка,
гордого собой, понимающего свои огромные заслуги, а фразы о сыновнем почтении и
просьбы о благословлении в этом контексте предстают обычными фигурами речи,
необходимой данью как традиции внутрицерковной жизни, так и отношениям внутри
церковной иерархии.
Труд был задуман и условия для работы над ним сформированы задолго до того,
как Сикст V возглавил церковь. Посвящение Сиксту имело совершенно определѐнную
смысловую нагрузку: ipso facto оно сообщало читателю, что еѐ появление было
подготовлено деятельностью многих церковных деятелей первой величины, а еѐ позиция
была выражением общепринятой в среде католических иерархов точки зрения. В этой
связи выдвинутые впоследствии в адрес Баронио обвинения Паоло Сарпи772 в том, что он
формулировал не свою точку зрения, а точку зрения церкви, не кажутся нам особенно
скандальными и даже неожиданными: паратекст говорит об этом вполне открыто.
Заметим, что в паратексте томов «Анналов», предваряющих основной текст,
наблюдается
характерная
«фигура
умолчания»:
«Магдебургские
центурии»
не
выпячиваются, на видных местах не упоминаются, и тем более не объявляются поводом к
публикации нового сочинения по истории церкви773. В посвящении Баронио лишь
обтекаемо упомянул «новаторов нашего времени» и заявил, что выступает против них,
отстаивая «древность священных традиций и власть Святой Римской Католической
Церкви»774.
За официальным посвящением папе Сиксту следует краткое обращение (в виде
открытого письма) вдохновителю всего проекта кардиналу Антонио Карафе. Высказывая
благодарность за поддержку, Баронио говорит также о том, что «со страхом» ждѐт
суждения Карафы о своѐм труде: разумеется, и этот «страх» - не более чем фигура речи.
Помещение в книге этого письма также преследует знакомую нам цель – подчеркнуть
длительность работ, упорство автора (он, в частности, подчѐркивал своѐ прилежание и
трудолюбие, большое количество потраченных на изыскания бессонных ночей и так
далее).
772
См., например, Jedin H. Kardinal … S. 31.
Эта закономерность будет нарушена лишь во второй половине XIX века. В последнем переиздании
«Церковных анналов» деятельность Флация будет названа главным поводом к подготовке «Анналов», и это
указание, конечно, в той же мере обозначает волю римской Курии, в какой на неѐ указывает отсутствие
указания в публикациях XVI – начала XVII вв. С. AET т. 1, с. VI и др.
774
AEM V. 1, Praef., p. )( )( 2v.
773
398
Следующий элемент паратекста – письмо папы Сикста V «возлюбленному сыну
Чезаре Баронио», подписанное папским секретарѐм Томмазо Гуалтьеро 775. В нем, в
частности, высказывается согласие папы с избранным в сочинении Баронио способом
систематизации материала по отдельным годам: во-первых, он позволяет внести ясность в
«возникшие споры», а во-вторых, таким образом связь с источником прослеживается
чѐтче. Очевидно, последнее достоинство – это важное свидетельство того, как в ходе
полемики складывается научный метод, как еѐ участники ищут способы сделать свои
тексты более доказательными, более рациональными. Перед нами – один из
многочисленных конкретных примеров того, как начатый ещѐ в ренессансной
историографии поиск путей превращения истории в рациональную дисциплину
продолжался трудами церковных историков XVI века. Письмо было официальным
документом, запрещающим переиздавать текст Баронио без его согласия, в том числе – с
изменением его формы или объѐма, запрещало делать без ведома автора переводы
«Анналов» на новые языки и имело дату – 26 июня 1588 года. Очевидно, труд Баронио
нуждался в такого рода охране авторского права, поскольку попытка облегчить его
восприятие путѐм подготовки разного рода извлечений нанесло бы ущерб доказательной
базе и сделало бы концепцию более уязвимой для критики. Более того, это письмо папы
сыграло
роль
и
конституировании
«Анналов»
как
текста,
консолидирующего
интеллектуальный ресурс католической партии образом, подобным «Магдебургским
центуриям». Оно также предназначалось для будущего использования для ответов на
возможные вопросы относительно отсутствия необходимого количества переизданий,
упрощѐнных версий, переводов на новые языки: оно будет появляться почти во всех
последующих переизданиях, а в некоторых переизданиях – в каждом томе.
За письмом папы следует обращение Баронио к издателю «королевскому
архитипографу» Кристофору Плантэну с обещанием при подготовке уже признанного
необходимым второго издания «Анналов» обратиться имено к нему. В издании 1601 года
этот документ, разумеется, отсутствует. Вместо них перед письмом Сикста помещена
переписка Баронио с некоторыми лицами, высказавшимися за подготовку перевода
«Анналов» на некоторые новые языки. Епископ итальянского города Асти Франческо
Паникарола взялся за перевод первого тома на итальянский язык и получил полную
поддержку Баронио. Барон Марк Фуггер, советник императора Рудольфа, жаловался на
обилие разных дел, не позволяющее ему полностью посвятить себя переводу тома на
немецкий. Напечатанное в первом томе «Анналов» письмо Фуггера Баронио датировано
1589 годом. К 1592 году восходит переписка Баронио с епископом польского города
775
AER V. 1 (1588), p. 4v.
399
Гнезно Станиславом Карнковым насчѐт перевода на польский язык. Как мы знаем, ни
один из этих планов не был реализован, и эта переписка показала, что в плане
мобилизации ресурсов частных лиц католическая «республика учѐных» значительно
уступала в эффективности лютеранской. Письмо папы Сикста, помещѐнное после этой
переписки, символизировало подчинение Баронио правилам церковной дисциплины, а вся
эта часть паратекста (переписка с переводчиками и папой) вселяла в читателя
определѐнную надежду на то, что эти усилия однажды увенчаются успехом.
Отметим, что Баронио помещает в паратекст свидетельства популярности, которую
получили «Анналы» сразу после своего выхода. Показывая читателю перспективы
опубликования своего труда на языках ведущих европейских держав, он ни словом не
обмолвился о перспективе французского издания. Конечно, отсутствие документально
подтверждѐнного в паратексте «Анналов» интереса французского читателя к труду
Баронио может иметь самые различные объяснения, поэтому мы ограничимся
констатацией факта. Возможно, это свидетельствует о некоторой отстранѐнности
французского читающего общества от межконфессиональной полемики в области
историографии, компенсировавшейся вовлеченностью в другие идеологические процессы.
Несомненно, Франция представляла особую парадигму европейской интеллектуальной
истории XVI века, будучи в стороне от некоторых дискуссий, затрагивавших больушую
часть континента. Италия, германские земли, Польша вовлечены в общую дискуссию, их
объединяют общие культурно-исторические процессы, в которых Франция не участвует.
В будущем это приведѐт к целому ряду коллизий вроде участия католической Франции в
Тридцатилетней войне на стороне протестантских государств. Как бы то ни было,
отсутствие попыток подготовить французский перевод может быть объяснено самыми
различными причинами.
Помещѐнный перед основным текстом паратекст «Анналов» в первых изданиях
завершался стихотворными произведениями довольно сомнительного художественного
качества, написанными коллегами и друзьями на выход того или иного тома. Так, первый
том предваряла довольно пространная элегия епископа антверпенского Левина Торрентия.
Стихотворение полно аллюзий, имѐн римских языческих божеств, небесных тел и
упоминаний некоторых самых известных библейских сюжетов. Чезаре Баронио
называется – это позже стало общим местом в восхвалениях историка католическими
авторами – «Римским Цезарем», а в упоминании о том, что он «сокрушил врагов»,
содержится очевидный намѐк на центуриаторов и на межконфессиональную полемику.
Наконец, перед собственно «Предисловием» к «Анналам» во всех прижизненных
изданиях помещѐн эпиграф, в качестве которого взяты слова Григория Назианзина:
400
«Замечательно иметь ум, обученный и наполненный познанием истории. Ибо история –
это своего рода собранная в одно место и накопившаяся мудрость, разум множества
людей, сложенный воедино»776. Любопытно, что высказывание, созвучное тезисам
многочисленных трактатов XVI века о том, как писать историю, подобрано историком у
соответствующего по жанру авторитетного церковного автора.
Важнейшим текстом, раскрывающим нам целый ряд аспектов методологии Чезаре
Баронио, валяется помещѐнное перед первым томом «Предисловие к церковным
анналам». Оно открывается несколько изменѐнной цитатой из Писания. Фраза из Первого
послания к коринфянам гласит: «Для меня отверста великая и широкая дверь, и
противников много» (1 Кор 16:9). Баронио пишет: “Ostium nobis apertum est magnum et
evidens, sed adversarii multi”, заменив, таким образом, «меня» на «нас» и союз «и» на «но».
Не случайно он указывает на обилие врагов: во-первых, после выхода «Центурий»
прошло уже почти три десятка лет, и все эти годы количество их читателей
увеличивалось, а попытки католической стороны дать адекватный им идеологический
ответ пока, как мы знаем, не имели особого успеха. Баронио, в отличие от центуриаторов,
не
страшит
необходимость
трактовать
события
на
обширных
географических
пространствах, и тщательная разработка метода в том ключе, в котором это сделали
центуриаторы в 1 Центурии, ему не требовалась. Его гораздо больше волнует
необходимость обоснования принципам изложения исторических событий по годам, в
жанре «Анналов». Среди множества цитат мы встречаем и знаменитую (и очень
популярную в ренессансной историографии) цитату из «Аттических ночей» Авла Геллия
(кн. 5, гл.18) о том, что «история» - это описание современных историку событий,
«которые автор либо видит, либо может увидеть»777. Единственную антитезу Баронио
видит в форме анналов, и, поскольку в межконфессиональной полемике он априорно
отказывается от избранного противником метода, изложение событий прошлого по годам
представляется ему единственно возможным приѐмом.
Интересные рассуждения на эту тему мы встретили в работах выдающегося
итальянского историка Арнальдо Момильяно. Он считал необходимым следовать одной
из излюбленнейших традиций Возрождения и делить всех авторов исторических
сочинений XVI века на антикваров (среди которых современники Баронио – Сигонио,
Орсини, Агостино, Юст Липсий и другие) и историков в собственном смысле слова. В
отношении античности, писал итальянский исследователь, антиквары научились
использовать написанные греческими и римскими авторами «истории» как источник,
776
777
AER, AEM V. 1 Praef. n. n.
AEM V. 1, Praefatio, p. 2.
401
добавив
к
нему
новые
достижения
и
навыки
сопоставления
литературных,
археологических и эпиграфических источников. «Они комментировали историков и
дополняли историков, но сами, как правило, не претендовали на то, чтобы быть
историками»778. Эти авторы избегали написания историй Рима или Греции, поскольку они
уже были написаны древними авторами. Баронио, конечно, знал об этом типологическом
различии и, в противовес «Магдебургским центуриям», принял решение не называть своѐ
сочинение историей. Следуя ренессансной традиции изучения античности, он придал
истории христианской церкви определѐнное направление, уходящее корнями в
Возрождение. Кроме того, очевидно, что в этой отрасли имелись и свои непререкаемые
классики – Евсевий Кесарийский и его непосредственные продолжатели. Продолжая
параллель со светской историей, отметим, что в XVII веке появляется масса книг,
посвященных описанию «древностей» (antiquitates), и ни в одной из них в заглавии не
используется понятие «история»; даже Воссиус считал, что «правдивая история» - это
только то, что написано древними. Были авторы, подобные Сигонио: в отношении
классической древности он был подлинным антикваром, но написал также две вполне
обыкновенные с точки зрения методологии и вполне средневековые по содержанию
истории - Historiarum de Occidentali Imperio Libri XX (1577) и Historiarum de Regno Italiae
Libri XX (1580). Понятно, что это сочетание работ разного жанра в наследии одного
автора вполне возможно, как возможно сочетание различных стихотворных форм в
творчестве крупного поэта. С другой стороны, позднеренессансные трактаты об
«искусстве истории»779 не содержат указаний на то, что частью истории является изучение
«древностей».
А. Момильяно отмечал, что эта закономерность позиционирования «антикваров»
относительно «истории» действовала в отношении только античной эпохи. В сфере
описания пост-античного прошлого различие между «антикварами» и «историками» долго
не делалось, поскольку общепризнанной, канонической истории Испании или Германии
просто не существовало780. Если это так, то мы можем считать, что Баронио своим
методологическим выбором (отказа от «истории» в заголовке и опорой на анналистский
778
Momigliano A. Studies in Historiography. London, 1966 p. 6. Историк даже отмечал, что должности
профессоров античной истории в Оксфорде (1622) и вскоре после этого в Кембридже подразумевали чтение
со студентами и комментирование древних историков. См. также более общий обзор в Hay D. Annalists and
Historians. Western Historiography from the VIIIth to the XVIIIth Century. London, Methuen, 1977. 215 c.
Несмотря на то, что основное внимание историка было посвящено английской историографической
традиции (в меньшей степени итальянской и французской), его наблюдения за перипетиями сочетания этих
двух жанров от Беды Достопочтенного до Юма и Робертсона совершенно не утратили научной
актуальности.
779
Подробнее о них см. Бобкова М. С. “Historia Pragmata”. Формирование исторического сознания
новоевропейского общества. М., ИВИ РАН, 2010. 526 с.
780
Momigliano A. Op. cit. P. 7-8.
402
метод) стремился приблизить авторитет церковной истории как отрасли знаний к
античной, а Евсевия – к Геродоту или Титу Ливию.
Руководствуясь библейской фразой «Да будет слово ваше «да, да»; «нет, нет»»
(Мф. 15:37), Баронио укоряет античных историков в изобилии художественных приѐмов,
частых неточностях в пересказах, а главное – в сочинении речей программного характера
и вложении их в уста своих героев. Сюжет церковной истории не подразумевает иных
программ, кроме реализации Божией воли. Баронио ссылается на некоторых своих
предшественников – деятелей древней церкви, выступавших с осуждением принятого
когда-то способа описания исторических событий (Арнобий, Григорий Назианзин и
другие). Отмечая обилие способов датировки, встречающееся у древних историков, он
ссылается и на Августина781, указавшего на несоответствие счета времени по Олимпиадам
или по консулам для целей церковной истории. По этой причине он считает необходимым
дублировать нумерацию годов христианской эры счѐтом времени по папам и
императорам, и им отводится второстепенная роль. Надо, впрочем, отметить, что,
помещая в самом конце паратекста первых семи томов сообщение об охватываемом в
данном томе хронологическом промежутке, Баронио в той или иной формулировке
упоминает имена отдельных императоров (об этом подробнее мы расскажем ниже). В
«Анналах» это выглядит уже данью определѐнной традиции, не соблюдаемой
систематически и не подменяющей собой другие периодизационные или хронологические
принципы. В «Предисловии» Баронио по возможности обещает приводить и данные о
римских консулах, и своѐ обещание сдерживает.
Что же войдет в «Анналы»? Прежде всего – рождение церкви, основы
христианской религии, Божии законы, решения церковных Соборов и Каноны,
касающиеся вопросов вероучения.
«К этому [добавим] видимую монархию Католической Церкви, учреждѐнную
Христом Господом, основанную на Петре и через его законных и истинных преемников,
то есть Римских Понтификов, сохранѐнную в неприкосновенности, с религиозностью
охраняемую; и никогда не прерванную, или приостановленную, но непрерывно
продолжавшуюся; всегда сего мистического тела Христова, какова и есть Церковь,
единую видимую главу, которой повинуются остальные члены и которая остаѐтся
признанной и почитается; и всѐ это мы продемонстрируем в каждую отдельную
эпоху»782.
781
782
Конкретно – на сочинение «О христианском учении», кн. 2, гл. 28.
AEM V. 1 Praefatio P. 3.
403
Во-первых, очевидно, что этот многослойный тезис, вместо того чтобы стать
важнейшей исследуемой проблемой, превращѐн в утверждение для доказательства. Тем
самым логическая структура будущей книги трансформирована из исторического
разыскания («Центурии» в определѐнном смысле таковым были) в своего рода
риторическое упражнение на доказательство априорно заданной концепции. Следует
особо отметить, что из доказательной части «Анналов» (составившей основной объѐм
книги) этот тезис удалѐн, и обильный исторический материал даѐтся в нѐм в
беспристрастной, внешне объективной форме. Книга составлена таким образом, что
исторический материал доказывает заранее заданную концепцию почти «автоматически»,
без видимого насилия автора над ним, что, конечно, являло резкий контраст по сравнению
с «Центуриями» и отличало «Анналы» в лучшую сторону. Во-вторых, стало очевидным
также, что целый ряд вопросов, которые для центуриаторов были проблемами
кардинальной важности (например, о том, была ли церковь передана Петру), в «Анналах»
даже не планировалось ставить. Первенство Петра, на котором основано папство, не
является темой для обсуждения. Напротив, Баронио объявил о включении в свой труд
описаний распространения христианской веры, разного рода войн, в которых в том или
ином виде присутствовал религиозный подтекст, касавшиеся церкви деяния светских
государей, а также наказания, насылавшиеся Богом на дерзавших против его церкви –
разного рода природные явления и исторические события, которые могли трактоваться
как знамения. Историк обещал также описывать деяния мужей, «выделявшихся святостью
и эрудицией» - церковных писателей, причѐм приурочивать эти описания к годам их
смерти. Обещал он и разъяснять «по мере сил»783 сложные церковные понятия,
выражения, особенно запутанные и непонятные места цитируемых сочинений.
В переиздания первого тома было также включено небольшое обращение «К
читателю, находящемуся вне пределов католической церкви»784. Написанное в очень
спокойном тоне, это обращение приглашает читателя-протестанта судить спокойно и
здраво; Баронио отказывается от осуждения или от проклятий в адрес христиан, не
желающих относить себя к «католической религии». Приглашая эвентуального
идеологического оппонента к диалогу, Баронио значительно выиграл в глазах
нейтральной публики по сравнению с грозными проклятиями и разного рода эпитетами,
783
784
AEM V. 1, Praef. P. 4.
AEM, V. 1 Praef. P. n. n.
404
извергаемыми в «Центуриях» в адрес папства и определѐнных фактов церковной жизни в
прошлом, а главное – в адрес современного противника785.
Сложность метода, связанного с изложением по годам (см. ниже), вынудила
историка нестрого придерживаться анналистской формы подачи материала. Это, в свою
очередь, затрудняло читателю поиск того или иного сюжета, знакомого ему по другой
литературе, но не ассоциируемого с конкретным годом либо традиционно не датируемое
(как, например, ряд евангельских событий или сюжеты Деяний апостолов). Разумеется,
Баронио попытался предложить свою датировку событий, и в целом ряде случаев
(главным образом из позднесредневековой истории) ему удалось существенно уточнить
общепринятую хронологию. Однако даже в этих случаях его датировка была неизвестна
читателю априори. Как сделать возможным пользование книгой не для «сквозного»
прочтения, в качестве справочника, например, для диспута или богословского сочинения?
В этой связи особое значение приобретают оглавления и указатели. Согласно
традиции церковной литературы (соблюдавшейся как католиками, так и протестантами), в
«Церковных анналах» приведены как тематический указатель, так и Указатель
разъясняемых мест из Священного Писания. Кроме них, в первом издании имелся и
третий указатель – перечень разделов, на которые разбиты посвящѐнные отдельным годам
главы («Указатель основных разделов», Index praecipuarum rerum на пяти страницах).
Собственно в тексте «Анналов» внутри подавляющего большинства годовых разделов
(кроме тех, где историку было почти совершенно нечего сказать) создавались разделы,
отмеченные только в тексте – оглавления в сегодняшнем смысле слова книга не содержит.
Этим разделам более или менее соответствуют строчки в нескольких указателях в конце
каждого тома. Например, в первом издании год 41 содержит следующие главы: «О
центурионе Корнелии», «О явленном Петру полотне», «Корнилий и его близкие
крестятся», «О Евангелии от Матфея», «Об убийстве Пилата», «Гай желает, чтобы ему
поклонялись как Богу», «Гай вызывает гнев иудеев»786. Очевидно, большая часть тем
продиктована последовательностью изложения событий в Деяниях апостольских.
В алфавитном указателе к первому тому мы встречаем два упоминания Корнелия.
Первое довольно пространно и едва пересекается с названием главок («Римский
мартиролог подтверждает, что центурион Корнилий был епископом Кесарийским. В
другом месте сообщается, что епископом Трои. Что его дом был превращѐн в церковь
785
А. Е. Косминский не поверил искренности этого обращения Баронио и отозвался о нѐм довольно
пренебрежительно («Цену этому «беспристрастию» определить не трудно, равно как и преследуемые при
этом цели». Косминский Е. А. Цит. соч. C. 102). В этом суждении, видимо, проявилась определѐнная
недооценка новизны подхода Баронио к межконфессиональной полемике.
786
AER V. 1. P. 321-329. De Cornelio centurione; De linteo Petro ostenso; Cornelius cum suis baptizantur; De
Matthaei Evangelio; De nece Pilati; Caius ut Deus vult coli; Concitatur Caius in Iudaeos.
405
Господню, которую видел Иероним»787. В тексте приводится несколько точек зрения
различных авторов на тему Корнелия, а в Индекс попал только один епископ. Второе
более лаконично и характеризует тему в целом («Гражданин Корнилий, бывший
центурионом Италийского легиона»). Евангелие от Матфея представлено в Указателе
гораздо богаче («В каком году написано Евангелие от Матфея 325 11 и по какому случаю
326,11 в ответ на чьи просьбы 326,32 растолкованное в Иерусалиме Иаковом братом
Господним
326, 32 похороненное с Варнавой и в каком году найдено. 326,40
переведѐнное Иеронимом 327,3 искажѐнное Назореями 327,12). Имеется одна ссылка о
самоубийстве Пилата; среди 20 отсылок с именем императора Гая Калигулы 3 относятся к
нашему отрывку.
Второй указатель, «Указатель цитируемых мест Св. Писания», содержит две
отсылки к данному отрывку (о Корнилии, Деян. 10). Особенно полезным был третий,
самый краткий указатель, перечислявший все главки одну за другой в том порядке, в
котором они встречаются в книге. Некоторые главки в этом указателе пропущены, но
анализируемого нами раздела это не коснулось: они упомянуты все, некоторые – с
изменѐнной формулировкой.
В переизданиях последний указатель воспроизведѐн не был, зато существенно был
расширен первый. В частности, отсылка делалась теперь не на страницу и строку, как в
первом издании, а по другой системе. Рассказ о каждом годе делился на несколько
параграфов, пронумерованных на полях текста; иногда этот параграф имел название, но
часто – не имел. Ссылка в Указателе приводилась, таким образом, на год христианской
эры и на номер параграфа. Видимо, в новых изданиях перечень «основных вещей» сочли
излишним, поскольку исторические события и так были расположены согласно
определѐнному заранее закону – в хронологическом порядке, и для поиска их можно было
просто следовать за датой. Но что делать, если дата читателю неизвестна?
Некоторые оговорки в паратексте (в частности, на титульном листе) заставляют нас
думать, что подготовка переизданий всѐ же не была инициативой Баронио. Несмотря на
то, что новые версии содержали множество мелких уточнений, которые сам автор считал
совершенно необходимыми, в них были и новшества, внесѐнные по инициативе других
лиц. Конечно, это лишь предположение, но, с другой стороны, странно было бы
предполагать, что один из указателей, который автор счѐт необходимым для первой
публикации, он же счѐл излишним в последующих. Скорее, издатели решили, что это
787
Index. Cornelium Centurionem Episcopum Caesariensem fuisse testatur Martirologium Romanum. Alibi fertur
Episcopus Ilii. Eius domum in Christi ecclesiam fuisse conversam, a Hieronymo visam.
406
тавтология, может быть, нужная неспециалистам, но снижающая оценку издания среди
учѐных мужей и деятелей церкви.
Что было внесено нового в паратекст и в оформление основного текста в
прижизненных переизданиях «Анналов»? С точки зрения концепции – ничего
значительного. Появились некоторые дополнительные цитаты, несколько увеличившие
объѐмы (общую картину до оцифровки всех текстов невозможно оценить даже
приблизительно – слишком различаются шрифты и принципы вѐрстки). Во многих
случаях на место личного местоимения автор поставил имя персонажа – это облегчает
понимание и улучшает стиль. Устранены погрешности, на которые указывали критики
«по горячим следам» первой публикации. Главное заключалось в резком увеличении
количества книг – рынок моментально поглощал переиздание за переизданием. Очень
заметно улучшилось качество печати и вообще изготовления книг: прогресс за полтора
десятилетия был очень заметным. Кроме того, очевидно, что теперь для изготовления
новых тиражей привлекались средства частных издателей, что позволило увеличить
расходы на качество издания.
Паратекст второго тома содержал новое письмо Баронио папе Сиксту V. Упомянув
об успехе первого тома, автор извещает главу римской церкви о выходе второго, о своих
усердных трудах, а также о возрасте, всѐ больше дающем о себе знать. За этим письмом
следует открытое письмо автора кардиналу Федерико Борромео. В нѐм он выражает
соболезнование по поводу «не столь преждевременной самой по себе, но горькой для всех
добрых людей кончины» его двоюродного брата кардинала Карло Борромео. Святой
архиепископ Миланский умер уже давно, в 1584 году, и эти соболезнования являются на
самом деле элементом более сложной логической конструкции – выражению при помощи
этого письма дружеских чувств и поддержки. Федерико совсем недавно, в 1588 году, стал
в возрасте 23 лет кардиналом с диаконским достоинством788. Поздравляя его с этим
назначением, Баронио намекает на то, что оно стало следствием заслугпрославленного
родственника: он утешает понесшего несколько лет назад утрату Федерико, говоря, что
этим назначением папа восстановил имя кардинала Борромео. За этим письмом следует
письмо автора к читателю (приглашающее к чтению второго тома и констатирующее, что
788
Каленцио объяснял эту странную коллизию тем обстоятельством, что Баронио собирался (возможно, дал
обет) посвятить второй том Карло Борромео, но тот к тому времени уже умер, поэтому посвящение было
«переадресовано» его наследнику Федериго Борромео (см. Calenzio G. Op. cit. P. 263). Это довольно
странно, тем более что, как мы видели, посвящение недавно умершим адресатам новых томов
«Магдебургских центурий» было вполне возможным. Видимо, в конце XVI века эта традиция подверглась
пересмотру.
407
количество лет в нѐм будет больше – 205, вплоть до императора Константина), а также
перепечатанное из первого тома письмо папы Сикста автору.
Третий том «Анналов» охватил совсем небольшой промежуток времени – 55 лет,
эпоху правления Константина Великого и его сына Констанция (306-360). Паратекст
четвѐртого завершается указанием, что он охватит лишь 34 года (что соответствует 361395 годам) – период от Юлиана Отступника до кончины Феодосия789. Пятый том описал
события 45 лет от восшествия на трон Аркадия и Гонория до 440 года790. Впервые в
«Анналах» при обозначении хронологических границ тома приводится указание не на
императора, а на год, хотя сразу же следует уточнение: так решено, чтобы шестой том
«было удобно начать с Великого Понтифика Св. Льва Великого». В этот момент
периодизация по императорам (обычная для церковной историографии XVI века) впервые
уступает место иному принципу, ставящему в качестве границы периода дату начала
понтификата. 6 том описывает события 78 лет и прекращается в 518 годом, «чтобы
седьмой начался с империи Юстина Старшего»791. 7 том доводит повествование «до
третьего года императора Маврикия» (590), то есть охватывает 78 лет. Очевидно, эта дата
с точки зрения чередования римских императоров лишена смысла, но именно в 590 году
начался понтификат Григория Великого – одного из важнейших действующих лиц
католической концепции церковной истории. Следующий, 8 том охватывает гораздо
больший период «от Григория Великого до Григория II» - 124 года (590-714). Дальнейшие
тома вообще отличаются большим хронологическим охватом. Так 9 том посвящѐн
периоду с 843, года Верденского договора, по 1000 год, являющийся не только круглой
датой, но и важным рубежом с точки зрения милленаризма. Последние два тома
практически полностью соответствуют столетиям (10 – 1001-1099, 11 – 1100-1198).
Продолжительность периодов, охватываемых отдельными томами, совершенно
различна. В чѐм причина? Нам представляется, что в определении хронологического
охвата тома Баронио пользовался принципом физического объѐма книги. Тома
«Центурий» имели довольно разный объѐм; благодаря особенностям переплѐтных
технологий XVI века (две сосновые доски в качестве обложки, обтянутые пергаменом или
более дорогой кожей в люксовых вариантах, стягивающие их под кожей верѐвки) это не
очень бросалось в глаза на книжной полке: доски стандартной толщины визуально
«уравнивали» книги. Таким образом, у масс читателей и критиков не формировалось
представления о недостаточной проработанности одних центурий и излишней – других.
789
AEM V. 4. Praefatio. Ult. n. n.
AEM V. 5. Praefatio. Ult. n. n.
791
AEM V. 6. Praefatio Ult. n. n.
790
408
Конечно, при внимательном ознакомлении с текстом «Центурий» выяснялось, что разница
в наполненности томов, посвящѐнных разным столетиям, всѐ-таки имеется. В «Анналах»
сделана ставка на более или менее одинаковый объѐм отдельных томов, что подчеркнуло
искусственность принятого центуриаторами принципа деления исторического процесса на
равные
хронологические
периоды.
В
прижизненных
изданиях,
сохранявших
постраничную пагинацию, текст каждого из первых восьми томов составил 700-750
страниц; в дальнейшем их объѐм несколько вырос, составив 900-950 страниц, но был
также стабилен. Благодаря этому приѐму Баронио сумел подчеркнуть, что его
идеологический противник в определѐнной степени подгонял свою концепцию под
формальный хронологический фактор. Это сказалось, например, во встречающихся в
первых главах каждой центурии определениях «характера» того или иного века как эпохи
гонений или процветания христианства, а также в некоторых других местах. После
выхода «Церковных анналов» характеристики отдельных столетий из «Центурий»
выглядели, конечно, методологически устаревшими.
Различная продолжительность томов свидетельствовала также о том, что Баронио,
несмотря на все свои возможности, в своей концепции очень зависел от наличия или
отсутствия источников по той или иной эпохе. Он писал намного больше там, где
источник это позволяет, и намного меньше – там, где испытывал трудности с материалом.
Отказавшись от «истории христианской догмы» как сюжета для своего труда, Баронио
лишился очень объѐмного материала, который пришлось возместить также значительным
количеством другого. Любопытна и тенденция сведения хронологического охвата тома к
столетию: видимо, Баронио на собственном опыте убедился в разумности подхода,
продемонстрированного когда-то идеологическими оппонентами.
Параллели с «Магдебургскими центуриями», без сомнения, проводились и самим
Баронио, и его покровителями, и читателями из обоих лагерей. Таким образом, мы можем
не только делать на основе паратекста «Центурий» выводы об их внутренней организации
и композиции, но и определять стратегию, избранную историком (и католическим лагерем
в целом) в межконфессиональной полемике. Мы видели, насколько информативным
является распределение материала по томам – один из интереснейших аспектов
паратекста. Посвящения в различных томах «Анналов» также не уступают посвящениям
«Магдебургских центурий» в отношении информативности. Баронио подхватил приѐм,
широко использовавшийся Флацием в «Центуриях», и адресовал каждый отдельный том
новому покровителю. Конечно, речь о поиске материальной поддержки издания в данном
случае не шла – как мы знаем, Курия обеспечила проекту максимальную материальную
поддержку. Баронио, тем не менее, по достоинству оценил эффективность посвящений в
409
качестве средства для консолидации лагеря сторонников, для поддержки власть имущих, а
также для более высокого позиционирования книги средствами апеллирования к
католической иерархии. Третий том был посвящѐн испанскому королю Филиппу II,
четвѐртый – новому папе Клименту VIII. Адресованные им письма Баронио помещались в
самом начале тома, но посвящением в классическом смысле слова они были лишь
отчасти. Баронио высказывает в них хвалу адресату, провозглашает его принадлежность к
своему лагерю. В обращениях к монархам тон Баронио довольно свободный и местами
горделивый; так, Филиппа II он просит «принять с благодарностью» третий том,
содержащий описание «славного образа цезаря [Константина Великого. - ИА], должного
быть у истинного цезаря», то есть у испанского короля792.
В нескольких томах посвящение адресуется двум лицам, причѐм первое
значительно выше в иерархической лестнице, чем второе. Например, компанию Филиппу
II составил кардинал, Папе Клименту VIII (5 том) - граф Рейн-Пфальцский Вильгельм. В 6
томе посвящения удостоен, наряду с папой Климентом, также диакон-кардинал Пьетро
Альдобрандини. Первое посвящение обычно адресовано папе, Помимо Филиппа II,
исключения составили король Франции и Наварры Генрих IV (9 том), император
Священной Римской империи Рудольф II (10 том) и Сигизмунд, титул которого звучал как
«король Польши, великий герцог Литвы, России, Пруссии, Мазовии, Самогитии, Ливонии,
и также наследственный король свевов, готов и вандалов». Каждый раз посвящение
светскому государю Баронио объясняет связью сюжета данного тома и ролью данного
государя или его державы в христианском мире. Так, обращение к Генриху IV
сопровождается проведением аналогии между ним и Карлом Великим – основным героем
9 тома. Основным содержанием тома объявлена борьба церкви с иконоборцами. Проводя
параллели между последними и последователями Лютера, Баронио многократной
констатацией этого факта подчѐркивает удивительную актуальность сюжета. 10 том
позволил историку провести сопоставление современного императора с Оттоном793. Оттон
был очень популярным героем светских историй XVI века; он являлся не только крайне
лестным объектом для сопоставления, но и знаковой фигурой – героем борьбы против
папства. Сложнее понять, почему польскому королю был посвящѐн именно 11 том.
Рискнѐм предположить, что Баронио принял такое решение под давлением обстоятельств:
выбор томов у него был невелик, а Польша во время написания «Анналов» находилась на
очередном подъѐме. Прежде всего, Сигизмунд был известен в Риме как ревнитель
истинной веры, король, чьими неустанными заботами Польша преодолела натиск
792
793
AEM, V. 3. Praefatio )()(3r.
AEM, V. 10 (1603). Praefatio n. n.
410
протестантизма
и
вернулась
в
лоно
католической
церкви.
Недавняя
Уния,
воспринимавшаяся в Риме как торжество веры, успехи Польши в борьбе с Россией,
огромные размеры и потенциал Речи Посполитой выдвинули страну в лидеры
католического мира, и Сигизмунд был не только еѐ правителем, но и самым узнаваемым
символом794.
Последний, 12 том «Анналов» том посвящен папе Павлу V. Посвящение
датировано «июньскими календами» 1607 года. В нѐм Баронио напоминает, в частности,
что сам он стоит на «самом краю этой жизни» и «обдумывает грядущую кончину»795.
Грусть и даже мрачность, характерные для Баронио на протяжении всей жизни, к концу еѐ
усилились и приобрели характер угрюмой меланхолии. Ещѐ в 5 томе Баронио высказал
пожелание передать работу более молодому и эрудированному коллеге796. После 10 тома
Баронио даже собирался прекратить проект; в качестве оправдания себе он высказал
мысль о том, что тысячелетней истории церкви, описанной в его концепции, вполне
достаточно для того, чтобы доказать основные постулаты последней 797. Возможно,
предисловие 12 тома должно было подготовить Святой Престол к прекращению работы
над «Анналами». Во всяком случае, никаких следов черновиков следующего тома не
обнаружено.
Начиная с 6 тома, текст «Церковных анналов» сопровождается всѐ более и более
пространными отступлениями эрудитского характера. Первые два нам хорошо знакомы.
После 6 тома следует «Королларий о посольстве Александрийской церкви к
Апостольскому престолу». Текст его очень близок упомянутому нами выше отчѐту о
визите православных посольств из Александрии и Киева ко двору Климента VIII798. В
данной
редакции
этот
текст
представляет
собой
развѐрнутую
и
снабжѐнную
комментариями публикацию источников, их которых следует, в частности, что
Александрийская церковь признает верховное главенство римской (даже на уровне
титулатуры). В конце 7 тома помещѐн в отредактированном виде второй из упомянутых
нами текстов – диссертация „De Ruthenis ad communionem sedis apostolicae receptis
monumentum”799. Она содержит рассказ о приезде Михаила митрополита Киевского и
794
В 11 томе помещено также особое указание, что посвящения в «Анналах» размещены не по порядку
важности или значимости тех, к кому они адресованы. Высказывалось даже предположение (Jedin H.
Kardinal … S. 43), что это указание не случайно и было вызвано каким-то конфликтом автора в Курии.
795
AEM. V. 12. Praefatio. ult. n. n.
AEM. V.5. Praefatio n. n.
797
Jedin H. Kardinal … S. 43.
798
[Baronius C.] Legationes Alexandrina et Ruthenica ad Clementem VIII. Pont. Max. pro unione et communione
cum sede apoctolica. Ingolstadii, 1598.
799
Historica relatio de Ruthenorum origine eorumque miraculosa conversione, et quibusdam alijs ipsorum Regum
Rebus gestis. Coloniae, 1598.
796
411
других столпов церкви в конце XVI века в Рим, приведший к заключению церковной
унии. Почему эти два сочинения помещены именно в 6 и 7 томах? У нас нет никакого
повода отметить параллели между излагаемыми в тексте томов сюжетами и материалом
короллария и диссертации. Видимо, подготовка их просто совпала по времени с выходом
6 и 7 томов, и Баронио воспользовался подвернувшейся возможностью опубликовать их
не только отдельно, но и в составе своего крупнейшего труда, придав двум небольшим
текстам гораздо большее хождение и популярность. В конце последнего из них
приводится очень интересный источник – изображение памятной медали, отчеканенной
по приказу Климента VIII в 1596 году. На медали изображена сцена посольства и выбиты
дарственные слова Ruthenis Receptis («принятым россиянам»). Этот текст в контексте
исследований об образе России в Европе XVI века заслуживает отдельного изучения,
которое выходит за рамки нашей темы. Читателю сообщается, что рутены античных
источников – это русские. Вариантами их наименования являются россоланы, роксоланы,
рось (Rhos), а страна называется Russia или Roxolania; язык этих земель, судя по немногим
знакомым историку словам, напоминает греческий. Очевидно, Баронио встречался с
русскими словами по большей части в церковном контексте и натолкнулся на греческие
заимствования. Среди античных языческих источников особым вниманием историка
пользуется «Естественная история» Плиния Старшего. В согласии с Хромерием Баронио
представлял, что Россия граничит с Ливонией, Швецией, Ледовитым Океаном, Волгой,
Каспийским морем, Черным морем, Сарматскими горами, Польшей и Литвой. Москва
относилась к ней же. Согласно Баронио, эта страна приняла Евангелие во времена
императора Василия и сына его Константина (что примерно соответствует принятой в
наше время дате Крещения Руси), после чего в Киеве была основана митрополия.
Впоследствии, сообщает Баронио, Московская церковь отделилась от Русской – это
обстоятельство помогло историку объяснить, почему недавняя Уния не распространилась
на Московское государство. Вообще историк доверяет описанию Руси, данному польским
писателем Матвеем Меховским (1457-1523) в его «Трактате о двух Сарматиях».
В
паратексте
8
тома
мы
встречаем
знаменитую
апологию
наставника,
скончавшегося незадолго до выхода тома в свет – «Благодарность (Gratiarum actio) блаж.
отцу Филиппо Нери за Церковные Анналы»800. Этот текст появлялся во всех переизданиях
«Анналов», включая последнее; в нѐм он был вынесен в начало первого тома, поскольку
издатель принял на веру утверждения Баронио о том, что Нери был истинным автором
идеи исторического сочинения801. Современные историки относятся к этому утверждению
800
801
AER, AEM V. 8. Praefatio n. n.
AET V. 1. P. III-IV.
412
скептически, считая его данью традиции, попыткой придать концепции книги больший
вес или вообще риторической фигурой. «Благодарность» основано на библейских цитатах
и аллюзиях. Например, обращаясь к почившему наставнику, Баронио пишет: «Ты, Отче,
восстал, когда к ущербу церкви сатанинские центурии поднялись к нам от врат Ада».
«Сатанинские центурии» - это не только толпы служителей диавола, но и конкретные
«Магдебургские центурии» Флация Иллирика, и такой юмор в панегирике был, видимо,
вполне уместен. Как бы то ни было, текст «Благодарности» неопровержимо
свидетельствует как о глубоком уважении Баронио к человеку, приведшему его в
Конгрегацию Оратория, так и о том, что положения исторической концепции «Анналов»
часто обсуждались в беседах с наставником. В том же томе содержится и другое
отдельное историческое сочинение – пересказ диспута св. Максима Мученика с
константинопольским епископом-монофелитом Пирром. Баронио предлагает читателю
греческий текст оригинала и латинский перевод, сделанный уже знакомым нам иезуитом
Франсиско Торресом802. Помещение двух текстов параллельно станет поводом для
позднейших критиков упрекнуть Баронио в недостаточном владении греческим языком,
хотя, строго говоря, авторство перевода принадлежит не ему. Далее в томе помещено
эрудитское рассуждение против некоторых тезисов авторитетного церковного автора IV
века Илария Пиктавийского, распространившихся в результате предпринятой в 1598 году
публикации его сочинений.
Благодаря анализу паратекста мы видим, что Баронио стремился строго
контролировать
качество
переизданий
своего
произведения.
Немало
усилий
предпринималось и в ходе подготовки новых томов. Начиная с 10 тома, количество
исправлений по материалу предыдущих книг резко возрастает 803. Историк работал с
текстом до самого конца, иногда внося многочисленные исправления даже в готовые
гранки. Исправления накапливались и после выхода книги в свет. В 11 томе содержится
даже указание «типографу, готовящему следующее издание, - внести» исправления
самостоятельно
804
. Как мы видим, Баронио использовал «Анналы» не только для
изложения церковно-исторической концепции, но и для того, чтобы писать и издавать
свои статьи в полемике с различными современными католическими авторами или
предшественниками, примерно так, как сегодня мы используем научные журналы.
802
AEM V. 8. Col. 677-708.
AEM V. 10. Col. 1083-1143. Там же содержится большой массив справочной информации, например,
списки римских консулов и проч. В 11 томе (AEM V. 11. Col. 955 – 1070) содержится полемика по
различным эрудитским поводам против современных Баронио авторов.
804
AEM V. 11. Praefatio. Ult. n. n.
803
413
§3. Историческая концепция и метод «Церковных анналов»
Историческая концепция «Церковных анналов» Чезаре Баронио опиралась на
тезис, очень созвучный с главным тезисом «Магдебургских центурий»: христианская
церковь была сформирована уже в Евангелиях, и идеальный порядок вещей соответствует
тому, что можно прочесть в Писании. Из этого, однако, делается вывод, коренным
образом отличающийся от идей Флация: все будущие институты церкви, еѐ авторитет,
догматические положения в сжатом виде так или иначе получили своѐ первое выражение.
Например, Иисус сам преподал идею Церковного Собора805; поскольку авторитет
Апостолов в Писании очень высок, а их деятельность, функции и роль в церкви детально
описаны в Новом Завете, будет правильным столь же высоко поставить авторитет
церковных Отцов и высших иерархов. Всячески подчѐркивая особую роль и функцию
Петра среди апостолов, Баронио выводит из неѐ особое положение римских понтификов, а
также правоту претензий папства на главенство в христианском мире. Баронио не
препарирует источники на отдельные локусы по методу центуриаторов, поскольку в этом
не нуждается: его концепция вполне сосуществует с длинными цитатами из источников и
даже с их полнотекстовыми версиями. Главным качеством концепции является еѐ
цельность «от первородного греха до пришествия Христа и до тройного папского
царства»806.
Цель Баронио заключается в том, чтобы показать: важнейшие институты и
ключевые понятия католической церкви, еѐ иерархическая структура, сама доктрина не
подвергались изменениям во времени и существовали в своѐм окончательном виде с
самого начала. Упорядоченный не по логическому, а по формальному признаку материал
должен был говорить сам за себя, доказывая тем самым «длительное тождество церкви
самой себе» (замечательная формула Й. Херцога807). Доктрине почти не достаѐтся
внимания историка: его гораздо больше интересуют вопросы «внешнего присутствия»
церкви – охватываемые христианской религией всѐ новые и новые территории, борьба с
ересями. Высокое искусство критики источников Баронио демонстрирует тогда, когда
нужно доказать принадлежность к христианской религии того или иного исторического
деятеля, в отношении которого могут возникнуть сомнения – римского императора,
варварского князя и подобных. В этих случаях в ход идут новые источники, появляются
сложные логические конструкции (о них мы скажем позже). Работы церковных авторов
805
AEM, V. 1 (см., например, год 33, главу XVII).
R. De Maio. Baronio storico ... P. XXIII.
807
„fortdauernde Selbstgleichheit der Kirche“. Evangelisches
Handwoerterbuch. Bd. 1. Goettingen. 1956, ad vocem Baronius.
806
Kirchenlexicon.
Kritisch-theologisches
414
разбираются довольно подробно, но их материал служит для описания не изменений в
религиозном учении, а форм существования и деятельности церкви и других «внешних»
моментов. Пользуясь на всѐм протяжении работы одними и теми же понятиями и
терминами, Баронио не просто не замечает, а намеренно игнорирует изменение их
логического содержания во времени. Благодаря этому приѐму складывается впечатление,
что папство было неизменным, что римское господство никогда не ставилось под
сомнение, что ереси были не результатом религиозных и нравственных исканий, а
попыткой сбить церковь с единственно правильного пути, которым она шла все эти
столетия. Читателю «Анналов» должно было казаться, что в глубокой древности папы и
императоры вели себя также и решали те же проблемы, что и сегодня; что церковь
воплощала в себе всѐ истинное, чистое и идеальное с точки зрения евангельского завета и
что она, собственно, и продолжает воплощать это в нерушимой, не подвергаемой
сомнению полной мере. Почти полностью отказавшись от описания доктрины (и, во
всяком случае, тщательно избегая разговоров о еѐ возможной трансформации во времени),
Баронио сосредоточился на событийной истории; меньшее внимание уделялось
появлению новых церемоний, законов и обычаев церкви.
Баронио излагает историю по годам с самого еѐ начала, определѐнного в Рождестве
Христовом. Дата рождения Иисуса была краеугольным камнем концепции «Анналов»,
началом истории. Вопрос о дате, месте, даже часе рождения Иисуса представлял в этой
связи такую важность, что историк решил посвятить различным обстоятельствам этого
события специальную главу. Она была названа «Аппарат для Церковных анналов» и
вынесена перед началом собственно анналистской экспозиции; в издании 1601 года эта
глава заняла 56 колонок. В ней подробно описывается ситуация в Римской империи и в
Иудее на момент рождения Иисуса, упоминаются предсказания о его рождении, оракулы
и знамения. Собраны, видимо, все любопытные или загадочные события лет,
предшествующих этому событию; источниками послужили сочинения Плиния, Тацита,
Светония, Диона, Филона и некоторых других авторов. Приводятся ветхозаветные
предсказания появления Мессии. Поднимается и вопрос о генеалогии родителей
Иисуса808. Источниками, помимо крайне скудных сведений Священного Писания,
являются сочинения Отцов церкви, причѐм их мнения не подвергаются критической
проверке. Конечно, после «Магдебургских центурий» говорить о безусловной истинности
всех мнений Отцов было невозможно. Предшественники Баронио оценивали все тезисы
Отцов церкви положительно, за редкими исключениями. Об этом свидетельствует и
высокая локализация текстов Отцов и Учителей в классификации богословских локусов
808
AEM, V. 1 P. 18-29.
415
М. Кано. Баронио уже не ссылается на них как на источник истины, а говорит именно о
«мнениях». Там, где эти мнения не согласуются друг с другом, он приводит их как
взаимно противоречащие мнения частных людей; там же, где они единичны и
информация, позволяющая поставить их под сомнение, отсутствует, они вполне заменяют
собой источник.
С доктринальной точки зрения концепция «Анналов», как и концепция
«Центурий», основывается на словах Иисуса о том, что церковь будет воздвигнута «на
этом камне» (Мф 16:18). Интерпретация этих слов, однако, различна. Если центуриаторы,
следуя Лютеру809, считают, что эти слова Иисус относит к себе и к всем апостолам вместе,
то для Баронио этим «камнем» является апостол Петр. Вопрос об интерпретации слов
Писания мог бы быть дискуссионным, если бы не сложилось богатой святоотеческой
традиции, единогласно говорящей о установленной от Петра преемственности в
руководстве церковью. На страницах своего труда Баронио (как и центуриаторы)
постоянно проводит линию о подтверждении первенства Петра различными документами.
Если бы было недостаточно мнений Отцов церкви, Баронио постоянно приводит
постановления церковных Соборов, слова и сочинения первосвященников… Каждое из
этих утверждений в отдельности может быть подвергнуто сомнению, что, собственно, и
было сделано в «Магдебургских центуриях». Для Баронио, напротив, важна именно их
совокупность: из неѐ рождается consensus Patrum – согласие всех авторитетных церковных
писателей между собой, а также по отношению к Священному Преданию, актам Римской
церкви во все века еѐ существования. «Согласие Отцов» выступило в «Церковных
анналах» как мета-аргумент, далеко превосходящий всякие единичные логические
построения и выводы.
С точки зрения предшествующей историографической традиции отправным
пунктом построений Баронио является «Церковная история» Евсевия Кесарийского. В
самом начале своего сочинения810 историк сообщил, что данные Евсевия заслуживают
полного доверия во всѐм, кроме описания учения Ария и деталей биографии Константина
Великого. Главным недостатком сочинений Евсевия была нечѐткость его хронологии,
вызванная одной фундаментальной ошибкой: он вѐл отсчѐт лет правления Августа от
момента гибели Цезаря. Подробный перечень ошибок Евсевия, отмеченных в «Церковных
809
См. Norelli E. L’autorità della chiesa antica nelle Centurie di Magdeburgo e negli Annales del Baronio. In:
Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno internazionale di studi, Sora, 6-10 ott. 1979. A cura di R. De
Maio, L. Gulia, A. Mazzacane. Sora, 1982. P. 269. См. также Backus I. The reception… cit., V. 2 P. 756.
810
AEM, V. 1. P. 2.
416
анналах», дал профессор Беньямино Санторо ещѐ в начале ХХ века811. Обнаружение
ошибок сыграло важную роль в кристаллизации концепции «Анналов» относительно
предшественников на ниве церковной историографии.
Историки отмечали склонность Барония, как и центуриаторов, к представлению
церковной истории как арены непрекращающейся борьбы добра со злом812; по сравнению
с оппонентами его отличал, однако, сдержанный оптимизм. Этот оптимизм проявлялся
каждый раз, когда от описания преследований Церкви и веры он переходил к торжеству
христианства. Фактически посредством этого оптимизма он отождествлял Церковь с
религией, что в определѐнном смысле облегчало его полемическую задачу.
Важной характеристикой исторической концепции «Анналов» является их
полемическая направленность. Историк стремился как можно меньше воздействовать на
распространѐнные в обществе исторические взгляды с помощью источников и по этой
причине в меньшей степени подвергает их фрагментации или анализу и в большей –
цитированию. В различных местах паратекста (особенно в Посвящениях, а также в
письмах, адресованных автору) мы встречаем настойчивые указания на то, что целью
работы является опровержение противников.
В тексте «Анналов» (в отличие от паратекста) «Центурии» изредка упоминаются в
качестве объекта для полемики. В антверпенском издании для удобства сопоставления
уже появляются ссылки на параллельные места из сочинения идеологического
противника. Тем не менее, на пути противодействия концепции оппонента в
межконфессиональной дискуссии Баронио действовал, как мы бы сказали сегодня,
«несимметрично».
В
частности,
он
полностью
проигнорировал
тему
истории
христианской догмы. Согласно его априорной концепции, учение церкви на протяжении
еѐ истории не изменялось, а значит, и истории как таковой у неѐ не обнаружить. С другой
стороны, центуриаторы доказывали, что практически вся церковная «традиция» не имеет
корней
в Священном Писании, а значит, имеет
более позднее человеческое
происхождение. Противодействие им Баронио заключается в том, что для многих
проявлений этой традиции он пытается обнаружить связь с Евангелием, которая была бы
достаточной для их реабилитации. Конечно, простые верующие следовали определѐнным
моделям религиозного поведения без оглядки на книги; антилютеранская пропаганда с
церковных кафедр тоже делала своѐ дело, и задачей Баронио было обеспечить «книжное»
противодействие идеологическому противнику.
811
Santoro B. Eusebio giudicato da Baronio. In: Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte.
Roma, 1911. P. 331-354.
812
Pullapilly C. K. Caesar Baronius Counter-Reformation Historian. University of Notre Dame Press, Notre Dame
(Indiana), 1975. P. 174.
417
Поиск корней определѐнных традиций в Священном Писании был непростой
задачей. Особенно богатый материал дали Баронио «Деяния апостолов». Упоминания об
одеяниях апостолов стали достаточным поводом для «оправдания» специальных одеяний
священнослужителей (заслуживших когда-то осуждение центуриаторов за несоответствие
Писанию); любое новозаветное указание на зажигание света достаточно для того, чтобы
найти истоки использования в церковном обиходе свечей. Подобным образом были
оправданы целибат, первенство пап, внутрицерковная иерархия, таинства и т. д.813
Другой основной задачей «Анналов», помимо противодействия идеологическому
противнику, de facto стало определение комплекса исторических событий и дат,
формирующих
церковную
историю:
нечто
подобное
сделал
когда-то
Евсевий
Кесарийский, только с тех пор прошло очень много времени. Задача была очень
амбициозной и крайне сложной, поскольку при описании любого события историк должен
был указать его точную дату. При решении этой задачи приходилось искать компромиссы
между уже устоявшимися точками зрения и новыми данными, а также между мнениями
различных хронографов или историков в случае их расхождения между собой. Если
центуриаторы могли позволить себе быть невнимательными к датам или вообще их
игнорировать (им важно было, по сути, определить век события и его место в общем
событийном потоке), то Баронио должен был не только каждый – абсолютно каждый на
протяжении всех 12 томов! – раз указывать точную дату, но и обосновывать еѐ.
Как и любая другая априорно заданная концепция, концепция «Анналов» не всегда
идеально сочеталась с источниками. Некоторые второстепенные источники можно было
игнорировать, но что делать, если источник был крупным и известным? В сложное
положение
попал
Баронио
при
описании
Константинова
дара.
Известный,
раскритикованный ещѐ Валлой (и даже до него) документ был фальшивкой, и не признать
этого было нельзя. Тогда нужно усомниться в релевантности того факта, что он
подложный! Разве не оскорбителен для церкви сам факт существования (фальшивого)
документа, по которому папе дарят то, что ему и так должно принадлежать? 814
Один из элементов исторической концепции «Церковных анналов» приобрѐл в
момент выхода в свет книги особую актуальность и по этой причине должен быть
отмечен. Рассматривая привилегию, выданную 5 июля 1098 года Урбаном II королю
Сицилии Роджеру I (обязательство не назначать легатов в Сицилийском королевстве без
согласия короля и его будущих наследников), Баронио резко высказался против еѐ
813
AEM, V. 1. Col. 203 (ad an. 34, XLVIII), 205-209 (ad an. 34, LII) 311 (ad an. 34, CCXCIII), 531-542 (ad an.
53, IV sqq), 732-744 (ad an. 58, CXXII sqq) и многие другие места первого (в меньшей мере второго) тома.
814
AEM, V. 3. Col. 335-337 (ad annum 324, CXVII-CXVIII). См. также Косминский Е. А. Цит. соч., с. 102.
418
подлинности815. Данный вопрос не имел практического значения до того момента, когда
Сицилией овладела Испания (фактически – в середине XV века). Проблема подлинности
этой привилегии вылилась в затяжной юрисдикионалистский конфликт. Испанские
юристы доказывали, что король имел право контролировать назначение легатов и других
равных по рангу представителей Рима; Курия считала, что в настоящее время у короля
такого права не было. Между представителями Григория XIII и Филиппа II даже
проводились переговоры, но они были безуспешными. Между тем, этот эпизод имел
драматическое значение для самого Баронио. На конклаве 1605 года он не одержал
победы из-за того, что кардиналы из «испанской» партии выступили против него единым
фронтом; причиной была его позиция относительно привилегии Урбана II816.
Несмотря на то, что вердикт Баронио относительно привилегии папы Урбана было
легко предугадать, аргументация его отличается рациональностью. Оригинал документа
был неизвестен; коллекция привилегий была предоставлена в копиях неким итальянцем
по имени Джованни Лука Барбери в 1513 году. Одно это породило у получившего
гуманистическое образование историка глубокий скепсис. В частности, он считал, что
сама идея подобной привилегии в силу своей порочности не могла прийти в голову
праведнику – Баронио считал возможным, что она была выдвинута антипапой Анаклетом
II. Помимо строгих и объективных сугубо исторических возражений, Баронио выдвинул и
важное доктринальное: эвентуальная привилегия противоречила бы идее единой истинной
монархии, основанной Иисусом Христом, то есть папскому единовластию. Весь этот
сюжет получил в историографии название “Monarchia Sicula” и стал одной из наиболее
острых тем в спорах между светскими и церковными историками после Баронио на
полтора столетия. О еѐ актуальности может свидетельствовать следующий любопытный
факт. При переиздании «Анналов» известным их критиком Антонио Пажи 817 в 30-е годы
XVIII века обсуждался вопрос: оставлять в тексте трактат Баронио о Сицилийской
монархии или убрать? Кардинал Льетар считал, что оба решения неверны, поэтому
предлагал вообще обойтись без публикации трактата818.
815
AEM, V. 11. Col. 890 (ad an. 1098). Jedin H. Il cardinale Cesare Baronio, l’inizio della storiografia ecclesiastica
cattolica nel sedicesimo secolo. Brescia, Morcelliana, 1982. P. 62-63.
816
Подробно эта коллизия разбирается в Ruffini F. Perché Cesare Baronio non fu Papa – contributo alla storia
della “Monarchia Sicula” e del “Jus exclusivae”. In: Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua
morte. Roma, 1911. P. 355-430.
817
Annales Ecclesiastici auctore Caesare Baronio … una cum critica historico-chronologica P. Antonii Pagii ... In
qua rerum narratio defenditur, illustratur, suppletur, ordo temporum corrigitur, et periodo graeco-romana munitur.
Lucae, typis Leonardi Venturini,1738-1746. 19 vv. in 4°
818
Mostra per il IV Centenario della nascita del Card. Cesare Baronio. 1538-1938. Roma, 1938. P. 30.
419
Методологическое новаторство «Церковных анналов» сыграли заметную роль в
развитии историописания. Прежде всего, поражает количество документов и другой
информации, переработанной и осмысленной в этом сочинении. Впервые в мировой
практике Баронио систематически исследовал при описании 12 веков христианской эры
данные археологии и эпиграфики, а также привлѐк для истории церкви информацию,
содержащуюся в дохристианских языческих сочинениях (центуриаторы их отвергли
изначально). Очень профессионально (даже по сегодняшним меркам) Баронио подошѐл к
наследию своих предшественников, в том числе Евсевия Кесарийского и его
непосредственных продолжателей. Если на страницах «Центурий» можно увидеть яркие
инвективы против Рима, сочные эпитеты, резкие выпады и даже проклятия, то в
«Анналах» всего этого не встретить: тон внешне беспристрастен, обильно цитируются
документы, стиль сочинения более «позитивен», носит отпечаток личности автора и даже
некоторую художественность. Категорически была отвергнута гуманистическая привычка
пересказа документов с элементами стилистической элегантности: именно Баронио стал
систематически цитировать источники так, как мы это делаем сегодня. Характерная
деталь: даже во время Баронио считал, что собранный им материал будет говорить сам за
себя, а значит, можно соблюсти гораздо более привлекательную для читателя внешнюю
беспристрастность. Колоссальный объѐм использованной Баронио информации был
обоснованием претензии на объективность выводов при том, что на самом деле
объективными они не были – сочинение имело острую полемическую направленность.
Баронио, как и его идеологические противники, начал работу над своим
историческим сочинением с небольшого текста, содержащего основные методологические
установки. Этот текст, правда, не был опубликован вместе с «Церковными анналами»,
однако сохранился в архиве Валличеллианы и был опубликован уже в ХХ веке. Первая
публикация Каленцио819 была признана неудовлетворительной; намного более тщательно
была подготовлена вторая (Стефано Дзен)820. Этот небольшой текст содержит в основном
имена историков, на труды которых Баронио будет опираться при написании «Анналов».
В списке имѐн нет никаких неожиданностей, тем более что все эти имена впоследствии
оказались на полях «Анналов», где были размещены сноски. Тем не менее, некоторые
моменты следует отметить: только здесь мы встречаем указание на «Хронику» Евсевия
как модель при построении анналистской структуры изложения в сочинении Баронио821, а
также то, что для последних веков Баронио планировал широко воспользоваться
819
Calenzio G. Op. cit. P. 909-913.
Zen S. Baronio storico ... P. 347-354.
821
Ibid. P. 348.
820
420
«Хронографией»
Женебрара,
хотя
и
отмечал
многочисленные
фактологические
недостатки этой книги822. Уже отмечалось, что среди источников Баронио отсутствуют
произведения
Эразма
Роттердамского:
Дзен
считал
это
признаком
обострения
противоречий внутри католического мира823. Баронио не читал Макьявелли и
Гвиччардини, но широко использовал данные из сочинений Науклера (построенных на
схеме «шести эпох», бывшей в конце XVI века явным анахронизмом) и Авентина.
Баронио вообще хорошо знал многие тексты историков XV-XVI веков. Если
центуриаторы делали упор на источники, появившиеся вскоре после описываемых
событий или недалеко отстоявшие от них по времени создания, то Баронио больше
прибегал к помощи новейшего исторического знания. Он отлично усвоил из произведений
историков Возрождения их методологические находки, инструменты филологической
критики, воспользовался во многих случаях их уточнениями хронологии процессов и
датировки отдельных событий, однако их концепции остались от него очень далеки. В чѐм
причина? Вот как это характеризует историк:
Его особенно не интересовало выраженной гуманистами новое восприятие
истории, которое было следствием глубоких перемен в ментальности, проявившихся в
области мысли и впоследствии постепенно распространившихся на иные сферы
человеческой жизни. Это восприятие привело историков к высвобождению из-под
тройной подчинѐнности Богу, церкви и традиции, то есть к тому, чтобы жить в
этическом одиночестве, в обстановке автономии мысли и совести824.
В силу своей принадлежности к католической партии, необходимости изложить
официальную точку зрения римской церкви на историю христианства, Баронио не мог не
протестовать против эмансипации мышления, продемонстрированной историками
Возрождения и перенятой центуриаторами, поскольку эта эмансипация подрывала основы
его церковно-исторической концепции.
В целом Баронио унаследовал от ренессансной историографии (как считал Нигг,
«школы Бьондо»825) не только навыки критики источников, но и склонность к ней. В
самом
деле,
после
выступления
центуриаторов
адекватное
участие
в
межконфессиональной полемике без этого было уже невозможно. Баронио сумел
полностью отказаться от «басен» средневековой историографии, преодолеть красивые
822
Ibid. P. 353.
Ibid. P. 26.
824
Ibid. P. 30.
825
Nigg W. Op. cit. S. 71.
823
421
легенды, кочевавшие из текста в текст, но ничего общего с исторической истиной не
имевшие. При этом результаты этой критики, как отмечалось 826, имели второстепенное
значение: устанавливая истину с помощью новейших филологических приѐмов, Баронио
никогда не использует их для решения фундаментальных исторических проблем.
Деградация папства или подложность считавшихся некогда основополагающими для
светской власти церкви документов не обсуждались при помощи этих методов.
Опровержение априорной концепции было невозможным: документы, могущие поставить
еѐ под сомнение, либо подложны, либо требуют больших ухищрений при интерпретации.
При этом следует признать, что единственную, с точки зрения сегодняшнего знания,
грубую ошибку Баронио сделал, поверив Лжеисидоровым декреталиям. Центуриаторы
неопровержимо доказали их подложность, но, возможно, это самое обстоятельство
вызывало у Баронио чувство противоречия. В целом же в деле исторической критики
Баронио был вполне на уровне лучших достижений итальянских гуманистов. В гораздо
меньшей степени он владел логическим инструментарием гуманитарного знания своего
времени – приѐмом гипотезы, построением аналогий.
Строго говоря, задача Баронио была несколько проще, чем у центуриаторов. Если
«магдебургским мужам» требовалось показать сложный, полный драматизма процесс,
состоящий из различных, даже порой разнонаправленных тенденций, то объект
исследования Баронио был более однородным. Центуриаторы могли сопоставлять
источники и взвешивать их, складывая финальную картину из разноцветной мозаики.
Кроме того, центуриаторы, как известно827, стремились развернуть дискуссию в сторону
истории христианского учения, в то время как Баронио получил задание строго отстаивать
линию истории Церкви как института. Итальянскому историку нужно было представить
католическую церковь как организацию, на всѐм протяжении своей истории строго
придерживавшуюся однажды данного закона и изменяющуюся лишь по необходимости,
вслед изменениям в устройстве светского общества. Что делать, если сами документы
представляют картину неоднозначной? Как быть, если историческая реальность
оказывается слишком сложной для того, чтобы соответствовать заданной концепции?
Для этого Баронио пришлось изобрести несколько приѐмов ведения исторической
полемики, широко распространѐнных и в наши дни. В первую очередь, это игнорирование
тех источников, которые не укладываются в концепцию (или даже недостаточно
красноречиво свидетельствуют в еѐ пользу); если же источник никак нельзя было
замолчать, то его анализ сокращался, а вся информация, которая могла быть ему
826
827
См. De Maio R. Baronio storico ... P. XV.
См.Polman P. L’Élément Historique … P. 531, 537 et a.; Backus I. Historical Method … P. 377.
422
противопоставлена, напротив, собиралась по крупицам. Историки давно отметили 828, что
так бороться с нежелательными данными Баронио было проще, чем опровергать их
непосредственно или изобретать устраивающую своих сторонников интерпретацию
неудобных фактов. Иногда эти факты приходилось просто «топить» вморе
второстепенной информации; благодаря этому приѐму общая картина приобретала
стройность и благолепие. Не случайно была избрана любимая в античности и в эпоху
Возрождения
форма
анналов:
изложение
событий
по
годам
повышало
роль
второстепенной информации и облегчало камуфлирование тенденций «длительной
протяжѐнности», если они не вписывались в концепцию. Центуриаторы тоже, конечно,
подбирали только выгодные для своей концепции аргументы, и их историческая картина
представляла мир летящим в преисподнюю благодаря деятельности Святой Римской
церкви. Однако полемическое искусство Баронио стало значительным шагом вперѐд. Уже
было отмечено, что часто историк пользовался теми же фактами, что и авторы
«Центурий»; события, «в которых протестант видел, как устанавливается вся гнусность и
развращѐнность
папства,
католику
только
добавляют
доказательств
его
божественности»829. То, что центуриаторы показывали как узурпацию или неправомерную
претензию, показывалось в качестве свидетельства правомерного величия. Отсутствие
образа противника избавило Баронио от необходимости излагать его тезисы, а также
находить уязвимые пункты его концепции. Труд его отличался также большей по
сравнению с «Центуриями» эрудитской фундированностью: те документы, которые
центуриаторам приходилось тайно выкупать или даже воровать в католических
монастырях, в Ватиканской библиотеке были в распоряжении Префекта в любую секунду.
Большую часть работы Бароний проделывал самостоятельно – в Ватиканской библиотеке
до сих пор хранятся принадлежащие его перу рукописи всех подготовленных им томов
«Анналов». Благодаря этому историк сумел придать сочинению отпечаток личностной
теплоты, и его книга гораздо приятнее для чтения и удобнее в повседневном
использовании в идеологических диспутах, чем труд «магдебургских мужей». Благодаря
трудам центуриаторов и Баронио, вследствие особенной конфликтности ситуации история
стала самой злободневной наукой. Богословский диспут был переведѐн на историческую
почву; близость позиций противоборствующих сторон, сходный круг источников
гарантировали плодотворность научного диалога.
828
Smith P. The Age of the Reformation. NY, 1920. P. 585. Barnes H. E. A History of Historical Writing.
University of Oklahoma press, 1937. P. 126.
829
Baur F. Ch. Op. cit. S. 80.
423
В выборе методологических ориентиров Баронио не обладал особенной свободой,
поскольку был вынужден следовать модели Евсевия. Гуманистический кругозор историка
ощущается в выборе текстов; он умело пользуется и многими сочинениями светских
авторов, явно пренебрегая лишь языческими авторами первых веков. Делио Кантимори
предполагал, что Бароний умышленно стремился казаться гуманистом, чтобы в этом
соперничать с лютеранскими историками830. Из методологических достижений Ренессанса
он
полностью
отверг
соображения
формы
исторического
сочинения
и
стиля.
Категорически отверг он и идею помещения в уста персонажей текстов речей – наследие
античной традиции Фукидида и Тита Ливия. Характерно, что среди советов, поступавших
историку после выхода в свет первых томов, встречалось и пожелание дополнить
характеристику персонажей художественными обращениями к подданным, солдатам и т.
п. – кому-то этого элемента, получившего в ренессансной историографии большое
распространение, очень не хватало. Были и такие критики, которые настойчиво
советовали Баронио внести стилистическую правку в цитируемые источники: он
категорически отказался831.
Комбинация выбранных формы (погодный отчѐт о деятельности Церкви как
института) и простого, ясного, избавленного от риторических ухищрений стиля составила
главное новаторство Баронио: его сочинение было легко читать. Кроме того, с задачей
составить «историю-справочник» для идеологических баталий он справился ещѐ лучше,
чем его противники: «Церковные анналы» охотно приобретались даже для библиотек
протестантских князей. К тому же источники Баронио были по сравнению с
«Центуриями» совсем иными: помимо документов и разного рода текстов, он стремился
расширить свою базу за счѐт археологических данных. Читателю было очень интересно
узнавать, как историк-кардинал лично спускался в катакомбы, рассматривал и приводил в
иллюстрациях изображения на монетах, изучал надписи на архитектурных памятниках и
статуях.
Как уже говорилось, форма анналов была избрана из-за того, что только она
воспринималась как достойная антитеза «истории» «Магдебургских центурий». Кроме
того, такой способ подачи материала, как считалось, обеспечивает большую близость
источнику, а значит, большее правдоподобие концепции832. Было очевидно, однако, что,
830
Cantimori D. La Riforma e l’Umanesimo, In: Idem. Umanesimo e religione nel Rinascimento. Torino, 1975 (2
ed.). P. 162-163.
831
Calenzio G. Op. cit. P. 223, 249.
832
В католической историографии принято считать, что выбор в пользу формы анналов был очень удачным,
что нашло подтверждение в появлении впоследствии других церковно-исторических сочинений,
построенных по тому же принципу: Malvenda T. Annales Ordinis Praedicatorum, Neapolis, 1627; Wadding L.
Annales Minorum. 8 voll. Lugduni, 1625-1654; Mabillon J. Annales Ordinis S. Benedicti, Paris, 1703-39;
424
излагая материал по отдельным годам, историк неизбежно столкнѐтся с необходимостью
либо дробить длительные события на части, перемешивая их с фрагментами рассказа о
других
длительных
событиях,
либо
как-то
отступать
от
строго
анналистской
последовательности.
Внутри каждого года материал располагается в довольно свободной манере. Чѐткой
последовательности нет; каждый год становится поводом рассказать не только о событии,
с большей или меньшей степенью вероятности датируемом этим годом, но и о связанных
сюжетах. Уже упоминавшийся раздел «О Евангелии от Матфея» основан на
сопоставлении точек зрения Евсевия (высказанной в «Хронике») и Иринея (сочинение
«Против ересей», кн. 3, гл. 1). Евсевий утверждал, что Матфей создал своѐ Евангелие на
третий год 204 Олимпиады, то есть в 41 году (это обстоятельство и заставило Баронио
поместить свой рассказ в раздел, посвящѐнный этому тому). Ириней считал, что Матфей
писал свой текст тогда, когда Пѐтр и Павел уже проповедовали в Риме. Легко
предположить, что Баронио, как и другие историки католического направления, был
склонен доверять Евсевию, а Иринея не выделял среди прочих Отцов церкви. Так и есть,
однако интересен и беспристрастный тон Баронио, и подход «на равных», и даже
допускаемая им априори готовность обнаружить правоту (а значит, и неправоту) любого
из сопоставляемых авторов. Еще один удар по локальному методу: ни один из Отцов не
признаѐтся авторитетнее других, а аргументы сопоставляются и анализируются
практически без оглядки на их происхождение. Приводятся обильные цитаты; при
помощи них Баронио показывает, что Ириней противоречил сам себе, поскольку разделял
общепринятую точку зрения о том, что Евангелие от Матфея появилось первым из
Евангелий. В этом случае оно никак не могло появиться в 59 году – именно к этой дате
Баронио относит приезд Павла в Рим («на третий год Нерона»). Выяснив истину, Баронио
в спокойной, свободной от слов осуждения манере приводит утверждение церковного
историка Никифора патриарха Константинопольского, утверждавшего, что Евангелие от
Матфея было написано на 15-й год от вознесения Иисуса. Ошибка Никифора не только
констатируется; Баронио находит и причину, по которой заблуждался вполне уважаемый
им автор, а рассказ об этой причине переносит на тот год (то есть раздел «Анналов»),
который был ошибочно указан Никифором. Относительно же очерѐдности написания
Евангелий Баронио приводит мнения Иоанна Златоуста, Епифания, Афанасия и даже
Тертуллиана, ничем не высказывая положительной или отрицательной оценки этих
авторов в целом. Особенно примечательно это обстоятельство в отношении Тертуллиана,
(Mittarelli J. B, Costadoni A.) Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti. 9 voll., Venetiis, 1755-1773. и др.
См. подробнее: A Cesare Baronio. Scritti vari. Sora, 1963. P. 281 ss.
425
поскольку, как мы знаем, отношение к нему предшественников Баронио было
неоднозначным, и многие считали его еретиком.
Композиция «Церковных анналов» позволила добиться выгодного отличия от
«Центурий» в отношении целостности отдельных сюжетов и удобного восприятия текста.
Например, рассмотренный нами в анализе «Центурий» библейский эпизод об Анании и
Сапфире занимает всего одну колонку833, однако в ней Баронио достигает полной ясности
своей
позиции
и
предлагаемой
информации.
После
пересказа
содержания
соответствующего раздела Деяний апостольских историк переходит к обзору церковных
авторов, высказывавшихся об этом эпизоде (из крупных имен отметим Оригена и
Афанасия). «Пустомеля» (nugigerulus) Порфирий, высказываясь по поводу данного
эпизода, обвинял апостола Петра в излишней суровости, но св. Иероним дал ему суровую
отповедь, которую Баронио приводит целиком. Вкратце он описывает и дискуссию,
возникшую в святоотеческой литературе относительно того, в какой мере смерть Анании
и Сапфиры являлась следствием решения Петра, и какова наиболее точная формулировка
их вины перед Господом. Привлечены мнения Оригена, Афанасия и некоторых других
церковных авторов.
Погодный принцип изложения материала в «Церковных анналах» способствовал
тому, что диспропорция в обеспечении отдельных лет источниками становится
очевидной. Относительно некоторых годов (например, 20, 24-27, 30834) рассказ о годе
ограничивался сведениями о консулах. В то же время, например, правлению Юлиана
Отступника уделено 100 страниц835, хотя центуриаторы его ничем особенным не
выделяли, да и у власти он находился всего два года. Особую важность для Баронио
представлял введѐнный этим правителем культ императора; нам также кажется, что такое
«почѐтное» место в «Анналах» Юлиан получил благодаря тому, что большое внимание
ему было уделено в сочинениях современных ему церковных авторов. Баронио, таким
образом, имел мощное источниковое обеспечение этой темы, выделившее правление
данного императора на фоне других событий и персон IV века.
Бароний ввѐл в церковную историографию целый ряд новых видов источников.
Сюда можно отнести надписи на колоннах и триумфальных арках836, монетах837,
изображения в катакомбах и т. п. Например, исследуя монеты, отчеканенные супругой
Феодосия Младшего Элией Евдоксией, Баронио обнаружил христианский крест. Это
833
AEM V. 1, col. 300-301.
AEM V. 1, col. 108, 109, 112.
835
AEM V. 4, col. 191-391.
836
AEM V. 2, col. 981.
837
Например, AEM V. 1, col. 956.
834
426
позволило ему установить, что эту императрицу напрасно путают с другой Евдоксией –
женой Аркадия838.
Среди новых источников мы встречаем и тексты богослужебного характера, и
греческие церковные песнопения с переводами839. Оригинально и даже неожиданно
выглядят использующиеся в качестве источника эпитафии на могилах светских и
церковных властителей840. Пусть новых источников в количественном отношении совсем
немного, особенно в сравнении с более традиционными их видами: «Церковные анналы»
открыли путь, по которому пойдѐт сначала церковная историография от болландистских
«Житий святых» до сочинений Мабильона и Монфокона, а затем – и светская эрудитская
историография. Пока в «Анналах» новые источники играют сугубо вспомогательную роль
и почти всегда помещаются в конце глав, соответствующих отдельным годам: они лишь
подтверждают ту или иную точку зрения Баронио, высказанную на основании анализа
других источников или пространных умозаключений841.
Хуберт Йедин отмечал, что историческая концепция «Анналов» не подразумевает
периодизации только на первый взгляд842. «Центурии» делят историю на столетия
настолько очевидным образом, что вопрос о делении христианского прошлого на эпохи
могут поставить только исследователи по историографии – центуриаторы эксплицитно
его
не
проводили.
В
рассмотренном
методологическом
сочинении843
Баронио
классифицирует источники по периодам, к которым они относятся. Первый раздел
охватывает эпоху от Иисуса до Константина Великого, второй – до Феодосия II, третий –
от Маркиана до Маврикия, четвѐртый – до Карла Великого, и, наконец, пятый – от Карла
Великого до современной автору эпохи. Фактически первый период описан в первых двух
томах, второй – в следующих двух. Затем, однако, реальность внесла жѐсткие коррективы
в авторские планы. Следующие тома носят отпечаток явного избытка материала; два тома
превратились в четыре. Отдельный том был отведѐн на описание «переноса империи».
Далее работа велась без чѐтких хронологических рамок для отдельных томов, хотя можно
отметить, то Баронио, как и центуриаторы, придавал особое значение 1000 году как
рубежу. То же можно сказать и относительно 100 года, момента окончания первого века
838
AEM V. 6, col. 333.
Например, AEM V. 9, col. 842 и далее – канон, написанный Феодором Исповедником.
840
AEM, V. 10, col. 797, V. 11, col. 13-14.
841
Одним из редчайших исключений может служить помещение эпитафии папы Сильвестра II в начало
главы (AEM V. 11, col. 18, ad an. 1003), но это объясняется исключительной важностью сюжета. Впрочем,
здесь помещение в текст эпитафии не несѐт особой доказательной нагрузки и используется скорее как
иллюстрация.
842
Jedin H. Kardinal … S. 55 и далее.
843
Zen S. Baronio storico ...P. 348-349.
839
427
христианской эры и одновременно начала взлѐта Римской империи – времени «пяти
счастливых императоров».
Ещѐ в процессе публикации «Анналов» начала выходить посвящѐнная им
критическая литература. По ряду очевидных (в первую очередь – экономических) причин
довольно долго обсуждение нового капитального труда велось католической стороной.
Первой важной работой стала полемическая книжечка Паоло Бени, написанная по
прямому указанию Курии – «Рассуждение о «Церковных анналах» кардинала Баронио»844.
Книга была выпущена небольшим форматом с минимальными расходами. По внешним
признакам (формат, крупная печать, паратекст с двумя посвящениями папе Клименту VIII
и
вдохновителю
работы
Дж.
Пинелли)
она
соответствует
«памфлету»
из
межконфессиональной книжной полемики; на деле, однако, она была предназначена для
того, чтобы дополнительно воздействовать на широкую публику, убедить еѐ в
существовании единственно верной точки зрения на церковную историю, а также для
того, чтобы провозгласить непререкаемый авторитет «Анналов» и возвысить их автора до
уровня авторитета Отцов церкви.
Известный в итальянских интеллектуальных кругах генуэзский аристократ
Джанвинченцо Пинелли вдохновил (возможно, также и материально) Паоло Бени на
сочинение об «Анналах» и, как мы узнаѐм из посвящения, сформулировал задачу
относительно жанра этого сочинения. Автор «Рассуждения» не стремился к обоснованию
своих тезисов учѐными замечаниями, ограничившись эмоциональными оценками. Мы
выделяем «Рассуждения» из потока литературы, написанной по указке из Рима для
восхваления «Анналов», в первую очередь, из-за определѐнной смелости некоторых
содержащихся в них тезисов. Прежде всего, Бени исходил из того, что если концепция
Баронио получила всемерную поддержку, то все, кто ей противоречит, может быть
осуждѐн.
В
«Рассуждениях»
достаѐтся
даже
схоластическим
теологам,
противопоставляемых Баронио: в отличие от последнего, они смешали истинное с
ошибочным. Последнее появилось в их учениях из-за того, что изучение еврейских и
греческих древностей было прервано. Книга Бени доказывает, что полемика «Анналов»
против центуриаторов была для всех очевидной, и отсутствие упоминаний противников
никого не должно вводить в заблуждение.
Проект Баронио остался после его кончины незавершѐнным, и в XVII-XIX веках
неоднократно предпринимались попытки продолжить «Церковные анналы». Стефано
Дзен составил список продолжателей, в который включил и тех, кто составлял более
844
Pauli Benii Eugubini Sacrae Theologiae Doctoris De ecclesiasticis Baronii Cardinalis Annalibus disputatio.
Romae, 1596. 46 c.
428
краткие версии «Анналов», а также тех, кто планировал сделать перевод на национальные
языки. Список Дзена состоит из двух десятков имѐн 845: большинство из этих планов
остались нереализованными. Выход в печати «Анналов» стал мощным стимулом для
появления историко-церковной литературы меньшего масштаба, а в более широком
смысле – для заметного роста интереса учѐной публики к эрудитским занятиям на тему
истории церкви. Иезуит Габриеле Бишола написал «Эпитомы Анналов»846; кѐльнский
каноник Корнелиус Шультинг – «Сокровищницу церковных древностей»847 - собрание
фактов из «Церковных анналов» в восьми томах небольшого формата. Обе книги
получили одобрение Баронио и были напечатаны ещѐ по ходу издания «Анналов». Всего
«Анналы» переиздавались более 20 раз. Ещѐ при жизни автора появились переводы на ряд
европейских языков; польский пересказ Петра Скарги (1603) использовался и
российскими богословами. С конца XVII века выдержки из «Анналов» получили
хождение среди старообрядцев-беспоповцев. В 1719 по инициативе Синода был выпущен
сокращѐнный русский перевод «Анналов»848. Продолжения «Анналов», их переводы и
пересказы (латинские и на новых языках) должны стать объектом отдельного
исследования, выходящего за пределы нашей темы.
Первые критические высказывания против «Анналов» принадлежат знаменитому
борцу с римской Курией, автору «Истории Тридентского Собора» Паоло Сарпи. Критика
Сарпи была направлена, главным образом, против самой идеи Анналов849. По его мнению,
Баронио не изучал историю, а просто спроецировал на прошлое картину из настоящего.
Так получилось, что в древности папская власть над христианами была такой же, как
сегодня. Одной из причин резкой критики Сарпи было то, что Баронио не сомневался в
Исидоровых декреталиях, в то время как Центуриаторы уже их критиковали. В то же
время, дополнительным раздражителем для славного полемиста стала массовая и показная
поддержка Баронио и его труда со стороны католической учѐной братии и официального
Рима. Паоло Сарпи, в частности, неоднократно подчѐркивал в письмах, что «Баронио
считается в Риме пятым евангелистом», что он принадлежит к тем, кто «в качестве Бога
почитают только понтифика» и т. д850. Поводом для критики Баронио и «Анналов» стала
845
Bellarmino e la Controriforma. Atti del Simposio internazionale di studi sotto l'Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Sora, 15-18 ottobre 1986. A cura di R. De Maio, A. Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane.
Sora, 1990. P. 303-304.
846
(Bisciola G. SJ) Epitome Annalium Ecclesiasticorum Caesaris Baronii S. R. E. Card. Biblioth. Apost. V. 1-2,
Venetiis, 1602.
847
(Schulting C.) Thesaurus antiquitatum ecclesiasticarum Caes. Baronii. Vv. 1-8, Coloniae, 1602-1603.
848
Бароний Ц. Деяния церковные и гражданские от Р. Х. до XIII столетия. М., 1719. 4 т. ; То же. М., 1913-15.
849
850
См., в частности, Ulianich B. Paolo Sarpi. Lettere ai Gallicani. Wiesbaden 1961. P. 9, p. 16, p. 262 e a.
Цит. по: Jedin H. Kardinal … S. 31.
429
глубокая конфессиональная ангажированность, зависимость оценок от точки зрения
Курии851.
Учѐная критика «Анналов» зародилась среди историков-протестантов (И. Казобон,
И.-Г. Ходдингер и Г. Арнольд). Первыми критиками с католической стороны, искавшими
и находившими в «Анналах» многочисленные неточности, стали префект Ватиканской
библиотеки Лукас Хольсте и Луи Элли-Дюпен. Самыми известными работами историковкатоликов, содержащими развѐрнутую критику Баронио с указанием многочисленных
неточностей в «Анналах» (разумеется, при полном признании заслуг Баронио перед
церковью и историей), были вышедшие в конце XVII и в начале XVIII столетия книги Ф.
Шпанхайма852 и А. Пажи853.
В
литературе
XX
века
встречаются
различные,
порой
противоположные оценки «Церковных анналов». Например, Э. Фютер
диаметрально
писал 854, что
Баронио и его ближайшие последователи полностью выполнили задачу развенчать
«Центурии», и в других работах на ту же тему потребности не было. П. Польман,
напротив, считал «Анналы» лишѐнными оригинальности с исторической точки зрения.
«… Анналы не имели большого значения для полемики против протестантов. История
догмы в них изучены недостаточно, и противоречивые исторические проблемы
рассматриваются недостаточно оригинальным образом. Кроме того, полезные для
полемистов сведения будто погребены в них под массой постороннего материала и по
этой причине они остаются малодоступными для тех, кто в них нуждается»855.
Оценивающий «Церковные анналы» скептически историк принадлежал к католическому
лагерю, как и Х. Йедин, отчасти разделяющий эту точку зрения856. «Панвинио и
Баронио… выдвинули против «Центурий» ещѐ не полную и законченную католическую
историческую картину, но изобилие нового опыта и фактов, которые эту картину
подготовили»857. Эта оценка является и сегодня общепринятой, разделяемой как
католическими, так и лютеранскими историками. Она основывается на представлениях о
851
Довольно подробно критика Сарпи рассмотрена в работе Джузеппе Рикуперати Ricuperati G. Cesare
Baronio, la storia ecclesiastica, la storia “civile” e gli scrittori giurisdizionalisti della prima metà del XVIII secolo.
In: Baronio storico e la Controriforma. Atti del convegno internazionale di studi. Sora, 6 – 10 ottobre 1979. Sora,
1982. P. 760-766.
852
Spanheim F. Introductio ad chronologiam et historiam sacram ac praecipue christianam, ad tempora proxima
reformationi. Cum necessariis castigationibus Caesaris Baronii. Lugduni Bat., 1683.
853
Pagi A. Critica historico-chronologica in universos annales ecclesiasticos em. et rev. Caesaris Card. Baronii. 4
vv., Anversae, 1705. Первый том этой работы был выпущен при жизни автора в 1689 году; три остальных по
сохранившимся рукописям подготовил и издал племянник автора Франсуа Пажи.
854
Fueter E. Storia della storiografia moderna. Napoli, 1970. P. 341.
855
Ibid. P. 537.
856
См., например, Jedin H. Kardinal … S. 56.
857
Jedin H. Zur Entwicklung des Kirchenbegriffs im 16. Jahrhundert. In: Relazioni del X Congresso internazionale
di Scienze Storiche. Roma, 4-11 sett. 1955. Bd. IV, Roma, 1955, p. 73.
430
контексте межконфессиональной полемики и на понимании колоссального прогресса,
достигнутого впоследствии в трудах болландистов, мавринцев и не только.
Мы считаем необходимым несколько уточнить эту оценку. Прежде всего, следует
отметить не только огромные затраты сил и энергии, не только уникальное упорство и
трудолюбие автора, но и его способность воплотить массовую поддержку и почти
идеальные условия работы в произведение огромного объѐма и кругозора. Баронио
подошѐл к церковной истории с заранее определѐнным концептуальным принципом,
который заставлял его искать корни всех критиковавшихся противником факторов жизни
католической церкви в евангельской древности. Его концепция была, по сути,
антиисторична, поскольку подменяла идею живого развития (подразумевающую
появление и отмирание традиций, элементов культа и т. д.) идеей трансформации уже
заданных элементов путѐм, который имплицитно подаѐтся как единственно правильный.
Несмотря на антиисторичность этой концепции, «Анналы» стали существенным шагом
вперѐд: огромный временной отрезок был описан под единым углом зрения, связным
текстом. В ход были введены новые источники, был очерчен круг дат и событийных
линий, составивших содержание церковной истории с начала христианской эры до конца
XII века (центуриаторы, как мы отмечали ранее, в целом избегали точной датировки, а
связное изложение комплекса событий или целой сюжетной линии, выходящей за рамки
того или иного столетия, при их методе было невозможным). Отказ Баронио от изучения
истории христианской догмы постоянно ставится историку в вину. Нам представляется,
что этот отказ не только был закономерен, но и является обозначением начала новой
тенденции к постепенному высвобождению церковной историографии из-под доминации
богословия. Конечно, до полной эмансипации этой научной дисциплины от принципа
конфессиональной принадлежности и даже главенства веры было ещѐ далеко, однако
процесс, завершающийся в наши дни, начался именно с «Анналов».
431
Заключение
Итак,
проведѐнное
нами
исследование
позволило
составить
комплексное
представление о межконфессиональной дискуссии в западноевропейской церковной
историографии XVI века. Некоторое время после выступления первых деятелей
Реформации церковная историография оставалась несколько в стороне от религиозного
конфликта,
продолжая
развиваться
в
целом
в
рамках
жанров
и
традиций
предшествующего периода. В 1530-40 гг. были получены впечатляющие результаты
применения знаний, философских и филологических достижений гуманизма в области
изучения истории церкви, и в то же время подготовлена почва для перенесения на неѐ
идеологического спора. Анализ ряда распространѐнных текстов первой половины
столетия показал разнообразие жанров церковной истории, пестроту тематики, а также
различную
степень
привлечения
церковных
материй
в
канву
исторического
повествования. Методологические новшества (в первую очередь – зарождавшийся
локальный метод) способствовал рационализации церковно-исторического дискурса, что,
в свою очередь, обеспечило гносеологическую основу для ведения дискуссии с
привлечением исторического материала.
Выход в свет «Магдебургских центурий» существенно повлиял на содержание
церковной историографии и ход межконфессиональной полемики. Как мы видели,
перелом в церковном историописании наступил после выхода уже первых томов этого
сочинения.
Анализ
подготовительной
работы,
проведѐнной
Флацием
и
его
единомышленниками, позволил раскрыть осознанное стремление авторов «Центурий» к
созданию новой, оригинальной и в то же время резко критической по отношению к
официальному Риму концепции церковной истории. Резко активизировавшаяся в ответ
католическая партия некоторое время не могла предложить адекватного ответа
выступлению своего идеологического противника, однако завязавшаяся оживлѐнная
дискуссия повлекла за собой мобилизацию интеллектуальных и материальных ресурсов.
Новаторство концепции «Центурий», богатство источниковой базы, новая техника
обработки и изложения материала привлекли к историко-церковным сюжетам и спорам
множество людей. Это явление вполне вписалось в общий процесс конфессионализации
Западной Европы, способствовав росту интереса к чтению, печатным дискуссиям, а также
дальнейшей рационализации церковно-исторического знания. Римская католическая
церковь мобилизовала для защиты своего идейного облика множество авторов; первые их
сочинения оказались неспособными противодействовать успеху «Центурий». Вторая
волна текстов, в написании которых основную роль сыграли учѐные иезуиты, в большей
432
мере соответствовала поставленным целям, успешно противодействуя концепции
лютеранских историков по ряду частных вопросов. Наконец, последним важным
событием межконфессиональной дискуссии XVI века стала публикация «Церковных
анналов» Ч. Баронио. Концепция этой книги не уступала «Центуриям» в масштабности,
однако в ряде аспектов, прежде всего в методологии и источниковедении, она
знаменовала собой новый этап, выйдя на более совершенный уровень. Дальнейший
существенный шаг вперѐд католической историографии будет совершѐн во второй
половине XVII века, что оказывается далеко за рамками данной работы.
Проделанная нами работа позволяет сделать ряд важных выводов. Прежде всего,
очевидно, что западная церковная историография в XVI веке, возродившись после долгой
летаргии, не только возрождается, но выделяется в самостоятельную отрасль знаний. Она
сочетает характеристики научной отрасли и сферы идеологической борьбы. В качестве
первой она пережила глубокую трансформацию: интенсивный труд представителей
разных
дисциплин
(богословов,
философов,
филологов-классиков)
способствовал
разработке понятийного аппарата и утверждению на основе «локального метода» новых
проблематик, задач и способов их решений. От церковной истории в конце XVI века не
только ожидали ответов на вопросы о причинах и последствиях тех или иных событий, но
и об их познаваемости, о роли тех или иных источников и доверии к их категориям, о
методах и пределах исторического познания. Историей стали заниматься профессионалы,
для которых написание научных трудов лишь венчало долгий путь, начинавшийся с
освоения филологических, логических, богословских и других методов работы. В
дальнейшем в церковной историографии XVII века идеологические императивы будут
постепенно отходить на задний план: формирование возможностей для диалога
постепенно замещало характерное для предыдущей эпохи стремление доказать свою
правоту любой ценой. Это способствовало сначала дальнейшему прогрессу в области
методологии, а впоследствии – и снижению враждебности в полемике, формированию
профессионального диалога. Непримиримые идеологические противники научились
слышать друг друга и относиться с уважением хотя бы к наиболее заметным достижениям
противоположного лагеря. Одновременно растущие требования к научному уровню
исторических трудов способствовал складыванию традиции научной критики.
Мы увидели, что важнейшую роль в эволюции церковной историографии (и
исторического знания в целом) сыграла межконфессиональная дискуссия, которую вели
между собой лютеранские и католические учѐные. Церковная историография в XVI веке
вышла за пределы одного из второстепенных жанров гуманистического историописания и
стала в высшей степени актуальной идеологической сферой. Развитие научного элемента
433
также способствовало постепенному снижению градуса политической остроты. После
отхода Флация от «Центурий» интерес лютеранской стороны к этой стороне полемики
заметно снижается: в начале XVII века ряд шагов будет предпринят историкамикальвинистами, и их критика будет направлена не только против католиков, но и – в
несколько меньшей мере – против лютеран.
Исследование церковной историографии первой половины XVI века показало, что
подавляющее большинство концепций и работ появились в германских землях. Проповедь
Лютера вызвала мощный всплеск интереса к истории, что отразилось на резко возросшем
количестве публикаций объѐмных исторических трудов с цельными концепциями. Ещѐ в
30-е годы различия между церковной и всеобщей историей были непринципиальны, и их
проблемы рассматривались совокупно. Книжный рынок требовал всѐ новых и новых
сочинений.
Распространение
взглядов
«протестующих»
способствовало
росту
грамотности, а она, в свою очередь, стимулировала развитие книжного дела. Во многих
германских городах резко растѐт количество типографий, увеличивается ассортимент
выпускаемых ими книг. Некоторые города – Страсбург, Базель, затем Франкфурт-на
Майне, ещѐ позже Магдебург – входят в число лидеров европейского книгопечатания,
догоняя Венецию, Париж и Амстердам. Мы видели и новаторские концепции, и попытки
«перебросить мостик в позднюю Античность» - возобновить почти утраченную на Западе
прямую
линию
классической
церковной
историографии.
Великие
повороты
в
историографии происходят вслед за великими переменами в общественной жизни; они
порождены стремлением осмыслить происшедшее, поместить его в сложившиеся в
обществе эсхатологические схемы. Перемены в религиозной жизни начали проявляться
после выступления Яна Гуса и его единомышленников, однако потребовалось немалое
время для того, чтобы накопилась «критическая масса» недовольных, чтобы появилось и
набрало силу книгопечатание – важнейшее условие циркуляции идей. Появление новых
технологий, удешевление печати, превращение книг в удобные средства хранения и
передачи информации стимулировали обновление и в церковной историографии.
Наконец, интерес к истории в обществе стал расти по мере того, как всѐ большее
количество людей было ориентировано на поиск религиозной истины в Священном
Писании и на отделение еѐ от априорно считавшихся «искажениями» позднейших трудов.
Мощный толчок, приведший к резкому росту интереса к истории, к формированию более
высоких критериев профессионализма и к превращению, в конечном счѐте, истории в
науку, был дан изданием «Магдебургских центурий» - первой комплексной церковной
истории, написанной протестантами. Взаимные обвинения в «новаторстве» вызвали
стремление отделить реальное прошлое от наслоений домыслов и фальшивок, создать
434
цельную
и
логичную
концепцию,
полностью
поддающуюся
–
несмотря
на
идеологизированность и господство богословских постулатов – логическому осмыслению
и критике.
В идеологическоп плане церковная историография 30-х годов не позиционировала
себя как противостоящая Риму; наоборот, она оттолкнулась напрямую от позднеантичной
традиции. Ещѐ раньше, в конце XV века, вскоре после распространения книгопечатания
на германских землях, стали появляться переиздания ряда старинных текстов, и среди них
– «Трѐхчастной истории». В 20-е годы XVI века интерес к этой теме появляется у ряда
ведущих гуманистов. Наиболее заметны были усилия Беата Ренана: эльзасский учѐный не
только провел глубокую филологическую подготовку позднеантичных греческих и
латинских текстов, но и способствовал росту в обществе интереса к такого рода чтению.
Качественные издания привлекли к историко-церковным материям новую долю
читательского рынка. Надѐжным свидетелем роста интереса становится коммерческий
успех: издания Беата Ренана пользуются спросом до середины столетия. В ряде аспектов
(например – в критике чудес, переполнявших историко-церковные сочинения поздней
античности и раннего средневековья) Ренану удалось значительно опередить своѐ время.
В первые годы после проповеди Лютера традиционная католическая версия
церковной истории утратила действенность. На протяжении длительного времени в
обществе в целом отсутствовала более или менее консолидированная концепция
церковной истории, и успех могли иметь самые различные версии. Ярким примером
сказанного может служить «Хроника» Себастьяна Франка. При всей оригинальности
взглядов, весом вклад Франка в общий процесс развития церковной историографии. Он
первым поставил проблему соотношения между светской и Священной историей, а в
рамках последней – между ветхозаветной и новозаветной еѐ частями. Одновременно он
рассматривает вопросы сосуществования «видимой» и «невидимой» Церкви, между
Церковью (как практикой) и еѐ учением. Другим безусловно прогрессивным аспектом
сочинения Франка было новое представление о цели труда историка, из которого
следовала тенденция «самоустраниться» из своей реконструкции исторического процесса.
Если сочинение Франка было сложно для понимания и адресовывалось
искушѐнной аудитории, то издания Христиана Эгенольфа были ориентированы на
массового читателя. Изучение их показывает, как выглядела история Церкви в 1530-е
годы в глазах простых верующих, ищущих в исторических книгах развлечения и
расширения кругозора. В конце концов, история влияет на современность именно через
массовые концепции, и изучение сколь угодно обширного ряда элитарных текстов не
должно затмевать от нас важности этого обстоятельства. Типичность исторических
435
«Хроник» Эгенольфа подтверждает другая массовая литературы тех же лет, в частности, «Хроника Кариона». Очевидно, отредактированное Меланхтоном сочинение – не попытка
«научить Германию» истории, а стремление придать некоторую протестантскую
направленность наиболее широко распространѐнной исторической схеме своей эпохи.
Исторические сочинения поздней античности можно было издавать по-разному и с
разными целями. Каспар Хедио сделал перевод «Трѐхчастной истории» на новый
(немецкий) язык, надстроил на ней текст «Хроники» своего собственного сочинения и
создал вполне композиционно завершѐнную протестантскую историю (которую он сам
назвал «Хроникой») христианской Церкви. Его концепция зиждилась на понятии череды
императоров как хронологического стержня. Одновременно он отказался от наиболее
устойчивых стереотипов историописания вроде схемы шести эпох или четырѐх монархий.
Мы знаем, что отказ от этих стереотипов не был принят профессиональными историками
безоговорочно, и даже в конце XVI века – спустя более полувека после работ Хедио –
исторические сочинения, ориентированные на широкую публику, подчас опирались
именно на них. Между тем, книга Хедио пользовалась несомненной популярностью и
много позже. Издание 1572 года было осуществлено на волне интереса к «Центуриям» и в
более широком смысле – в разгар историко-церковной полемики, одновременно с
выходом множества новых сочинений обеих партий. Интерес к этой публикации
поддерживался
популярностью
«Центурий»:
книга
Хедио
в
1572
году
могла
восприниматься как публикация их источников.
Параллельно
методологических
тому,
проблем,
как
историки
богословы
и
искали
решение
философы
основополагающих
оттачивали
к
грядущим
идеологическим битвам своѐ оружие. Учѐные схоластической школы новой волны (так
называемой Второй Схоластики) разработали важнейший методологический инструмент,
с помощью которого можно будет без проблем определять, за кем правда в случае
разночтений в различных источниках, - так называемый «локальный метод». Метод
основывался на понятии о степени достоверности того или иного письменного источника;
любое сообщение («локус») в зависимости от места, из которого оно было взято,
располагалось на том или ином уровне иерархии локусов. После такого идеального
расположения тот локус, категория которого была выше, получал логическое
преимущество и считался истинным. Конечно, в зависимости от подбора различных
источников можно было получить разные наборы локусов, а посредством установления
иерархических отношений между ними – доказать истинность одной картины перед
другой. Оставляя обширное пространство для всякого рода логических манипуляций, этот
метод, тем не менее, подразумевал возможность объективного сопоставления точек
436
зрения, диалог, общие для всех правила. Со временем именно эта сторона
межконфессиональной полемики трансформировалась и создала предпосылки для
перехода дискурса полностью в научное поле. Сложности применения этого метода в
ситуации отсутствия ясных иерархических ориентиров были показаны нами на примере
историко-догматических сочинений католического автора Томмазо Кампеджи. Очевидно,
к концу тридентинского периода римская Курия уже разработала мощные логические
механизмы, которые в идеале должны были позволить ей обратить церковную
историографию, как и ряд других дисциплин гуманитарного знания, на службу своей
богословской концепции. Не хватало только конкретных работ, которые превратили бы
схоластические абстракции в убедительное развенчание концепции идеологического
противника.
В это время в лагере лютеранских богословов зрел новый, не виданный ранее
масштабный труд. В стремлении логически доказать истинность своих обвинений Святого
Престола группа авторов, сплочѐнных авторитетом Матиаса Флация, приступила к
приготовлению многотомного сочинения по истории Церкви – так называемых
«Магдебургских центурий». Это был уникальный проект, во многих отношениях ранее не
известный науке. Был создан большой коллектив, обязанности внутри которого были
чѐтко распределены. Заранее была определена концепция, очерчен и подробно обсуждѐн
круг источников. Источниковая база этой книги была уникальной и охватила не только
практически все опубликованные тексты, но и большое количество документов,
собранных в хранилищах от Шотландии до Речи Посполитой. Наконец, уникальным был
метод изучения источников и экспозиции. Источники также сравнивались согласно
«локальному методу», однако метод «Центурий» был значительно шире. Отдельные
сообщения источников тщательно собирались и классифицировались, разделяясь на 16
главных тем, а внутри них – на множество мелких. Эта титаническая работа велась почти
два десятка лет, в проекте менялись люди, участники переезжали в разные города; работе
сопутствовали конфликты, материальные трудности… Тем не менее, работа была
доведена до конца XIII века и составила 13 фолиантов. Помимо новаторства с научной
точки зрения, этот труд отличался и беспрецедентной полнотой фактов, став для многих
людей хранилищем ценной исторической информации. Систематизированное изложение
позволяло в случае необходимости легко отыскивать нужные отрывки, подбирать их по
темам, отбирать их для проповеди, богословского диспута, справки для чиновника или
учѐной беседы.
Первым идею написания истории в протестантском ключе высказал Лютер;
Меланхтон придал ей более конкретную форму. Тем не менее, лавры главного идеолога,
437
разработчика концепции, организатора и лидера этого проекта на начальном этапе по
праву отдают Матиасу Флацию Иллирику – интеллектуалу со сложной судьбой,
олицетворившему в своей персоне сложное взаимодействие славянского, романского и
германского мира. Как мы выяснили, истоки своеобразия его мышления, религиозных
взглядов, ответственных решений и поворотов судьбы следует искать не в происхождении
или влиянии отдельных лиц, а в способности вобрать в себя разнообразные тенденции,
почерпнутые им в общении с первыми учителями, церковниками, венецианскими
наставниками. Через последних прослеживается глубокая связь Флация с традицией
венецианского гуманизма, а также венецианской формой религиозной гетеродоксии.
Духовная атмосфера протеста против засилия Рима, привычка проверять идеологические
установки собственным разумом, самостоятельность мышления облегчили молодому
человеку переход в лагерь последователей Лютера.
За время, прошедшее между формированием лютеровского взгляда на церковную
историю и выходом в свет «Магдебургских Центурий», историографияпротестантского
лагеря сделала очень значительный шаг вперѐд. Еѐ развитие можно проследить, вопервых, по эволюции исследовательской методологии, концептуальной целостности,
логичности и более строгой зависимости от источников, наконец, искусства экспозиции в
первых исторических сочинениях. Первым импульсом к началу этой эволюции стало
знакомство широких масс читателей с классическими трудами («Церковной истории»
Евсевия и «Трѐхчастной историей»). В конце концов эти книги были переведены на
немецкий язык, что познакомило с ними широкие массы интеллектуалов вне
университетского круга; появившиеся комментарии и дополнения (Хедио) стали
следующим шагом вперѐд, за которым последовало и появление концепций Франка и
«Хроники Кариона». Во-вторых, значительный прогресс был достигнут непосредственно
авторами «Магдебургских Центурий» в процессе подготовки своего труда. Бурная
дискуссия середины 50-х годов сопровождалась не только рядом теоретических
сочинений, но и подготовкой сравнительно краткого изложения концепции в «Каталоге
свидетелей истины» и последующим обсуждением в устных спорах и в печати.
Во время работы над «Центуриями» Флаций в одиночку написал и издал
оригинальное историческое сочинение – «Каталог свидетелей истины». Эта книга
содержала не только некоторые черты исторической концепции будущего «большого»
труда, но и очертила круг авторов, чьи сочинения в «Центуриях» будут рассматриваться в
качестве линии преемственности от Церкви Христовой до современных авторам событий.
Анализ «Каталога» показал, что среди «свидетелей истины» Флаций видел не только
богословов, светских правителей или отдельных иерархов Церкви, но и отдельные
438
события церковной истории, и некоторые тексты, и даже некоторые курьѐзы. Книга стала
предметом дискуссии в стане протестантских интеллектуалов, что, безусловно, ещѐ более
увеличивает правомочность рассмотрения «Центурий» в качестве произведения,
выражающего общепринятую в среде лютеранских учѐных концепцию.
Изучение «Магдебургских центурий» показало, что эта книга представляет собой
практически неисчерпаемое содержание для современного исследования. В нашей работе
«Центурии» впервые подвергнуты подробному анализу, проведѐнному не ради себя
самого, а с точки зрения помещения работы в широкий контекст церковной
историографии XVI века, охватывающей десятки произведений и несколько десятилетий
развития науки.
Много интересного сообщил паратекст «Магдебургских центурий». Прежде всего,
исследование в жанре «истории книг» позволило выяснить, как видели авторы книги еѐ
место на книжном рынке, какую судьбу еѐ готовили. Для того, чтобы найти своего
читателя и иметь возможно более широкое распространение среди единомышленников,
требовалось предпринять некоторые шаги. Выбор шрифта, объектов для «Посвящений»,
названий глав и других подобных элементов сообщили нам много интересного. В
частности, выбор формата диктовался не только огромным количеством информации (это
можно было бы урегулировать большим количеством томов), но и предназначенностью
книги для долговременного хранения текста.
Историческая
концепция
«Центурий»
отталкивается
от
представлений
о
евангельской эпохе как «золотом веке» церковной истории, некоем идеальном порядке; в
последующие века различные события стали увлекать Церковь всѐ дальше от идеала. Если
в первые века «разрушение древних доблестей» было едва заметно и сказывалось в
основном в отдельных опрометчивых высказываниях церковных авторов, то после
острого политического конфликта начала IV века, проповеди Ария и реформ Константина
процесс отхода от «примитивной Церкви» значительно ускорился.
Важнейшим из нескольких лейтмотивов «Магдебургских центурий» были 4 главы
каждого тома, из которых складывается связный сюжет – история христианского учения.
Центуриаторы впервые в истории осознали, что христианская догма не статична, а
преобразуется параллельно с преобразованием общества. Общая историческая концепция
сложилась у центуриаторов ещѐ до работы над основным текстом; важнейшую роль в
этом процессе сыграл «Каталог свидетелей истины». Каждое столетие получило
определѐнный исторический образ, укладывающийся в промежутке от процветания до
кризиса через переломные эпохи. История христианского учения находилась в
зависимости от этих представлений, и принадлежность того или иного деятеля к
439
определѐнной эпохе была важнейшим элементом оценки его творчества, возможно, даже
более важным, чем его объективно понимаемые заслуги.
Главы, посвящѐнные «управлению Церковью», стали первой в науке комплексной
историей зарождения и эволюции Папского государства. Историкам удалось проследить
процесс формирования «идеи» о светском государстве пап на фоне нарождающегося
противостояния церковной и светской власти. В VIII веке ситуация меняется; меняется и
тон рассказов о формировании в Центральной Италии нового государства. Папская
область становится одним из важнейших субъектов европейской политики, и это также
находит
прямое
отражение
на
страницах
«Центурий».
Процесс
политического
возвышения папства центуриаторы тесно увязывали с его материальным обогащением, и
это также было сделано в исторической науке впервые.
Авторы
«Магдебургских
центурий»
демонстрируют
высокое
мастерство
исторического анализа. Например, новшества в трудах ведущих богословов оцениваются
не «сами по себе» в сопоставлении с Библией, а по мере накопления: историки
подмечают, какие «отклонения от искренней доктрины» были сделаны ранее, а какие –
привнесены тем или иным автором. Этот историзм оказался недоступен другим историкам
той эпохи; он свидетельствовал о высоком профессионализме, а также – и это очень важно
– о наблюдавшемся в XVI веке методологическом лидерстве церковной историографии в
ряду других исторических дисциплин.
Работа над текстом «Центурий» занимала огромное время и требовала, кроме того,
колоссального физического и материального ресурса. В своей работе историки исходили,
во-первых, из ощущения близящегося конца света (особенно заметно это было в самых
последних томах, когда руководство проектом перешло к Виганду), а во-вторых, из
представлений о том, что после «Центурий» другая церковная история просто не
понадобится – настолько она была всеохватной по материалу и универсалистской по
концепции. Грядущая «Смерть истории» - важнейший элемент мировоззрения авторов
книги, а также стимул для максимально добросовестного исполнения своих обязанностей.
Ответ католической партии не заставил себя долго ждать. Во-первых, нанесѐнный
идеологический удар был очень силѐн и требовал незамедлительного противодействия.
Правильно выбранная маркетинговая стратегия усиливала убедительность исторической
концепции; ещѐ до окончания Тридентского Собора возникал риск усиления брожений в
католических землях и дальнейшей экспансии протестантизма. Во-вторых, определѐнные
шаги уже были предприняты после того, как в печати просочились сведения о
готовящемся крупном историческом труде. Противника проинформировал скандал,
раразившийся в стане лютеранских историков вокруг проекта и лидерства в нѐм. Как бы
440
то ни было, первые ответы католической стороны были торопливы и неудачны. Их тоже
было решено подвергнуть исследованию – для определения господствующих настроений,
ситуации «на фронтах» межконфессиональной полемики, а также в цеху историографии
совершенно недостаточно изучать только выдающиеся произведения, особенно если в ту
или иную эпоху превалируют посредственные. Именно это можно сказать о выступлениях
Бухингера, Брауна, Айзенграйна и некоторых других католических авторов «первой
волны». Флаций даже взял труд ответить Брауну, хотя это и не было необходимо –
инициатива в полемике и без того надѐжно принадлежала лютеранам и укреплялась
выходом в печати новых томов «Магдебургских центурий».
Ситуация стала меняться, когда организацией ответного действия занялся Орден
иезуитов. К идеологической борьбе удалось привлечь крупнейших учѐных католического
мира; Пѐтр Канизий, Франсиско Торрес и Онофрио Панвинио (последнему не удалось
завершить свой труд самостоятельно) выдвинули первую достойную альтернативу работе
Флация и его товарищей. Труды этих авторов касались отдельных тем – природы
папского лидерства в католическом мире, интерпретации образов отдельных библейских
персонажей и некоторым другим; эти темы, несмотря на относительную узость, имели для
богословской концепции особое значение. Критика была высокопрофессиональной,
однако часто в ответ на доводы историко-церковного характера католические писатели
ограничивались
возражениями
богословского
характера,
и
это
препятствовало
продуктивности профессиональной дискуссии. Позже эту линию в сугубо богословском
поле продолжит ведущий теолог Святого Престола – кардинал Роберто Беллармино.
Его товарищ Чезаре Баронио выступит в самом конце столетия с мощным ответом
католической партии – 12-томными «Церковными анналами». Эта книга имела большое
значение для католической историографии, поскольку предложила цельную концепцию,
также – как и «Центурии» - созданную на базе источников. Баронио работал очень долго:
считается, что он начал работу ещѐ до выхода в свет первого тома «Центурий», и только
до выхода в свет первого тома он работал почти 30 лет. Историк занимал высокий пост в
католической иерархии, имел в своѐм распоряжении нескольких помощников, однако ему
было крайне тяжело конкурировать в эффективности с магдебургским штабом и
многочисленным авторским коллективом. Получившееся в результате сочинение было
весьма профессиональным, однако гораздо менее новаторским; его эффективность
дополнительно снижалась избранной формой изложения. «Анналы» в конце XVI века
оказались гораздо менее эффективной формой даже по сравнению с крайне
фрагментарным
«локальным
методом»
центуриаторов.
Основной
проблемой
католической партии в противодействии «Центуриям» на долгие годы стала установка на
441
элитарность исторического знания. При том, что для широкой публики имелось много
разной книжной продукции, исторических сочинений среди них не было: католики в XVI
веке не стремились взаимодействовать с массовыми концепциями. Бароний, в целом
уступая центуриаторам по охвату материала (особенно в том, что касалось земель
Северной и Центральной Европы), ввѐл в диспут массу нового документального
материала. Он не только сумел привлечь себе на пользу богатейшие собрания
Ватиканской Библиотеки и архива, но и пытался использовать данные палеографии,
нумизматики и ряда других исторических дисциплин. Его труд поднял историческое
знание на новую высоту и заложил основу для дальнейшего прогресса. Он будет
достигнут после выпуска в свет в середине XVII века первых томов иезуитских «Житий
Святых», а затем – и трудами учѐных бенедиктинцев конца XVII века во главе с
Монфоконом и особенно Мабильоном.
После них эпоха безусловного методологического и теоретического лидерства
церковной историографии постепенно завершится – светская наука добъѐтся своих
значительных успехов, не в последнюю очередь благодаря новаторской проблематике и
эффективному паратексту. В этом она усвоит урок церковной историографии XVI века,
опытным путѐм определявшей дальнейшие пути развития науки.
Библия для авторов церковных историй второй половины XVI века была
полноценным историческим источником. Благодаря сложившейся системе представлений
о прошлом, чѐтче всего выкристаллизовавшейся в системе локусов, разработанной
Мельчором Кано, Библия как источник сведений о прошлом не отделяется от других
источников и не противопоставляется им, а составляет с ними единое поле, только
превосходя их по авторитетности. Центуриаторы, вполне разделяя иерархию локального
метода, ставят содержащуюся в Писании историческую информацию выше другой
доступной и не стремятся к поиску новой, если тот или иной вопрос получил в Библии
своѐ освещение. Это казалось им просто нерациональным расходованием сил и времени.
В самом деле, если они восстанавливают общий ход истины, а она бесспорно
представлена – увы, относительно лишь начального этапа истории – в источнике, который
невозможно подвергнуть сомнению и уверенность в котором оппоненты также полностью
разделяют, то искать подтверждение этой информации излишне, а опровержение –
неразумно. Из классического святоотеческого богословия, к примеру, Тертуллиана,
применительно к локальному методу можно было бы ожидать противопоставления
Писания другим источникам с целью определения истины, а также вычленения
закрепившихся в массовом сознании пластов ложной информации. Этого сделано не
было, поскольку Библия была практически единственным первоисточником, к которому
442
восходила огромная масса авторитетных текстов Отцов, Учителей и других церковных
авторов. Проблема ложной информации и еѐ поиска была предложена центуриаторами, но
они не противопоставляли Библию другим текстам, а дополнили еѐ другими источниками
по более поздним эпохам, проследив целый ряд параллельных во времени процессов
«изменений» или «искажения». Собственно Библия как источник имеет бесспорную
ценность как для центуриаторов, так и для их оппонентов. О Библии как «историческом»
источнике можно вести речь только применительно к тем учѐным, которые могли
сомневаться в сказанном в Писании, подвергать его информацию проверке с помощью
других источников, и тогда целый ряд изложенных в Новом Завете сведений просто
перейдут из одной категории в другую, для одних потребовав веры, а для других –
перевода Писания в другую категорию текстов, воспринимаемых как иносказание,
аллегория или мистика. Это произойдѐт существенно позже, в конце XVII и первой
половине XVIII века, когда, с одной стороны, появятся работы деистов, а с другой – труды
учѐных круга Х. Томазия. Итог будет подведѐн в практике Просвещения, когда
историческая мысль полностью освободится от необходимости предпочитать Писание
другим источникам или каким-либо иным образом выстраивать априорную иерархию
приоритетов различных источников.
Можно констатировать, что католическая сторона упустила тот момент, когда в
протестантском лагере стал
формироваться новый
взгляд
на историю. Этому
способствовали, во-первых, ориентация на «прямое воздействие» посредством решений
Тридентского Собора и других мероприятий (при общей недооценке профессионального
уровня потенциальных оппонентов, а следовательно, и роли книжной дискуссии в
идеологической борьбе), а во-вторых, представление о том, что история так или иначе
будет служить интересам Курии. Основным качеством церковной истории виделась
преемственность от Церкви Христовой к современной папской церкви; казалось, простое
более подробное раскрытие этой преемственности могло стать единственным, но
достаточным идеологическим оружием. Явные следы этой убеждѐнности видны в первых
сочинениях католической партии. С течением времени, однако, выяснилось, что старые
средства недостаточны, а разработанные противником методы годятся лишь для него и не
могут быть переняты в чистом виде. Конечно, представление о континуитете истории
римской церкви осталось краеугольным камнем католической концепции церковной
истории, но с течением времени были выработаны и недостающие элементы
методологического свойства, новые приѐмы исследования и прочие виды идеологического
оружия. Католическая партия начала противодействие «Центуриям» ещѐ в разгар их
публикации, однако первые ответные удары были слабыми и не достигали требуемого
443
эффекта.
Отметим
католического
лагеря
исключительную
–
крупные
интенсивность
произведения,
деятельности
историков
представляющие
всѐ
более
консолидированную глобальную концепцию, появляются одно за другим. Наконец, спустя
долгое время, потребовавшееся для такого масштабного проекта, появились «Церковные
анналы» Чезаре Баронио – вполне достойный, равновеликий ответ католиков на
«Магдебургские Центурии». Дискуссия окончательно покинула поле взаимных обвинений
и стремления уязвить или оскорбить оппонента; теперь на долгие десятилетия
межконфессиональной дискуссии в историографии единственным способом превзойти
оппонента стали профессиональные достоинства исторического исследования, лучшая
техника исследования, более широкая источниковая база, более строгая логика
изложения. Историография церкви сделала важный шаг на пути превращения в
рациональную научную дисциплину.
На всѐм протяжении нашей работы в той или иной форме встаѐт проблема
соотношения между церковной и всеобщей историей. В самых ранних работах различие
осознавалось нечѐтко, нередки были случаи объединения всего имеющегося у историка
материала в единый, лишѐнный внутренней классификации комплекс. В определѐнной
мере
нерешѐнность
профессионально
этой
проблемы
подготовленных
сохраняется
католиков,
до
вступления
отталкивавшихся
в
полемику
от
глубоких
теоретических размышлений – Петра Канизия и Франсиско Торреса. Важный шаг вперѐд
был сделан ранее, в «Центуриях». События «внешней» по отношению к церкви истории –
падение Рима, возникновение новых государств – по сути дела, лишь доказывали правоту
общей концепции, основанной на преходящем характере светской власти, политического
величия и вообще всего мирского. Для многих ранних работ по истории Церкви
характерно нечѐткое понимание отношений между Церковью (в одной или другой
интерпретации этого термина) и христианским Учением. Является ли Церковь
организмом, необходимым для существования учения, или же она представляет собой
более общее явление, а Учение – более частное внутри неѐ? Эта проблема также будет
решаться позднее, в межконфессиональных дебатах второй половины XVI века.
Определѐнную точку на долгие годы поставит лишь католический кардинал Чезаре
Баронио в «Церковных Анналах».
Важным элементом межконфессиональной полемики стал выход исторической
мысли за пределы «своей» части Европы и за пределы одной-единственной религии.
Например, мы привыкли рассматривать судьбы Западной римской империи (заложившей
основу
западноевропейской
цивилизации)
в
отрыве
от
Восточной
(Византии);
центуриаторы объединили их в один комплекс проблем – это было им необходимо, исходя
444
из логики «перехода империи». Таким образом, центуриаторы пошли намного дальше
всех своих предшественников в западной исторической мысли – они увидели единство
Западного и Восточного мира, и универсализирующая сущность христианской религии
облегчила им это понимание. В этой связи особый смысл приобретает борьба
центуриаторов против «Первенства Петра», бывшая в определѐнном смысле и протестом
против монополии Западной Европы на религиозное, политическое управление, а также
культурное лидерство. В XVII веке ситуация изменилась, и появились новые
политические
и
культурные
факторы,
вновь
усилившие
позиции
Европы
в
цивилизационном конфликте. Актуальность «Центурий» в этом отношении заметно
снизилась, и эта проблема станет обсуждаться вновь значительно позже, во время
«кризиса европейского сознания» конце XVII-начала XVIII веков.
Изучение западноевропейской историографии XVI века позволяет сделать
несколько неожиданный, быть может, вывод: в эту эпоху, как и в более раннюю, интерес к
дохристианской истории Европы значительно снижен. Греческие и римские классики
были в большом почѐте, однако ни дополнять их (вне превращавшихся постепенно в
благородное развлечение эрудитских занятий), ни конкурировать с ними историки не
стремились. Разумеется, эта закономерность распространяется и на религиозную
историографию. В исторической мысли XVI века постоянно присутствует представление
о том, что информации по дохристианской истории вполне достаточно – Ветхий завет
является лучшим из возможных источников, полностью устраняющим потребность в
других. Таким образом, поиск дополнительной информации выглядел излишним.
Презентативная часть работы историка – написание труда, придание ему художественной
формы и т. п. также теряла смысл. В описании дохристианской эры не было нужды – всѐ,
что о ней следовало знать христианину, содержалось в Священном Писании. Конечно,
были весьма распространены хронографии и прочие сочинения, задачей которых было
вычисление лет, сроков правления, длительности эпох и так далее, однако эти
хронографии были лишены концепций и ограничивались поиском наиболее точной
интерпретации сокрытых в Ветхом Завете истин. После того, как в западноевропейских
университетах наладилось изучение еврейских древностей, сложился даже обмен
сведениями
(в
основном
точного
и
даже
«междисциплинарного»
характера,
перекликавшихся, в частности, с астрологией) между иудейскими и христианскими
традициями изучения Писания. Эти соображения помогают нам сделать важный вывод:
для центуриаторов и вообще для церковных историков XVI века евангельская эпоха – это
не только отправная точка последующей истории, но и финальный этап, результат
445
предшествующей; тщательное описание еѐ рассматривалось в качестве итога долгого
пути, насчитывавшего тысячи лет. Узловое концептуальное значение этой эпохи
объясняло тот факт, что первому веку нашей эры отводилось два первых тома, масса
времени и трудов авторского коллектива.
Была ли западноевропейская церковная историография прогрессивным явлением?
Безусловно, причѐм с любой точки зрения. Прежде всего, «сужение» исследовательского
поля относительно историографии Ренессанса было лишь кажущимся. В крупнейших
произведениях церковной историографии история стран, народов, целых континентов
включались в глобальную историческую реконструкцию, в которой церковь выступала не
только как религиозная данность, как сообщество верующих или как организация, но и
как
наднациональное
глобализирующее
начало.
Историки
церкви
наполнили
исторический процесс содержанием, которое до них оставалось за бортом исторических
сочинений: христианское учение в его диахроническом развитии, изменения «длительной
протяжѐнности» в тематике богословской литературы, систематическое описание
географических пределов христианского мира и многое другое впервые попало на
страницы книг. Историки Возрождения уделяли особое внимание литературным
достоинствам своих произведений, технике изложения, композиции, а материал
сочинений считали средством воспитания, имеющим практическую полезность для
будущего; авторы церковных историй XVI века придерживались совсем других взглядов.
Как мы видели, литературные изыски ушли в прошлое – их сменила новая техника
организации гуманитарной информации (в «Центуриях»), простой, безыскусный рассказ с
пересказом источников, в котором главным достоинством была буквальная точность,
скрупулѐзность толкований философских и богословских понятий, исторических реалий.
Композиция новых сочинений определялась временем – текст делился на части по векам
или годам, а к концу исследуемого периода отслеживание эпох по именам правивших
императоров стало данью традиции, формальностью. Череда пап, бывшая главным
стержнем ренессансных церковных историй (фон Гуттен, Платина), теперь утратила
самодостаточность и превратилась в один из вспомогательных способов организации
исторического времени. «Церковь» в историографии XVI века стала более широким
понятием, чем «папство», и теперь включала в себя и различные христианские конфессии,
и учение, и даже арену борьбы Добра со Злом в различных интерпретациях (ереси, Восток
и Запад, мусульманство, идеологические противники). Церковная история не должна была
воспитывать людей – только показывать им, куда уже пришѐл мир и куда он может пойти
далее; церковно-историческая литература во второй половине XVI века приглашала
читателя сделать выбор в пользу своей религиозной идеологии благодаря строгой логике
446
концепции, исчерпывающей и всеохватной аргументации, благодаря превосходству над
противником в умении собирать источники, работать с ними… «Магдебургские
центурии» и «Церковные анналы» не воспитывали и тем более не развлекали читателя, а
звали за собой, служили консолидации рядов своих сторонников. В конечном счѐте
церковные историки XVI века, как и их коллеги-гуманисты, боролись за торжество
Истины, но теперь эта Истина стала целостной и единой для всех исторических сюжетов,
а аргументация в еѐ пользу охватывала всѐ христианское прошлое. Тот факт, что эта
Истина была религиозной, не должен вводить нас в искушение считать произошедший
после
выхода
«Центурий»
поворот
возвратом
к
средневековым
концепциям,
подтверждѐнным новой, гуманистической техникой исторической критики. Поле истории
не стало более узким: напротив, история церкви превратилась в отдельную дисциплину,
относящиеся к ней события и явления были очерчены, причѐм составили сюжет для очень
масштабных произведений: ренессансная историография не знала таких крупных форм,
как
«Магдебургские
центурии»
или
«Анналы».
Тематика
истории,
напротив,
расширилась: в неѐ теперь стали входить история христианского учения, церемониала,
ход борьбы папства за главенство в христианском мире, борьба духовной власти против
светской, история формирования церковной иерархии и прочее.
Важнейшим
элементом
новаторства
стал
разработанный
в
ходе
межконфессиональной дискуссии новый метод систематизации и изложения материала.
Оттолкнувшись от наработок учѐных Второй схоластики, центуриаторы глубоко
переосмыслили «локальный метод», разработав принципиально новую схему. В этой
схеме нашлось место для любого события истории христианского мира, для любой
системы взглядов, для столкновения учений и споров, для различных факторов
длительной протяжѐнности от трансформации учения до изменения внешней стороны
культа. Метод «Церковных анналов» также отличался оригинальностью, несмотря на то,
что анналистская форма изложения материала уже имела многовековую традицию:
Баронио сумел минимизировать основные недостатки этой формы и в то же время удачно
подчеркнуть еѐ достоинства. В частности, его метод позволил точнее описать
многовековую трансформацию церкви как института, еѐ изменение под влиянием
требований времени. Благодаря достижениям гуманистической историографии и
дальнейшему развитию их в церковно-исторических произведениях XVI века не нашлось
места для модернизации истории. Наоборот, они показали сложный, драматический
процесс глубоких перемен в обществе, сопровождаемый переменами в религиозных,
политических, общественных институтах этого общества. Многовековая история
христианского мира наполнилась драматизмом, напряжѐнностью, она балансировала
447
между Гибелью и Спасением, между мощным натиском Зла и верой в будущую победу
Добра.
Отказ
центуриаторов
и
большинства
последующих
участников
межконфессиональной полемики от гуманистической риторики в изложении материала
стал своего рода «отрицанием отрицания», означавшим не возврат назад в средневековье,
а выход на новый качественный уровень. Да, как и в далѐком прошлом, изображаемая
историками картина описывала Промысл Божий и была пропитана религиозным
мировосприятием; последующая историография пошла по пути рационализации, и
благодаря этому история заняла своѐ место в системе наук Нового времени. Однако
религиозное мировосприятие церковных историков XVI века не помешало им исследовать
систематические проявления негативных тенденций в церковной истории, а главное – не
стала препятствием на пути рационализации истории. В XVII столетии этот процесс будет
только набирать ход, и новые шедевры западноевропейской церковной историографии
будут представлять собой предельно рациональные построения, основанные на
доведѐнной до совершенства критике источников, на новых методах, в том числе –
создании целых новых научных дисциплин. Этот прогресс будет иметь колоссальное
значение для всей последующей эволюции историописания – светская эрудитская
историография
освоит
все
достижения
церковной.
К
сожалению,
эрудитская
историография XVII-XVIII веков недостаточно оценена и в российской историографии, и
за рубежом – еѐ от исследователей «заслоняют» достижения исторической мысли
Просвещения. Эта мысль утвердилась на принципах, противоположных принципам
эрудитской историографии, однако это не означает, что последняя была тупиковой ветвью
и без последствий ушла в прошлое. Достижения эрудитской исторической мысли будут
очень востребованы в XIX веке, когда изложенный в них материал станет средством для
строительства новых научных концепций. Наконец, церковная историография XVI века
стала первым в истории примером ведения глобальной научной полемики, в которой
стороны от инвектив и оскорблений постепенно перешли к умению выслушивать
оппонента и при помощи рациональных методов (а не религиозной аргументации)
противопоставлять
его аргументам
свои.
Навык
диалога
между идеологически
непримиримыми сторонами стал важнейшим шагом вперѐд в развитии знаний вообще и
науки в частности. Значение межконфессиональной полемики XVI века значительно шире
области собственно церковной истории; еѐ вклад в эволюцию человеческого мышления и
знания в целом является, на наш взгляд, достаточным поводом для изучения еѐ
современными средствами светской исторической науки.
448
Список использованных источников и литературы
Список неопубликованных источников
Библиотека герцога Августа, Вольфенбюттель (ФРГ):
HAB 6.5 Aug. fol.
HAB 11. 11. Aug. fol.
HAB 11.6 Aug fol.
HAB 12.10 Aug fol.
HAB 18.3 Aug. fol.
Список опубликованных источников
Бароний Ц. Деяния церковные и гражданские от Р. Х. до XIII столетия. М., Тип. П.
П. Рябушинского. 1913-15, 3 т.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Российское
Библейское общество. Москва, 2008. 1337 с.
Григорий Турский. История франков. Москва, «Наука», 1987. 461 c.
Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть I. Киев-Москва, 2002. 559 с.
Alberici R. Venerabilis Caesaris Baronii S. R. E. Cardinalis Bibliothecarii Epistolae et
Opuscula. 3 vv. Romae, 1759-1770.
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebi Pamphili Caesariensis Libri IX. Ruffino
Interprete. Ruffini Presbyteri Aquileiensis, Libri duo. Recognti ad antiqua exemplaria Latina per
Beat. Rhenanum. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, Sozomeno, et Socrate
Constantinopolitano Libri XII. verso ab Epiphanio Scholastico, adbreviati per Cassiodorum
Senatorem. unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Emendati et hij multis locis. Additis
passim Graecis epistolis plerisque Synodorum ac Impp. e Tomis Theodoriti, cum ut Latinae
versioni ex hijs succurratur, tum ut velut monimenta quaedam Christianae antiquitatis
conserventur, et habeat lector θηιέιιελ quod non sine fructu conferat. Froben, Basileae, 1523.
636 c.
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri novem, Ruffino
interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis, libri duo. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi,
Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri duodecim, versi ab Epiphanio Scholastico,
adbreviati per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Omnia
recognita ad antiqua exemplaria Latina, per Beatum Rhenanum. Praeterea non ante excusa
Nicephori ecclesiastica historia, incerto interprete, Victoris episcopi libri III De persecutione
Vandalica. Theodoriti Libri V graece, un sunt ab autore conscripti. Basileae, Froben, 1535.
667+176 с.
449
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri IX. Ruffino
interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis, libri II. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi,
Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri XII, versi ab Epiphanio Scholastico, adbreviati
per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Omnia recognita ad
antiqua exemplaria Latina, per Beatum Rhenanum. His accesserunt Nicephori ecclesiastica
historia, incerto interprete. Victoris episcopi libri III De persecutione Vvandalica. Theodoriti
libri V. nuper ab Ioachimo Camerario latinitate donati. Basileae, Froben et Episcopius, 1544.
851+36 с.
[Baronius C.] Annales Ecclesiastici. 12 vv., Romae, 1588-1607.
[Baronius C.] Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio sorano ex Congregatione
Oratorii S. R. E. Presbytero... 12 vv., Moguntiae, 1601-1608.
[Baronius C.] Caesaris S. R. E. Card. Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii
Congregationis Oratorii Presbyterorum Annales ecclesiastici deuo excusi et ad nostra usque
tempora perducti ab Augustino Theiner. 37 vv., Parisiis-Bruxellis, 1864-1883.
[Baronius C.] Historica relatio de Ruthenorum origine eorumque miraculosa
conversione, et quibusdam alijs ipsorum Regum Rebus gestis. Coloniae, Stein, 1598. 39 л.
[Baronius C.] Martyrologium Romanum ad novam kalendarii rationem et ecclesiasticae
historiae veritatem restitutum. Romae, 1586. 816 с.
[Baronius C.] Legationes Alexandrina et Ruthenica ad Clementem VIII. Pont. Max. pro
unione et communione cum sede apoctolica. Ingolstadii, 1598. 8 л.
[Beni P.] Pauli Benii Eugubini Sacrae Theologiae Doctoris De ecclesiasticis Baronii
Cardinalis Annalibus disputatio. Romae, 1596. 46 с.
[Bertrandus P.] Libellus adversus Petrum de Cugneriis, Parisiis, 1495. 24 c.
[Braun K.] Adversus novam historiam ecclesiasticam, quam Mathias Illyricus et eius
collegae Magdeburgici per centurias nuper ediderunt ne quisque illis malae fidei historicis novis
fidat, admonitio Catholica. Authori Conrado Bruno celeberrimo Iurisperito et Canonico
Augustano, de cuius vita et scriptis libris quaedam initio adiiciuntur. Dilingae, 1565. 167 л.
[Braun K.] Annotata de personis Iudicij Camerae Imperialis, a primo illius exordio,
usque ad annum Domini MDLVI. Ingolstadt, Weißenhorn, 1557. 32 с.
Bibl V. Der Briefwechsel zwischen Flacius und Nidbruck. In: Jahrbuch der Gesellschaft
für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Wien. XVII. Jahrgang (1896), S. 1-24,
XVIII. Jahrgang (1897), S. 201-238; XIX. Jahrgang (1898), S. 96-110; XX. Jahrgang (1899), S.
83-116
Bibl V. Nidbruck und Tanner. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Magdeburger
Centurien und zur Charakteristik König Maximilians II. Wien, 1898. 52 с.
Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2007.
1980 c.
[Buchinger M.] Historia ecclesiastica nova. Qua brevi compendio, res in Ecclesia gestae,
romanorumque Pontificum a B. Petro ad Paulum IIII. describuntur. Authore Michaele
Bucchingero Colmariense. Moguntiae, Behem 1560. 400 c.
Campegius Th. De auctoritate sacrorum Conciliorum. Venetiae, 1561. 158 л.
450
Campegius Th. De Auctoritate, et Potestate Romani Pontificis, et alia opuscula. Venetiis,
1555. 223 л.
[Campegius Th.] De coelibatu sacerdotum non abrogando. Venetiae, 1554. 102 с.
[Canisius P.] Commentariorum de verbi Dei corruptelis liber primus, in quo de
sanctissimi praecursoris domini Johannis Baptistae historia evangelica, cum adversus alios huius
temporis sectarios, tum contra novos ecclesiasticae Historiae consarcinatores sive Centuriatores
pertractatur. Dilingae, 1571. 400 л.
[Canisius P.] De Maria Virgine incomparabili, et Dei Genitrice Sacrosancta libri quinque:
Atque his secundus liber est commentarium de Verbi Dei corruptelis adversus novos et veteres
sectariorum errores nunc primus editus. Ingolstadii, 1577. 364 с.
[Canisius P.] De vita et scriptis clarissimi viri D. Conradi Bruni iurisconsulti. In: [Braun
K.] Adversus novam… admonitio catholica. Dilingae, 1565. 15 л.
Cano M. De locis theologicis (ed. Belda Plans J.). Madrid, 2006. 544 c.
[Chaves Th.] Summa sacramentorum ecclesiae ex doctrina fratris Francisci a Victoria,
Ordinis Praedicatorum apud Salmanticam olim primarii Cathedratici, per reverendum patrem
Praesentatum Fratrem Thomam à Chaves illius discipulum. S. l., 1589. 386 с.
Chronica durch Magistrum Johan Carion vleissig zusamen gezogen meniglich nützlich zu
lesen. Wittenberg, 1532. 129 л.
Chronica Ioannis Carionis. Halae, Suevorum, 1537. 295 л.
Commentaria Nicolai Gorrani in quatuor evangelia: omnibus qui a ministerijs sunt verbi
dei, non minus utilia quem necessaria… ac nunc primum typis excusa. Coloniae, Petrus Quentel,
1537. 586 л.
De ecclesiastica historia: quae Magdeburgi contexitur, narratio, contra Menium et
Scholasticorum Wittebergensium epistolas a gubernatoribus et operariis ejus historiae edita
Magdeburgi. Cum responsione Scholasticorum Witebergensium ad eandem. Witebergae, Rhaum
1558. 26 л.
Duch A. Eine verlorene Handschrift der Schriften Bernos von Reichenau in den
Magdeburger Centurien. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, LIII. Band (1934). S. 417-435
Durandus G. Tractatus de modo generalis concilii celebrandi. Parisiis, 1545. 562 с.
Ecclesiastica Historia, integram ecclesiae Christi ideam quantum ad locum,
propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem,
schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones extra ecclesiam et statum Imperii
politicum attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singulari
diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus et aliis scriptoribus congesta per
aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. In 13 vv. Basileae, Oporinus, 1559-1574.
Ecclesiastica Historia divi Eusebii: et Ecclesiastica historia gentis anglorum venerabilis
Bede: cum utrarumque historiarum per singulos libros recollecta capitulorum annotatione.
Argentinae, 14.03.1500. 160 л.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi
historiae Ecclesiasticae lib. X. Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis
historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De vita Constantini, Musculo interprete. lib. V.
451
Socratis Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete lib. VII. Theodoriti episcopi Cyri,
Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib. IX.
Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, eodem interprete lib. II. Evagrii
Scholastici, eodem interprete lib. VI. Basileae, Hier. Frobenius et Nic. Episcopius, 1549. 890 с.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi
historiae Ecclesiasticae lib. X. Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis
historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De vita Constantini, Musculo interprete. lib. V.
Socratis Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete lib. VII. Theodoriti episcopi Cyri,
Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib. IX.
Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, eodem interprete lib. II. Evagrii
Scholastici, eodem interprete lib. VI. Dorothei, episcopi Tyri Synopsis, Apostolorum ac
Prophetarum vitas complectens, eodem interprete, nunc primum in lucem aedita. Basileae 1557.
819 c.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebii Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi
historiae Ecclesiasticae lib. X. Wolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis
historiae Ecclesiasticae lib. II Eusebii Pamphili De vita Constantini, Musculo interprete. lib. V.
Socratis Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete lib. VII. Theodoriti episcopi Cyri,
Ioachimo Camerario interprete lib. V. Hermii Sozomeni Salaminii, Musculo interprete lib. IX.
Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, eodem interprete lib. II. Evagrii
Scholastici, eodem interprete lib. VI. Dorothei, episcopi Tyri Synopsis, Apostolorum ac
Prophetarum vitas complectens, eodem interprete. Basileae 1562. 818 c.
Ecclesiasticae Historiae autores. Eusebij Pamphili Caesariae Palaestinae episcopi
historiae Ecclesiasticae. lib. X. Vuolfgango Musculo interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis
historiae Ecclesiasticae. lib. II. Eusebij Pamphili De vita Constantini, Musculo interprete. lib. V.
Socratis Scholastici Constantinopolitani, eodem interprete lib. VII. Theodoriti episcopi Cyri,
Ioachimo Camerario interprete. lib. V. Hermij Sozomeni Salaminij, Musculo interprete. lib. IX.
Theodori Lectoris collectaneorum ex historia Ecclesiastica, lib. II eodem interprete. Evagrij
Scholastici, eodem interprete. lib. VI. Index memorabilium rerum sub finem additus est
copiosissimus. Basilii Magni epistola ad Gregorium fratrem suum De discrimine inter Essentiam
et Substantiam. Basel, Hier. Froben et Nic. Episcopius, 1554. 506 л.
Ecclesiastice et Tripartite hystorie: insignia primitive ecclesie virorum gesta feliciter
complectentis: libri duodecim. Auctoribus grecis: Theoderico. Sozomeno. Socrate. Traductore.
Latino Epiphanio. Auspicante. Cassiodoro Senatore. [Strassburg: Joh. Prüss ок. 1500]. 96 л.
[Eggestein H. ред.] Prologus, Beati Jheronimi presbiteri in historias. Ecclesiasticas. Divi.
Eusebii. Caesariensis. Episcopi. [Strassburg: Heinrich Eggestein, до 1475]. 129 л.
[Egenolf Ch.] Beschreibunge einer Chronic, Von anfang der Welt Biß auff Keyser
Friderich den Dritten kurtz Sumirt vor Jarn durch den Hochgelerten Hern Heinricen Steinhowel
Doctorn Stattartzt zu Ulm Aussgezogen vnnd gemacht. Vnnd ietzo durch Erfarnen H. Jacob
Köbeln Stattschreiber zu Oppenheym an etlichen Ortenn gemeret vnd auff Keyser Carlen den V.
erstreckt. Mit anhang beschreibung der zeit Isidori. Franckfurt am Meyn, bei Christian Egenolph,
1531. 53 л.
[Egenolf Ch.] Chronica Beschreibung und gemeyne anzeyge Vonn aller Wellt
herkommen Fürnamen Lannden Stande Eygenschafften Historien wesen manier sitten an und
abgang. Auss den glaubwirdigsten Historie On all Glose und Zusatz Nach Historischer Warheit
beschriben. Franckenfort am Meyn, Egenolff, 1535. 137 л.
452
[Egnatius I. B. et al.] Bellum Christianorum Principum, praecipue Gallorum, contra
Saracenos, anno salutis MLXXXVIII pre terra sancta gestum. autore Roberto Monacho. Carolus
Verardus de expugnatione regni Granatae: quae contigit ab hinc quadragesimo secundo anno, per
Catholicum regem Ferdinandum Hispaniarum. Cristoforus Colom de prima insularum, in mari
Indico sitatum, lustratione, quae sub rege Ferdinando Hispaniarum facta est. De legatione regis
Aethiopiae ad Clementem pontificem VII. ac Regem Portugalliae: item de regno, hominibus,
atque moribus eiusdem populi, qui Trogloditae hodie esse putantur. Ioan. Baptista Egnatius de
origine Turcarum. Pomponius Laetus de exortu Maomethis. Basileae, Petri, 1533. 150 c.
[Egnatius I. B. et al.] Marci Antonii Sabellici Annotationes Veteres et Recentes: Ex
Plinio, Livio et pluribus authoribus. Philippi Beroaldi Annotationes Centum. Eiusdem Contra
Servium grammaticum Libellus. Eiusdem Castigationes in Plinium. Eiusdem etiam Appendix
Annotamentorum. Iohannis Baptistae Pii Bononiensis Annotationes. Angeli Politiani
Miscellaneorum Centuria una. Domitii Calderini Observationes quedam. Eiusdem Politiani
Panepistemon. Eiusdem prelectio in Aristotelem: cui titulus est Laamia. Baptiste Egnatii Veneti
Racemationes. Venetiae, 1502. 85 л.
[Egnatius I. B. et al.] Nervae et Traiani, atque Adriani Caesarum vitae ex Dione, Georgio
Merula interprete. Aelius Spartianus. Iulius Capitolinus. Lampridius. Flavius Vopiscus.
Trebellius Pollio. Vulcatius Gallicanus. Ab Ioanne Baptista Egnatio Veneto diligentissime
castigati. Heliogabali principis ad meretrices elegantissima oratio. Eiusdem Io. Baptistae Egnatii
de Caesaribus libri tres a Dictatore Caesare ad Constantinum Palaeologum, hinc a Carolo Magno
ad Maximilianum Caesarem. Eiusdem in Spartiani, Lampridiique vitas, et reliquorum
annotationes. Aristidis Smyrnaei oratio de laudibus urbis Romae a Scipione Carteromacho in
latinum versa. In extrema operis parte addita Conflagratio Vesevimontis ex Dione, Georgio
Merula interprete. (Venetiae), Aldus Manutius, 1519. 424 л.
[Eysengrein W.] Catalogus testium veritatis locupletissimus, omnium orthodoxae Matris
Ecclesiae doctorum, extantium et non extantium,publicatorum et Bibliothecis latentium, qui
adulterina Ecclesiae domata, impuram, imprudentem, et impiam haeresum vaniloquentiam, in
hunc usque diem firmissimis demonstrationum rationibus impignarunt, variaque scriptorum
monumenta reliquerunt, seriem complectens. Gulielmo Eysengrein de Nemeto Spirensi authore.
Dillingae, Seb. Mayer, 1565. 211 c.
[Eysengrein G.] Centenarii XVI. Continentes Descriptionem Rerum memorabilium, in
Orthodoxa et Apostolica CHRISTI Ecclesia gestarum, Pontifices Romanos, Concilia,
Conuersiones Regionum, Religiones, Vitas Sanctorum, Miracula, Martyria, Scriptores,
Tribulationes et Exaltationes Ecclesiarum, Haereses atque Schismata: cum diligenti annotatione
eorum, quae contra veram, Catholicam, Christianam et antiquiorem, con maxima laude traditam
receptamque religionis assertionem, infideliter plane conscribi depraehenduntur, ut Veritatis
obiecto Clypeo, falsitas scripto notetur. Adversus novam Historiam Ecclesiasticam, quam
Matthias Flacius Illyricus, et eius Collegae Magdenburgici, contra Verum DEI cultum, uerasque
Ecclesiae Catholicae Caeremonias, scriptis Vetustissimorum Historicorum deprauatis et
corruptis, nuper aediderunt. Centenarius I. Ingolstadii 1566. Centenarius II. Monachii, 1568.
[Eysengrein G.] Chronologicarum rerum amplissimae clarissimaeque Urbis Spirae ab a.
Christi primo ad a. 1563 libri XVI. Dilingae, 1564. 298 л.
Ex recognitione Des. Erasmi Roterodami, C. Suetonius Tranquillus, Dion Cassius
Nicaeus, Aelius Spartianus, Iulius Capitolinus, Aelius Lampridius, Vulcatius Gallicanus V. C.
Trebellius Pollio, Flavius Vopiscus Syracusius: Quibus adiuncti sunt Sex. Aurelius Victor,
Eutropius, Paulus Diaconus, Ammianus Marcellinus, Pomponius Laetus Ro. Io. Bap. Egnatius
Venetus. Coloniae, 1527. 695 с.
453
Fantuzzi G. Notizie degli scrittori Bolognesi. 3 vv., Bologna, 1783.
[Flacius M.] Amica humilis et devota admonitio M. Fl. Ill. ad gentem sanctam, regaleque
Antichristi sacerdotium de corrigendo sacrosancto canone Missae. Magdeburgae, Mich. Lotther.
1550. 8 л.
[Flacius M.] Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae,
opus varia rerum, hoc praesertim tempore scitu dignissimarum, cognitione refertum..., cum
Praefatione Matth. Flacii Illyrici. Basileae, Oporinus, 1556. 1112 с.
[Flacius M.] De sectis, dissensionibus, contradictionibus et confusionibus doctrinae,
religionis, scriptorum et doctorum pontificorum liber. Basel, Queck, 1565. 344 с.
[Flacius M.] De voce et re fidei, quod que sola fide iustificemur, contra pharisaicum
hypocritarum fermentum, liber. Basel, Oporinus, 1555. 16+161 л.
[Flacius M.] Demonstrationes evidentissimae doctrinae de essentia imaginis Dei et
Diaboli, iustitiaeque ac iniustitiae originalis una cum testimoniis veterum ac recentium
theologorum... Basel, 1570. 36 с.
[Flacius M.] Eine freundliche, demütige und andechtige Erinnerung an das hl. Volk und
künigliche priesterthumb des Antichrists, von der Besserung des heiligen Canons oder
Stilmessen, Magdeburg, Matth. Lotther. 1550. 8 л.
[Flacius M.] Entschuldigung, geschrieben an die Universitet zu Wittenberg, der
Mittelding halben. Magdeburg, 1549. 40 л.
[Flacius M.] Gründliche Verlegung aller schedlichen Schwermereyen des Stenckfelds zur
Unterricht und Warnung des einfeltiger Christen. Nürnberg, 1557. 55 л.
[Flacius M.] Refutatio invectivae Bruni contra Centurias Historiae Ecclesiasticae: in qua
simul recitantur amplius 100 Historica, maximique momenti Papistarum mendacia: Authore
Matthia Flacio Illyrico. Accesserunt et alii Libelli diversorum Scriptorum, tum ed
confirmationem illarum narrationum, tum alioqui ad praesens institutum cumprimis facientes.
Basileae, Oporinus, 1566. 280 с.
[Franck S.] Chronica, Zeytbuch und geschycht bibel von anbegyn biß inn diß
gegenwertig M.D.xxxj. jar: Darinn beide Gottes vnd der welt lauff, hendel, art, wort, werck,
thun, lassen, kriegen, wesen, und leben ersehen und begriffen wirt. Mit vil wunderbarlichen
gedechtniß würdigen worten und thatten. […] Straßburg, 1531. 66 л.
[Genebrardus G.] Chronographia in duos libros distincta. Prior de rebus veteri populi
auctore G. G. … posterior recentes historias praesertim que ecclesiasticas conplectitur, authore
Ar. Pontaco … nunc quidem primum… in minorem formam redacta. Lovanii, apud J. Foulerum,
1570. 393 с.
[Genebrardus G.] Chronographia in duos libros distincta. Prior est de rebus veteris populi
Gilberto Genebrardo auctore; posterior recentes historias conplectitur A. Pontaco […] auctore.
Parisiis, 1567. 293 с.
[Genebrardus G.] Chronologiae sacrae liber. Lovanii, 1570. 447 с.
[Genebrardus G.] Gilb.(erti) Genebrardi theologi parisiensis divinarum hebraicarumque
literarum professoris regii chronographiae libri quatuor, priores duo sunt de rebus veteris populi,
et praecipius quatuor millium annorum gestis. Posteriores, è D. Arnaldi Pontaci Vasatensis
Episcopi Chronographia aucti, recentes historias reliquorum annorum complectuntur. Universae
454
historiae speculum, in Ecclesiae praesertim saeculo, à mendaciis, maculis, imposturis
Centuriatorum, aliorumque haereticorum detersum; in reliquis contra judaeos, paganos,
saracenos christianae religionis antiquam veritatem perennitatemque representans. Parisiis, 1580.
620 с.
[Genebrardus G.] Gilberti Genebrardi theologi parisiensis, divinarumhebraicarumque
literarum professoris regii chronographiae pars altera, de rebus a Christo nato ad nostra usque
tempora, id est, an. 1599 in duos libros distincta et è Arnaldi Pontaci Vasatensis Episcopi
Chronologico opere locupletata. Prior de rebus ostingentorum annorum usque ad novum Caroli
Magni Imperium, et Leonem III. Pontific. Posterior de aliis octingentis annis ad usque
Clementem VIII. His Centuriatorum impietas, mendacia, imposture coarguuntur, et doctrinae
Catholicae continuation ad singulorum saeculorum coronidem astenditur. Lugduni, 1608.
955+139 с.
[Hedio C., ред.] Chronicum Abbatis Urspergensis, a Nino Rege Assyriorum Magno,
usque ad Fridericum II. Romanorum Imperatorem, ex optimis autoribus per studiosum
historiarum recognitum, et innumeris mendis repurgatum. Argentorati, Mylius, 1537. 506 с.
[Hedio C., перев.] Augustini des Heyligen Bischofs IIII Bücher von Christlicher leer…
Durch Doctor Caspar Hedion vertolmetscht. Straßburg, Beck, 1532. 92 л.
(Hedio C.) Chronica, das ist Warhafftige Beschreibünge Aller alten Christlichen Kirchen.
Historia Ecclesiastica Eusebii Pamphili Caesariensis xj. Bücher. Historia Ecclesiastica Tripartita
Sozomeni Socratis und Theodoreti xij. Bücher. Historia Ecclesiastica sampt andern treffenlichen
Geschiechten die zuvor in Teütscher sprach wenig gelesen sind auch vij. Bücher. Von des zeit an
da die History Ecclesiastica Tripartita auffhöret das ist von der Jarzal an CCCC. nach Christi
geburt biß auff das jar M.D.xlv. Basileae, 1545. 282 л.
Historia certaminum inter Romanos Episcopos et sextam Carthaginensem Synodum,
Africanasque Ecclesias, de primatu seu potestate Papae, bona fide ex authenticis monumentis
collecta. Quaedam vetusta monumenta, unde potissimum praedicta Historia desumpta est. Item
Contra primatum Seu tyrannidem Papae. Basileae, 1554, s. t. 214 с.
Historische Methode und Arbeitstechnik der Magdeburger Zenturien. Edition
ausgewählter Dokumente. Hrsg. von Harald Bollbuck, unter Mitarbeit von Carsten Nahrendorf
und
Inga
Hanna
Ralle.
Wolfenbüttel:
Herzog
August
Bibliothek,
2012.http://diglib.hab.de/wdb.php?dir=edoc/ed000086
Kirchen Historia. Die anndere hundert Jar oder Centurien, Darinnen ordentlich, und mit
hohem vleis beschrieben wird der gantze stand und das wesen der Kirchen Christi, nach dem die
Apostel nun sind hinweg gewesen, zu den zeiten, da Keiser Traianus, Antoninus Pius, Antoninus
Verus, Commodus, und zum teil auch Severus regieret haben, und etliche fürtreffliche Lerer in
der Kirchen, aus Gottes gnaden und segen gewesen sind, als Ignatius, Polycarpus, Papias,
Apollinarius, Melito, Theophilus, Polycrates, Egesippus, Pantenus, Clemens, Justinus, Ireneus,
und dergleichen mehr, welche der lieben Apostel fustapffen nachgefolget, aus den fürnemesten
geschichtbüchern, auch der Vetern und anderer schriften. Aus dem Lateinischen Exemplar durch
die Authores vleissig verdeudscht und trewlich ubersehen. Jhena, durch Thomam Rebart. 1560.
416 c.
L'autorità della Storia profana (De humanae historiae auctoritate) di Melchor Cano (ed.
A. Biondi). Torino, 1973. 257 c.
Locorum theologicorum libri duodecim. In quibus non modo vera refellendi universos
Christianae Religionis hostes, confirmandique sacra dogmata ratio, ac usus exacte ostenditur,
455
verum etiam omnia fere quae hodie in controversiam habentur, luculentissime examinantur.
Auctore Reverendiss. D. D. Melchiore Cano, Episcopo Canarensi, ordinis Praedicatorum,
Primariae Cathedrae in Academia Salmanticensi olim Praefecto. Venetiis, 1567. 480 с.
[Luther M.] D. Martin Luthers Werke : kritische Gesamtausgabe. 73 vv. Weimar:
Böhlau, 1883-2009.
Magdeburger Centurien. http://www.mgh-bibliothek.de/digilib/centuriarum_loci.htm
Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus,
http://www.mrfh.de
[Melanchton Ph.] Chronica Carionis. Wittenbergae, Rhau, 1558. 266 л.
[Muzio G.] Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano Libro Primo. Nel quale si
contengono le operationi, et i martirij de’ beati Apostoli, et di altri Santi, e Sante di Dio: insieme
con un Summario della dottrina evangelica, di dottori antichi, et di Romani Pontefici
dell’ascension del Signor in Cielo infino alla morte del sesto successor di S. Pietro. Venetia, Gio.
Andrea Valvassori detto Guadagnino,1570. 361 с.
[Muzio G.] Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano Libro secundo. Nel quale dalla
creatione di Sixto primo infino alla morte del primo Urbano, che dopo S. Pietro fu il papa
decimo settimo, si recitano diversi martirij di Santi et di Sante di Dio; dottrine di Scrittori, che
furono in quella età; et decreti di dieci Santi Pontefici. Venetia, Gio. Andrea Valvassori detto
Guadagnino,1570. 213 с.
Novum Testamentum Graece et Latine. Stuttgart, Deutsche Bibelgesellschaft, 2008. 812
c.
[Panvinius O.] De primatu Petri et Apostolicae Sedis potestate libri tres contra
Centuriarum auctores, Veronae, 1588. 330+32+14 с.
[Panvinius O.] De varia Romani Pontificis creatione libri X. Romae, 1567. 331 с.
[Sabellicus M.] Marci Antonii Cocci Sabellici Exemplorum Libri decem ordine elegantia
et utilitate prestantissimi. Argentorati, Schürer, 1511. 99 л.
Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino. Torino, Einaudi, 1974. 608 с.
Schaumkell E. Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Magdeburger Centurien.
Ludwigslust, 1898. 58 с.
[Schlusselburguis C.] Oratio funebris de vita et obitu reverendissimi viri, pietate,
doctrina, humanitate et constantia praestantis D. Ioannis Wigandi, Episcopi Pomezaniensis, in
Borussia, dignissimi, de Esslesia Iesu Christi, praeclare meriti, implicata controversiarum
Ecclesiae et memorabilium temporis illius, Theologorumque praecipuorum mentione, cum
expositionis serie cohaerentium, conscripta et habita in Schola Wismariensi. Francoforti ad
Moenum, 1591. 108 с.
Schulte J. W. Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Magdeburger Centurien. In:
Bericht der Philomathie in Neisse, Bd. 19, 1874-1877, S.50-154
[Sleidanus J.] De quatuor summis imperiis libri tres. Argentorati, Rihelios, 1556. 182 л.
Steinmann M. Aus dem Briefwechsel des Basler Buchdruckers Johannes Oporinus. In:
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 69 (1969), S. 103-203
456
[Steinhöwel H.] Tütsche Cronica von anfang der welt vncz vff keiser fridrich. Ulm,
1473. 36 л.
Strecker K. Quellen des Flacius Illyricus. In: Zeitschrift für deutsches Altertum und
Deutsche Literatur. 66. Band, 1. H. (1929), S. 65-67
The Council of Trent. The canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of
Trent Ed. J. Waterworth. London, 1848. 119 p.
[Tudeschis N. de]. Consilia, Quaestiones et Tractatus Panormitani. S. l., 1539. 161 с.
[Turrecremata Johannes de]. Tractatus notabilis de potestate Papae et concilij generalis.
Coloniae, 1480. 46 л.
[Turrianus F.] De hierarchicis Ordinationibus ministrorum Ecclesiae Catholicae, adversus
schismaticas vocations Ministrorum et Superintendentium. Dilingae, 1569. 208 c.
[Turrianus F.] Francisci Turriani Societatis Jesu, adversus Magdeburgenses Centuriatores
Pro Canonibus Apostolorum et Epistolis Decretalibus Pontificium Apostolicorum, libri quinque.
Florentiae, 1572 (sed Coloniae, apud Gervinum Calenium, 1573). 460 л.
[Turrianus F.] Pro Canonibus Apostolorum, et Epistolis Decretalibus Pontificum
Apostolicorum, adversus Magdeburgenses centuriatores, Defensio, in quinque libros digesta.
Lutetiae, 1573. 485 л.
[Vivus Valentinus L.] Lodovici Vivis Valentini opera. Basileae, Episcopius Junior, 1555.
2 vv.
Widder die vermeinte gewalt, und Primat des Babsts, zu dieser zeit, da die ganze welt
sich befleisset, den ausgetriebenen Antichrist, widderumb in den tempel Christi zu setzen,
nützlich zu lesen. Magdeburg, Chr. Rödinger d. Ä., 18 л.
Έθθιεζηαζηηθήο ἱζηνξίαο Επζεβίνπ ηνῦ Πακθίινπ ἐπηζθόπνπ θαη Σαξδὰο ηεο παιαηζίλπο
βηβιία η'. Τνπ ἀπηνῦ εἰζ ηνλ βίνο ηνῦ καθαξίνπ θνλζηαληίλνπ βαζηιέσο ιόγνη ε'. Σσθξάηηο
ζρνιαζηηθνῦ βηβιία δ'. Θενδσξίηνπ ἐπηζθόπνπ θύξνπ βηβιία ε'. Εθινγῶλ ἀπὸ ηεο
ἐθθιεζηαζηηθῆο ἰζηνξίαο ζενδώξνπ ἀλαγλώζηνπ βηβιία β'. Εξκείνπ ζσδνκέλνπ ζαιακηλίνπ
βηβιία ζ'. Επαγξίνπ ζρνιαζηηθνῦ ἐθθιεζηαζηηθῆο ἰζηνξίαο βηβιία ο'. Lutetiae Parisiorum 1544.
353 л.
Список использованной литературы
Бицилли П. М. Падение римской империи. Одесса, 1919. 95 с.
Бицилли П. М. Избранные труды по средневековой истории: Россия и Запад.
Москва, Языки славянских культур, 2006. 808 с.
Бобкова М. С. "Historia Pragmata". Формирование исторического сознания
новоевропейского общества. М., РАН, 2010. 526 с.
Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Т. 36. СПб, 1902. 918 cc.
Вайнштейн О. Л. Историография Средних веков в связи с развитием исторической
мысли от начала Средних веков до наших дней. М.-Л., 1940. 376 с.
457
Ващева И. Ю. Евсевий Кесарийский и становление раннесредневекового
историзма. СПб, 2006. 271 с.
Доронин А. В. Историк и его миф. Иоганн Авентин (1477-1534). М., 2007. 256 с.
Егоров Д. Н. История средних веков: Историография и источниковедение. М.,
1913. Вып. 1-2
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., Новое литературное
обозрение, 2000. 524 с.
Йейтс Ф. Искусство памяти. СПб, Университетская книга, 1997. 479 с.
Иннокентий еп. Пензенский. Начертание церковной истории. 7-е изд. М., 1849. 667
с.
Косминский Е. А. Историография Средних веков. V в. – середина XIX в. Лекции.
М., Изд-во МГУ, 1963. 430 с.
Культура Возрождения. Энциклопедия. Т. 1-2, М., РОССПЭН. 2007. 863 с.
Лебедев А. П. Церковная историография в главных ее представителях с IV до XX в.
СПб, Алетейя, 2001 (3-е изд.). 474 с.
Левен В. Г. Исторические взгляды Себастьяна Франка// Средние века. В. 6, М.,
1955. С. 268-294
Немировский А. И. У истоков исторической мысли. Воронеж, изд-во Воронежского
университета, 1979. 212 с.
Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола 1555-1648. СПб,
«Гуманитарная Академия», 2002. 380 с.
Рейсбрук Ян ван. Одеяние духовного брака. Москва: Орфей: Мусагет, 1910 – 272,
VIII с.
Римские историки IV века. Москва, РОССПЭН, 1997. 379 с.
Фойгт Г. Возрождение классической древности, или Первый век гуманизма. В 2 тт.
М., К. Т. Солдатенков, 1884-1885. 455+540 с.
Шартье Р. Письменная культура и общество. М., Новое Издательство, 2006. 270 с.
Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. СПб., 2006. 350 с.
A Cesare Baronio. Scritti vari. Sora, 1963. 450 c.
Adam M. Vitae Germanorum Theologorum qui superiori seculo Ecclesiam Christi ...
propagarunt ... - Frankfurt : Jonas Rosa; Heidelberg: Johannes Georgius Geyder, Acad.
Typogr., 1620. 880 с.
Akkerman F., Huisman G. C., Vanderjagt A. J. (eds.). Wessel Gansfort (1419-1489) and
the Northern Humanism. Leiden, New York, Cologne, 1993. 210 с.
Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 1875-1912. In 56 Bd.
458
Backus I. (ed.) The Reception of the Church Fathers in the West from the Carolingians to
the Maurists. V. 1-2, Brill, Boston-Leiden, 2001. 1078 с.
Backus I. Historical Method and Confessional Identity in the Era of the Reformation
(1378-1615). Brill, Leiden-Boston, 2003. 416 с.
Barnes H. E. A History of Historical Writing. University of Oklahoma press, 1937. 434 с.
Baronio e le sue fonti. Atti del Convegno internazionale di studi. Sora 10-13 ottobre
2007. Sora, 2009. 962 с.
Baronio storico e la Controriforma. Atti del Convegno internazionale di studi, Sora, 6-10
ott. 1979. A cura di R. De Maio, L. Gulia, A. Mazzacane. Sora, 1982. 958 с.
Baumgarten H. Über Sleidans Leben und Briefwechsel. Strassburg, Trübner, 1878. 118 c.
Baur F. Ch. Die Epochen der kirchlichen Geschichtschreibung. Tübingen, 1852. 310 c.
Bellarmino e la Controriforma. Atti del Simposio internazionale di studi sotto l'Alto
Patronato del Presidente della Repubblica. Sora, 15-18 ottobre 1986. A cura di R. DeMaio, A.
Borromeo, L. Gulia, G. Lutz, A. Mazzacane. Sora, 1990. 1016 c.
Bellini E. Agostino Mascardi tra “ars poetica” e “ars historica”. Milano, 2002
Benrath G. A. Kirchliche Opposition, kirchentreue Frömmigkeit und Humanismus. In:
Ökumenische Kirchengeschichte. 2. Mittelalter und Reformation. Mainz, 1993.
Benzing J. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet.
Wiesbaden, 1982. 565 c.
Bibl V. Der Briefwechsel zwischen Flacius und Nidbruck. In: Jahrbuch der Gesellschaft
für die Geschichte des Protestantismus in Österreich. Wien. XVII. Jahrgang (1896), S. 1-24,
XVIII. Jahrgang (1897), S. 201-238; XIX. Jahrgang (1898), S. 96-110; XX. Jahrgang (1899), S.
83-116
Biografisch-bibliografisches Kirchenlexikon. Bautz F. W. Hamm, Verl. Traugott Bautz,
1975Bollbuck H. Testimony of true faith and the ruler’s mission: the middle ages in the
Magdeburg Centuries and the Melanchton school. In: Archiv für Reformationsgeschichte, Bd.
101 (2010), S. 238-262
Bollbuck H. Wahrheitszeugnis, Gottes Auftrag und Zeitkritik. Die Kirchengeschichte des
Magdeburger Zenturien und ihre Arbeitstechniken. Wiesbaden: Harassowitz, 2014. 821 с.
Braunsberger O. Beati Petri Canisii epistulae et acta. 8 vv., Freiburg, 1898-1905.
Caballero F. Vida del illustrissimo sr. d. fray Melchor Cano del orden del Santo
Domingo. Madrid, 1871. 640 c.
Calenzio G. La vita e gli scritti del Cardinale Cesare Baronio della Congregazione
dell’Oratorio. Roma, Tipografia Vaticana, 1907. 931 c.
Cantimori D. Umanesimo e religione nel Rinascimento. Torino, 1975. 309 c.
459
Catalogus und Centurien. Interdisziplinäre Studien zu Matthias Flacius und den
Magdeburger Centurien. Mentzel-Reuters A., Hartmann M. (Hrsg.). Mohr Siebeck, Tübingen,
2008. 249 c.
Christian Egenolff 1502-1555. Ein Frankfurter Meister des frühen Buchdrucks aus
Hadamar. Limburg, Glaukos, 2002. 100 c.
Coote L. A. Prophecy and public affairs in later medieval England. Oxford, 2000. 301 c.
Cotroneo G. I trattatisti dell’”ars historica”. Napoli, 1971. 481 c.
(The) Council of Trent. The canons and decrees of the sacred and oecumenical Council of
Trent Ed. J. Waterworth. London, 1848. 119 p.
De Kroon M. We believe in God and in Christ. Not in the Church. The Influence of
Wessel Gansfort on Martin Bucer. Louisville (Kentucky), Westminster John Knox Press, 2009.
128 c.
Dictionnaire de Théologie Catholique. 15 tt. Paris, Letouzey, 1899-1972.
Die Magdeburger Centurien. Dößel, Janos
Kirchengeschichtsschreibung des Flacius Illyricus. 276 c.
Stekovics,
Die “Magdeburger Centurien”
Geschichtsforschung. München, 2005. 28 c.
Anfänge
und
die
2007.
der
Bd.
1.
Die
quellenbezogenen
Diener R. E. Johann Wigand (1523-1587). In: Shapers of religious traditions in Germany,
Switzerland, and Poland, 1560-1600. Jill Raitt (ed.), New Haven/London, 1981, pp. 19-38
Diener R. E. The Magdeburg Centuries. A Bibliothecal and Historiographical Analysis.
Diss. theol. Harvard, 1978.
Dingel I. Flacius als Schüler Luthers und Melanchthons. In: Graf G. et al. (eds.). Vestigia
Pietatis. Studien zur Geschichte der Frömmigkeit in Thüringen und Sachsen. Festschrift für Ernst
Koch. Leipzig, Verlagsanstalt, 2000, S. 77-93
Duch A. Eine verlorene Handschrift der Schriften Bernos von Reichenau in den
Magdeburger Centurien. In: Zeitschrift für Kirchengeschichte, LIII. Band, (1934), S. 417-435
Edwards A. S. G., Meale C. V. The Marketing of Printed Books in Late Medieval
England. In: The Library. Vol. 15 (1992), N. 2, P. 95-124
Enciclopedia Cattolica. 12 vv., Firenze, G. Sansoni, 1948-54.
Evangelisches Kirchenlexikon. Kritisch-theologisches
Göttingen, Vanderhoek, Ruprecht, 1956-1988.
Handwoerterbuch.
4
vv.,
Firmin-Didot A. Alde Manuce et l’Hellénisme à Venise. Paris, 1875. 755 с.
Freeman E. A. Historical Essays. 1st series. 5th ed. London-New York, 1896. 476 с.
[Freund S.] Laktanz. Divinae institutiones. Buch 7 "De beata vita". Einleitung, Text,
Übersetzung und Kommentar von Stefan Freund. Berlin, de Gruyter, 2009. 707 c.
Fueter E. Geschichte der neueren Historiographie. München, 1911. 670 c.
Fueter E. Storia della storiografia moderna. Milano, Napoli, Ricciardi, 1970. 895 c.
460
Genette G. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches. Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1989. 402c.
Genette G. Seuils. Paris, Seuil, 1987. 389 c.
Giaxich P. Vita di Girolamo Muzio Giustinopolitano. Trieste, 1847. 62 c.
Gortan V., Vratović V. Basic Characteristics of Croatian Latinity. In: Humanistica
Lovaniensis, XX (1971). C. 26-42.
Hartmann M. Humanismus und Kirchenkritik. Matthias Flacius Illyricus als Erforscher
des Mittelalters. Stuttgart, Jan Thorbecke Verlag, 2001. 336 c.
Hartmann M., Mentzel-Reuters A. Die “Magdeburger Centurien” und die Anfänge der
quellenbezogenen Geschichtsforschung. München, Monumenta Germaniae Historica, 2005. 28 c.
Hay D. Annalists and Historians. Western Historiography from the VIIIth to the XVIIIth
Century. London, Methuen, 1977. 215 c.
Heal B. The Cult of the Virgin Mary in Early Modern Germany. Protestant and Catholic
Piety, 1500-1648. Cambridge, University Press, 2007. 338 c.
Heinemann Otto von. Die Handschriften der herzoglischen Bibliothek zu Wolfenbüttel.
Wolfenbüttel, 1890. 320 c.
Hillerbrand H. J. (ed.). The Oxford Encyclopedia of the Reformation. 4 v. New York,
Oxford, 1996.
Ilić L. Theologian of Sin and Grace. The Process of Radicalization in the Theology of
Matthias Flacius Illyricus. Göttingen-Bristol, CT, USA: Vandenhoek & Ruprecht, 2014. 304 c.
Jedin H. Geschichte des Konzils von Trient. Bd. 1-4 (5 Vol.). Freiburg, Herder, 1951-75
Jedin H. (hrsg.) Handbuch der Kirchengeschichte. 6 Bd. Freiburg, Herder, 1962-1973
Jedin H. Il cardinale Cesare Baronio, l’inizio della storiografia ecclesiastica cattolica nel
sedicesimo secolo. Brescia, Morcelliana, 1982. 87 c.
Jedin
H. Kardinal
Caesar
Baronius.
Der
Anfang der katholischen
Kirchengeschichtsschreibung im 16. Jahrhundert. Münster, Aschendorff, 1978. 63 c.
Jedin H. Kirche des Glaubens, Kirche der Geschichte. Bd. 1-2, Herder, Freiburg-BaselWien 1966.
Jedin H. Kirchengeschichte als Heilsgeschichte? In: Saeculum 5 (1954). S. 119-128.
Jedin H. Zur Entwicklung des Kirchenbegriffs im 16. Jahrhundert. In: Relazioni del X
Congresso internazionale di Scienze Storiche. Roma, 4-11 sett. 1955. Bd. IV, Roma, 1955, pp.
59-73.
Kataloge der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel. Bd. 5 Die augusteischen
Handschriften beschrieben von Otto von Heinemann. Frankfurt am Main, 1966. 443 c.
Kaufmann T. Das Ende der Reformation. Magdeburgs „Herrgotts Kanzlei“ (15481551/2). Tübingen, 2003. 662 c.
461
Keute H. Reformation und Geschichte. Kaspar Hedio als Historiograph. Göttingen, 1980.
423 c.
Köppe T. Die Magdeburger Ulrichskirche. Geschichte. Gegenwart. Zukunft. Imhof,
Petersberg, 2011. 208 c.
Kröss A. Kaiser Ferdinand I und seine Reformationsvorschläge auf dem Konzil von
Trient bis zum Schluss der Theologenkonferenz in Innsbruck (18.01.1562-5.06.1563). Zeitschrift
für Theologie und Kirche, Bd. 13 (1903), S. 455-490, 621-651
La Storia. I grandi problemi dal Medioevo all’Età Contemporanea. A cura di N.
Tranfaglia e M. Firpo. Vol. 4. T. 2. Torino, 1993. 882 c.
Lauchert F. Die italienischen litterarischen Gegner Luthers. Freiburg, 1912. 714 c.
Libby L. J. Jr. Venetian History and Political Thought after 1509. In: Studies in
Renaissance XX. New York, Renaissance society of America, 1973. C. 198-216.
Marcocchi M. La Riforma cattolica. Documenti e testimonianze. 2 voll., Brescia,
Morcelliana. 1967. 589+414 с.
Massner J. Kirchliche Überlieferung und Autorität im Flaciuskreis: Studien zu den
Magdeburger Zenturien. Berlin, Lutherisches Verl.-Haus, 1964. 110 с.
McQuaig W. Carlo Sigonio: The changing World of the Late Renaissance. Princeton, NJ.
Princeton University Press, 1989. 380 c.
Meinhold P. Geschichte der kirchlichen Historiographie. Freiburg/München, 1967. 2 Bd.
534+630 c.
Mirković M. Flacius. Zagreb, 1938. 160 c.
Mirković M. Matija Vlačić. Beograd, 1957. 238 c.
Mirković M. Matija Vlačić-Ilirik. Zagreb, 1960. 562 c.
Momigliano A. Studies in Historiography. London, 1966. 263 c.
Moroni G. Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni
specialmente intorno ai principali santi, beati, martiri, padri, ai sommi pontefici, cardinali e più
celebri scrittori ecclesiastici, ai varii gradi della gerarchia della chiesa cettolica, alle città
patriarcali, arcivescovili e vescovili, agli scismi, alle eresie, ai concilii, alle feste più solenni, ai
riti, alle ceremonie sacre, alle cappelle papali, cardinalizie e prelatizie, agli ordini religiosi,
militari, equestri ed ospitalieri, non che alla corte e curia romana ed alla famiglia pontificia, ec.
ec. ec. 103 vv. Venezia, 1840-1861.
Mostra per il IV Centenario della nascita del Card. Cesare Baronio. 1538-1938. Roma,
1938. 24 c.
Müller J.-D. (Ed.) Sebastian Franck (1499-1542). Wiesbaden, Harassowitz, 1993. 326 c.
Nacinovich E. Flacio: studio biografico storico. Fiume, 1886. 67 c.
Nigg W. Die Kirchengeschichtsschreibung. Grundzüge ihrer historischen Entwicklung.
München, C. H. Beck, 1934. 271c.
462
Nunc alia tempora, alii mores. Storici e storia in età posttridentina. Atti del convegno
internazionale Torino, 24-27 settembre 2003. A cura di M. Firpo. Firenze, 2005. 587 c.
Oberman H. A. Forerunners of the Reformation: the shape of late medieval thought. New
York, Holt, 1966. 334 c.
Olson O. K. Mattias Flacius and the Survival of Luther’s Reform. Wiesbaden, 2002. 430
c.
Onken H. Sebastian Franck als Historiker//Historisch-politische Aufsätze und Reden.
München-Berlin, 1914, с. 180-196.
Orella y Unzue J. L. de. Respuestas Catolicas a las Centurias de Magdeburgo (15591588). Fundacion universitaria española, Madrid, 1976. 637 с.
Orlando C. Onofrio Panvinio. Palermo, 1883. 45 с.
Pastor L. von. Storia dei papi. 16 vv., Roma, Desclée, 1910-1952.
Paulus N. Dr. Konrad Braun. Ein katholischer Rechtsgelehrter des 16. Jahrhunderts. In:
Historischer Jahrbuch, 14 (1893), S. 517-549.
Paulus N. Michael Buchinger. Ein Schriftsteller und Prediger aus der Reformationszeit.
Der Katholik 2 (1892), S. 203-221
Paulus U. Michael Buchinger, ein Colmarer Schriftsteller une Prediger des sechzehnten
Jahrhunderts. Archiv für elsässische Kirchengeschichte 5 (1930), S. 199-223
Per Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte. Roma, Athenaeum,
1911. 663 c.
Perini D. M. Onofrio Panvinio e le sue opere. Roma, 1899. 304 c.
Pfleger L. Wilhelm Eisengrein, ein Gegner des Flacius Illyricus. In: Historisches
Jahrbuch 25 (1904), S. 774-792
Pohlig M. Zwischen Gelehrsamkeit und konfessioneller Identitätsstiftung. Lutherische
Kirchen- und Universalgeschichtsschreibung 1546-1617. Tübingen, Mohr Siebeck, 2007. 589 c.
Polman P. L’Élément Historique dans la Controverse religieuse du XVIe siècle.
Gembloux, J. Duculot, 1932. 580 c.
Preger W. Mattias Flacuis Illyricus und seine Zeit. Bdd. 1-2. Erlangen, 1859-1861.
436+584 с.
Pullapilly C. K. Caesar Baronius Counter-Reformation Historian. University of Notre
Dame Press, Notre Dame (Indiana), 1975. 222 c.
Quétif J., Echard J. (eds) Scriptores Ordinis Praedicatorum. 2 vv. Lutetiae, 1719-21
Radrizzani Goñi J. F. Papa y obispos en la potestad de jurisdiccion segun el pensamento
de Francisco de Vitoria O. P. Roma, 1967. 286 c.
Reske Ch. Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet: auf
der Grundlage des gleichnamigen Werkes von Josef Benzing. Wiesbaden, Harassowitz, 2007.
1090 c.
463
Ritter J. B. Eigentliche un umständige Beschreibung Des Lebens, Handels und Wandels,
der Streiten und Schrifften, wie auch endlich des Todes M. Mat. Flacii Illyrici, Ehemals
berühmten und sehr gelährten Theologi in Teutschland: aus theils bekannten, theils bißher
unbekannten Uhrkunden, Schrifften und Brieffen, anderer und seiner selbst. Zur Beleuchtung der
Kirchen-Historie Des XVI. Seculi. Verfertiget, auch auff verschedener Begehren zum Druck
überlassen. Franckfurth am Mayn, 1723. 292 c.
Ritter J. B. M. Matthiae Flacci Illyrici, ehemals berühmten und gelehrten Theologi in
Theutschland, Leben und Tod. Aus theils bekannt-theils unbekannten Urkunden, Schrifften und
Brieffen, anderer und seiner selbst; zur Erläuterung der Kirchen-Historie des XVI. Seculi. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Franckfurth/Leipzig, Ziegler, 1725. 210 с.
Roncalli A. Il Cardinale Cesare Baronio. Roma, 1961. 63 c.
Rutter R. William Caxton and Literary Patronage. In: Studies in Philology. Vol.
LXXXIV (1987), n. 4, P. 440-470.
Ryan E. A. The historical Scholarship of Saint Bellarmine. New York, Fordham, 1936.
226 c.
Sacrosanctum Concilium Tridentinum, additis declarationibus Cardinalium Concilii
Interpretum… Augustae Vindelicorum, Matth. Rieger et filiorum. 1781. 895 с.
Sagittarius C. Introductio in historiam ecclesiasticam et singulas eius partes, sive notitia
scriptorium veterum atque recentium qui… historiam illustrant. Jena, Cröker, 1694. 1181 c.
Sarpi P. Istoria del Concilio Tridentino. Torino, Einaudi, 1974. 608 с.
Scheible H. Der Catalogus Testium Veritatis. Flacius als Schüler Melanchthons. In:
Blätter für pfälzische Kirchengeschichte und religiöse Volkskunde 63/30 (1996), S. 343-357
Scheible H. Der Plan der Magdeburger
Reformationsgeschichte. Diss. Heidelberg, 1960. 223 c.
Zenturien
und
ihre
ungedruckte
Scheible H. Die Entstehung der Magdeburger Zenturien. Ein Beitrag zur Geschichte der
Historiographischen Methode. Gütersloh, 1966. 78 с.
Schottenloher K. Buchdrucker als neuer Berufsstand des fünfzehnten und sechzehnten
Jahrhunderts. Mainz, 1935. 36 c.
Schottenloher K. Das alte Buch. Berlin, 1921. 467 c.
Schottenloher K. Die Widmungsvorrede im Buch des 16. Jahrhunderts. Aschendofr,
Münster, 1953. 274 c.
Schottenloher K. Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser dutch das gedruckte
Tagesschrifttum. 1 Bd. München, Klinkhardt und Bierman, 1985. 496 c.
Schottenloher K. Handschriftenschätze zu Regensburg im Dienste der Zenturiatoren
(1554-1562). In: Zentralblatt für Bibliothekswesen. XXXIV. Jahrgang (1917), S. 67-82
Schulte J. W. Beiträge zur Entstehungsgeschichte des Magdeburger Centurien. In:
Bericht der Philomathie in Neisse, Bd. 19, 1874-1877, S.50-154
Sillem C. H. W. Briefsammlung des Hamburger Superintendenten Joachim Westphal. 2
vv., Hamburg, 1903.
464
Smith P. The Age of the Reformation. New York, 1920. 861 c.
Sommervogel C. Bibliothèque de la Compagnie de Jésus. 10 vv. Brussels - Paris, 18901902.
Sperna Weiland J., Frijhoff W. Th. M. Erasmus of Rotterdam: The Man and the Scholar.
Leiden, 1988.
Stäudlin C. F. Geschichte und Literatur der Kirchengeschichte. J. T. Hemsen (Hrg.),
Hannover, Verl. der Hahnschen Hofbuchhandlung, 1827. 376 c.
Steinmann M. Aus dem Briefwechsel des Basler Buchdruckers Johannes Oporinus. In:
Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde. 69 (1969), S. 103-203
Stupperich R. Der unbekannte Melanchton: Wirken und Denken des Praeceptor
Germaniae in neuer Sicht. Stuttgart, 1961. 244 c.
Tiraboschi G. Storia della letteratura italiana. V. VII, Milano, 1824. 652 c.
Touron A. Histoire des hommes illustres de l’ordre de S. Dominique. Vol. IV, Paris,
1747. 872 c.
Ulenberg K. Geschichte der lutherischen Reformatoren. Bd. 2, Mainz, 1837. 484 c.
Venard M. (ed.). Histoire du christianisme des origines à nos jours. Tome VIII: le temps
des confessions (1530-1620/30). Paris, 1992. 1236 c.
Verheus S. L. Zeugnis und Gericht: kirchengeschichtliche Betrachtungen bei Sebastian
Franck und Matthias Flacius. Nieuwkoop, 1971. 121 c.
Weigelt H. Sebastian Franck und die lutherische Reformation. Die Reformation im
Spiegel des Werkes Sebastian Francks/ Müller J.-D. (Ed.) Sebastian Franck (1499-1542).
Wiesbaden, 1993 S. 39-52.
Weigelt H. Sebastian Franck und die lutherische Reformation. Gütersloh, 1972. 84 c.
Weismann Ch. E. Introductio in memorabilia ecclesiastica historiae sacrae Novi
Testamenti. Stuttgardiae, 1718-1719. 1140+1340 c.
Werner K. Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christlichen
Theologie. Bd. IV. Schaffhausen, 1865. 780 c.
Wichelaus M. Kirchengeschichtsschreibung und Soziologie im neunzehnten Jahrhundert
und bei Ernst Troeltsch. Heidelberg, 1965. 530 с.
Zen S. Baronio storico. Controriforma e crisi del metodo umanistico. Napoli, 1994. 451 c.
465
Список сокращений
AEM
Annales ecclesiastici auctore Caesare Baronio sorano ex Congregatione Oratorii S. R. E.
Presbytero... Moguntiae, 1601-1608 (12 vv.)
AER
(Baronius C.) Annales Ecclesiastici. Romae, 1588-1607 (12 vv.)
AET
Caesaris S. R. E. Card. Baronii, Od. Raynaldi et Jac. Laderchii Congregationis Oratorii
Presbyterorum Annales ecclesiastici deuo excusi et ad nostra usque tempora perducti ab
Augustino Theiner. Parisiis-Bruxellis, 1864-1883 (37 vv.)
Autores 1535…
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesariensis libri novem, Ruffino
interprete. Ruffini presbyteri Aquileiensis, libri duo. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi,
Sozomeno, et Socrate Constantinopolitano libri duodecim, versi ab Epiphanio Scholastico,
adbreviati per Cassiodorum Senatorem: unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Omnia
recognita ad antiqua exemplaria Latina, per Beatum Rhenanum. Praeterea non ante excusa
Nicephori ecclesiastica historia, incerto interprete, Victoris episcopi libri III De persecutione
Vandalica. Theodoriti Libri V graece, ut sunt ab autore conscripti. Basileae, Froben, 1535
Beschreibung…
(Egenolf Ch.) Chronica Beschreibung und gemeyne anzeyge Vonn aller Wellt
herkommen Fürnamen Lannden Stande Eygenschafften Historien wesen manier sitten an und
abgang. Auss den glaubwirdigsten Historie On all Glose und Zusatz Nach Historischer Warheit
beschriben. Franckenfort am Meyn, Egenolff, 1535.
Camp 1554
(Th. Campegii) De coelibatu sacerdotum non abrogando. Venetiae, 1554.
Camp 1555
Campegius Th. De Auctoritate, et Potestate Romani Pontificis, et alia opuscula. Venetiis,
1555
466
Camp 1561
Campegius Th. De auctoritate sacrorum Conciliorum. Venetiae, 1561
Chronica...
(Hedio K.) Chronica, das ist Warhafftige Beschreibünge Aller alten Christlichen Kirchen.
Historia Ecclesiastica Eusebii Pamphili Caesariensis xj. Bücher. Historia Ecclesiastica Tripartita
Sozomeni Socratis und Theodoreti xij. Bücher. Historia Ecclesiastica sampt andern treffenlichen
Geschiechten die zuvor in Teütscher sprach wenig gelesen sind auch vij. Bücher. Von des zeit an
da die History Ecclesiastica Tripartita auffhöret das ist von der Jarzal an CCCC. nach Christi
geburt biß auff das jar M.D.xlv. Basileae, 1545.
De Caes.
Nervae et Traiani, atque Adriani Caesarum vitae ex Dione, Georgio Merula interprete.
Aelius Spartianus. Iulius Capitolinus. Lampridius. Flavius Vopiscus. Trebellius Pollio. Vulcatius
Gallicanus. Ab Ioanne Baptista Egnatio Veneto diligentissime castigati. Heliogabali principis ad
meretrices elegantissima oratio. Eiusdem Io. Baptistae Egnatii de Caesaribus libri tres a
Dictatore Caesare ad Constantinum Palaeologum, hinc a Carolo Magno ad Maximilianum
Caesarem. Eiusdem in Spartiani, Lampridiique vitas, et reliquorum annotationes. Aristidis
Smyrnaei oratio de laudibus urbis Romae a Scipione Carteromacho in latinum versa. In extrema
operis parte addita Conflagratio Vesevimontis ex Dione, Georgio Merula interprete. (Venetiae),
Aldus Manutius, 1519.
De locis...
Cano M., De locis theologicis (ed. Belda Plans J.). Madrid, 2006.
EH
Ecclesiastica Historia, integram ecclesiae Christi ideam quantum ad locum,
propagationem, persecutionem, tranquillitatem, doctrinam, haereses, ceremonias, gubernationem,
schismata, synodos, personas, miracula, martyria, religiones extra ecclesiam et statum Imperii
politicum attinet, secundum singulas Centurias, perspicuo ordine complectens: singulari
diligentia et fide ex vetustissimis et optimis historicis, patribus et aliis scriptoribus congesta per
aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. 13 vv. Basileae, Oporinus, 1559-1574.
HAB
Архив Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel, BRD.
MC 1
467
Die Magdeburger Centurien. Dößel, Janos
Kirchengeschichtsschreibung des Flacius Illyricus.
Stekovics,
2007.
Bd.
1.
Die
Muzio I
Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano Libro Primo. Nel quale si contengono le
operationi, et i martirij de’ beati Apostoli, et di altri Santi, e Sante di Dio: insieme con un
Summario della dottrina evangelica, di dottori antichi, et di Romani Pontefici dell’ascension del
Signor in Cielo infino alla morte del sesto successor di S. Pietro. Venetia, Gio. Andrea
Valvassori detto Guadagnino,1570.
Muzio II
Della Historia Sacra del Mutio Justinopolitano Libro secundo. Nel quale dalla creatione
di Sixto primo infino alla morte del primo Urbano, che dopo S. Pietro fu il papa decimo settimo,
si recitano diversi martirij di Santi et di Sante di Dio; dottrine di Scrittori, che furono in quella
età; et decreti di dieci Santi Pontefici. Venetia, Gio. Andrea Valvassori detto Guadagnino,1570.
Steinhöwel…
(Steinhöwel H.) Tütsche Cronica von anfang der welt vncz vff keiser fridrich. Ulm, 1473.
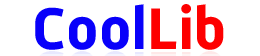
Последние комментарии
3 часов 44 минут назад
17 часов 38 минут назад
19 часов 11 минут назад
23 часов 4 минут назад
23 часов 9 минут назад
1 день 4 часов назад